Страница:
Если читателю не случилось провести детство и юность в пыльном уездном городке N, а затем приехать оттуда в какую-нибудь столицу, ему не понять, какие чувства охватили эфестов. Их смятение объяснялось двумя причинами: во-первых, на них никто не обращал внимания, а во-вторых, им хотелось обратить внимание сразу на все.
Люди сновали во всех направлениях одновременно, и невозможно было различить в этом хаотическом мельтешении хоть какой-нибудь порядок. Оррант скоро приметил, что никто из камаргитов не бегал туда-сюда бесцельно, хотя поначалу так и могло показаться… нет, просто у них было много разных дел. Для эфестов это было нехарактерно – они занимались чем-нибудь одним и, лишь завершив одну задачу, принимались за другую. Здесь же все происходило сразу, так, словно другого шанса закончить начатое не представится. В небе лениво проплывали существа с гигантскими разноцветными крыльями, как у стрекоз, – их поведение было понятнее всего эфестам, разве что воины Мирны не умели находиться в воздухе, а стрекозы умели и не удивлялись своему умению.
– Что же мы будем делать? – негромко спросил один потрясенный воин. Никто не отреагировал на звук незнакомой речи, кто-то нечаянно толкнул Орранта и, пробормотав что-то под нос, деловито побежал дальше.
– Историю, – ответил Оррант.
Он хотел сказать еще что-то, но передумал и замолчал.
II. Камарг: снести голову
1. Энрике Валенса на том берегу
2. Вступление в Камарг: Nessun dorma[20]
Населенные пункты Белой Земли были обнесены стенами, часто и не в один ряд (самым замечательным исключением из этого правила стал Эгнан, столица эфестов). Вот и сейчас мы бы и рады сказать, что перед нашим взором – вернее, перед взором всадника, раскинулся город, но радоваться рано. Перед нами стена, за нею еще одна, а прибыли мы к ним по зимней дороге (сейчас на дворе сезон, называемый «снег»[22]), в этой части точно так же обнесенной стенами, – сравнить эту картину можно с рукавом, опущенным в карман. Путнику по прибытии деться некуда, разве что развернуться и ехать назад, но по давней традиции не это является целью движущегося из пункта А в пункт Б. В нашем же случае в пункт К: за высокой стеной, где через каждую стадию установлены в башнях титанические шишки со стеклянными шарами наверху, находится величайший полис материка Ур – город-государство Камарг, названный Тысячеруким, ведь Камарг – метрополия тысячи колоний, одна из которых – Рэтлскар.
Всадник, одетый с ног до головы в черное и укрытый от света звезд обширным капюшоном тяжелого плаща, повел головой влево и вправо, озирая стену города, в несколько раз превосходившую по высоте стены, обрамлявшие дорогу. Богатство, неприступность и угрозу увидел он, увидел, как сияние звезд отражается в стеклянных шарах, – и ни одна крыша не выглядывает из-за стен. Только торчит мрачной дымовой трубой, упирается в небеса цилиндрическая башня – темно-серая в ночи, но днем (это всадник знал по прошлым визитам) видно, что кирпичи в ней из тяжкого черно-красного теста, скрепленные яичным желтком и ласточкиной слюной. Раствор этот, как и башня, был большим камаргским секретом. Всадник уважительно кивнул, протянул руку и стукнул рукоятью плети в бронзовые ворота, на которых сейчас было изображено злое лицо, окруженное подсолнухообразными лепестками. Днем лицо – если приходил его черед показываться на воротах[23] – горело алым, ведь то был образ Красного Онэргапа, которому поклонялись камаргиты[24]. Нам не видно лица всадника, и мы не знаем, что он пробормотал, глядя на красный подсолнух, – поприветствовал его, усмехнулся, нахмурился или просто задержал взгляд чуть дольше, чем сделал бы человек, видевший его не впервые.
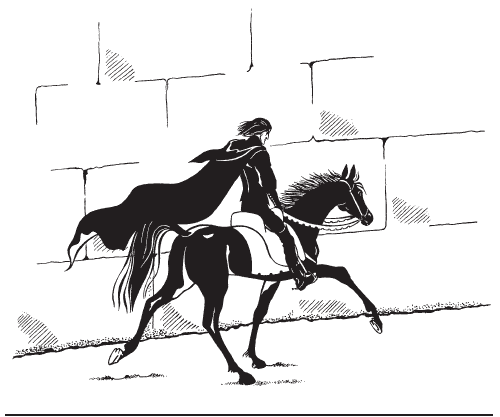
Ворота не спешили реагировать на стук, но когда все-таки решились, одна Онэргапова глазница со скрежетом отверзлась, и в бронзовой дыре тускло высветилось мутное бельмо. Бельмо молчало: ни «Кто?», ни «Закрыто», ни «Покажи лицо» – ничто не донеслось с той стороны ворот. Молчал и всадник. Через несколько минут изучения капюшона, под которым так и укрывался от ночной прохлады пришелец, обладатель бельма что-то решил и заскрежетал рычагом, затем еще одним. Раздалась серия щелчков, как будто кто-то гигантскими железными пальцами ущипнул что-то ржавое, и огромная створка со скрипом приподнялась, открывая путь.
– Входи, гость, – проскрипел изнутри голос, смазанный не намного лучше, чем подъемный механизм ворот (что удивляло: у Камарга хватало средств на содержание парадного входа в порядке; видимо, скрипучие детали держали в хозяйстве специально, чтобы производить на пришельцев тягостное впечатление).
– Благодарю тебя, – учтиво отозвался всадник, направив огромного вороного вперед.
Обладатель бельма попятился, пропуская гостя. Всадник спешился, а ворота сами закрылись у него за спиной. Ночной гость откинул капюшон, посмотрел на привратника сквозь прорези глухой серебряной маски, а затем снял и ее. Ночное вторжение пока ненамного приблизило его к городу: он оказался в кармане между двумя впускными щитами, в своего рода привратницкой Камарга. Не миновав человека с бельмами, он не мог попасть в Камарг.
– Гильдиям, послам, колониям и знати назначено свое время прихода посреди дня, дабы сохранялся закон, – констатировал уложения бельмовладелец, – а ночью город спит и не желает, чтоб его тревожили. Тот, кто приходит ночью, всегда враг, если не докажет обратного. Для получения свободы Камарга[25] до`лжно состояться беседе.
– Что ж, пускай беседа, – легко согласился прибывший, потрепал по шее неприветливого жеребца, и тот тихо отошел к стене, где выгнул дугой упругую шею и принялся буравить взглядом стыки камней.
Договорившись, привратник и всадник направились не сквозь второй, закрытый, щит ворот, а вбок, в тело стены. Спокойствие странника свидетельствовало о том, что он не видел в камаргском законе допуска ничего предосудительного или неожиданного. Иначе и быть не могло: весь материк знал, что неприступную столицу охраняли пуще зеницы ока; в меру сил охрану Камарга копировали колонии и немногие оставшиеся независимыми города. Но что-то в этой встрече было не так. Во-первых, пришелец явился среди ночи – когда от визитеров ничего хорошего не ждут. Во-вторых, его среди этой самой ночи впустили. В-третьих, был он один, а путешествовать в одиночку на дальние расстояния даже в эти благословенные времена решались лишь эфесты, и то нечасто. В-четвертых, прибыл человек верхами, а ведь Всадников на материке уже давно не оставалось, и значит, это не мог быть Всадник. А в-пятых, странным (уже с точки зрения путешественника) было то, что обладатель двух образцовых бельм на глазах оказался женщиной… если так можно назвать согбенную старуху, обмотанную тряпьем и похожую на женщину лишь тем, что тряпье это напоминало женскую одежду, а не мужскую.
– Что ж, – нарушил молчание всадник, которому надоело, что его периодически окатывают немигающей мутью сваренные всмятку белки, – почтенная дама помогает привратникам наводить порядок? Пришла подмести полы, пока бравые защитники Камарга улеглись прикорнуть на часок-другой?
Они дошли до поворота и свернули в небольшое помещение.
– Садись, – проговорили белые бельма, указывая на скамью у стены и не реагируя на насмешку. Освещаемая всполохами жидкого пламени в очаге привратницкая не могла похвастаться другой мебелью, кроме наскоро сколоченного сиденья. Всадник отметил это обстоятельство с удивлением, но все-таки сел. Скамья жалобно хрустнула.
Привратница в несколько приемов повернулась к приезжему спиной, с явственным скрипом согнула и без того согбенную спину и принялась возиться с углями.
– Не худо бы ей обернуться… и обернуться прекрасной девой, – пробормотал всадник, прислоняясь спиной к стене и удобно вытягивая ноги. Так и не дождавшись ни продолжения «беседы», ни двойного «оборачивания», он плотнее укутался в плащ и закрыл глаза. Его поза выражала готовность перетерпеть неприятную рутину.
– Тебе надо ответить на вопросы, путник, – нарушила молчание молочноглазая старуха, не поворачивая зернистого лица и не видя, что приезжий вздрогнул, как будто его резко разбудили. – Тебе надо проявить уважение городу.
– Так задавай же свои вопросы, добрая женщина, – немного раздраженно предложил всадник, – если только уважение не заключается в том, чтоб истомить меня тут, как пирог в печи.
– По какому делу ты приехал сюда?
– Путешествую и собираю… разное.
– Ты не грабитель?
– О нет, нет. Забираю лишь причитающееся.
– Ты не убийца?
– Нет. Но пришлось и убить одного-другого.
– Ты знаешь, кто охраняет Камарг?
– Всем известно об Алой Тысяче. Доводилось слышать и о личной охране Высокого тарна, о его прославленных лучниках. Правда, ничего мне не говорили о пожилой даме со скрипучей поясницей, да и приехал я не к охранникам, сколь бы разнообразны они ни были.
– Знаешь ли ты, что за всю историю Камарг ни разу не был взят?
– Да неужто? – усмехнулся посетитель. – А медзунамский уроженец, номад Бетурубис Быстрый со своим хитроумным заклинателем камня по имени Сарти? Или прекрасноликий Гер Даэза, явившийся из Ламарры и сжегший Кемерги чуть не дотла? Впрочем, ты, наверное, не знаешь об этом: тому уж тысяча с лишним лет. Не станем вспоминать и об Эзларо по прозванию «Колесница судьбы» (Джаггернаут) – он мог бы захватить город, если б не получил того, что хотел…
– Меня зовут Бабу`шка, – непоследовательно ответила на это молочноглазая старуха так, будто это что-то объясняло.
– Бабу`шка? – переспросил всадник. – С длинным «у»? Хм… Благодарю за шутку, Гвидо, – непонятно добавил он.
– Бабушка знает о Камарге все, – с горькой обидой проговорило мамалыжное лицо. Старуха повернулась к собеседнику и, тяжко опустившись на пол около очага, стала окончательно похожа на груду старых лохмотьев. – Тебе известна история города. Это часть уважения. Зачем ты здесь?
– Осмотреться, – отвечал всадник лаконично. – Кажется, мы уже выяснили?
– Ты бывал в Камарге раньше?
– Приходилось… бывать.
– Когда?
– Давно. Тебя тогда еще здесь не было, а ворота не скрипели.
– Делал ли ты зло в свой прошлый приезд?
– Я не чинил зла Камаргу. К сожалению, не могу сказать, что Камарг ответил мне взаимностью.
– Так ты здесь для мести?
Человек в черном задумался.
– Нет, – отвечал он спустя какое-то время, – я здесь по делам, а месть – это развлечение, да еще и сомнительного характера.
На сей раз замолчала старуха. Довольно долго в каморке слышалось лишь ее сдавленное, с присвистом, сопение и треск углей в очаге. Прибывший же не только не издавал звуков, но, кажется, даже не двигался.
– Ты откровенен со мной, доктор Делламорте, – заявила наконец обладательница странного имени и вперила в гостя опаловые глаза, которые по законам офтальмологии и здравого смысла не могли видеть ни самого пришельца, ни его занятий и имен. – Это тоже часть уважения.
– Доктор? Делламорте? – переспросил тот с некоторым подозрением. – Откуда ты взяла эти странные прозвания?
– Ты едешь с Берега Смерти и несешь смерть. Да и одежда на тебе цвета смерти, – охотно пояснила Бабушка. Она облокотилась о колено, подперла длинный подбородок желтым кулаком и обкатывала несуществующим взглядом глазных яблок контуры гостя – настолько, насколько их позволял проследить плащ, сливавшийся с темнотой углов привратницкой.
– А-аа, – протянул всадник, – все ясно. Камаргиты заменили боеспособную стражу на отставную ясновидящую, – он разочарованно вздохнул. – Печально. Никогда не знаешь, какую личину в следующий раз обернет к тебе упадок некогда великого города.
Старуха расплылась в довольной улыбке: похоже, пришелец ей нравился.
– Я стою целого гарнизона, – сказала она. – А ты интересный гость, и я покажу тебе, как с самого дня Избавления охраняет великий Камарг ясновидящая Бабушка.
– Пойдем, – легко согласился «доктор Делламорте» и, не поинтересовавшись «днем Избавления», проследовал за Хароном в юбке. Вопреки ожиданиям, они двинулись не обратно в коридор, а куда-то в темный угол привратницкой, где обнаружился еще один ход.
Пройдя очередным сплетением коридоров, компаньоны остановились на развилке. Вправо тянулся проход, вырезанный как будто в горном хрустале с вкраплением драгоценных золотоносных жил, пульсирующих светом. (Разного рода прозрачные материалы, похоже, пользовались большой популярностью у камаргских строителей, использовавших всевозможные слюды и стекла в промышленных количествах.) Бабушка медлила.
– Ты ждешь от меня выбора пути? – неприятно улыбнулся всадник.
Старуха стояла пнем и молчала.
– Я не пойду в стеклянный коридор, – скучающе заявил гость. – Он очень красив, но ему подобает располагаться в холмах эфестов. А следовательно, эта ловушка из детских сказок… ведет во внешний круг города и отведена для крестьян и купцов, которым не дозволено осквернять видом своих сельских физиономий парадные ворота Камарга. И твои… м-м-м… светлые очи.
Бабушка никак не показала, что эти слова могут сдвинуть ее с места.
– Вперед, почтенная привратница, – с намеком на нетерпение пояснил гость то, что не желала понять не вполне ясно видящая. – Чем скорее мы покончим с формальностями, тем спокойнее будет твоя ночь.
И они пошли вперед по очередному темному коридору, в конце которого высокого, черного и острого всадника и покосившуюся пыльную старуху, словно выметенную из-под дивана, ожидала очередная комната.
– Посидим, ночной ворон, отдохнем теперь и здесь, – проговорила Бабушка каким-то новым тоном, вошла в проем, лишенный двери, и, угрожающе скрипнув суставами, снова опустилась на пол.
– Во имя Иоганна Хризостома[26], – воскликнул Делламорте без восклицательного знака, однако проследовал внутрь и, повинуясь приглашению, расположился на высоком табурете. Другой мебели почему-то не было в заводе и тут, разве что табурет (который тоже злобно заскрипел, стоило пришедшему опуститься на него) являл собою следующую ступень эволюции мебели после страшной скамьи в привратницкой. Бабушка тем временем, будто не довольствуясь своей слепотой, обвязала глаза тряпкой.
– Так лучше видно, – пояснила она и принялась вдохновенно молчать.
Молчал и Делламорте. Испытания, связанные с необходимостью миновать стены, чтобы оказаться внутри Камарга, он принимал стоически и теперь, уперев в поперечную перекладину табурета затянутую в ботфорт ногу, поудобнее устроился и принялся рассеянно поправлять матово блестевшие в свете очередного хилого очага заклепки на левой манжете. Он ждал.
– Вижу, ты сидишь, – начала Бабушка.
– Случается со мною и такое, – благодушно отозвался «доктор» с бесконечным терпением, не иссякающим у подобных людей, когда они решают почему-нибудь смириться и склонить гордую голову перед ходом минут.
– Ты одет по-другому, – продолжила старуха.
Люди сновали во всех направлениях одновременно, и невозможно было различить в этом хаотическом мельтешении хоть какой-нибудь порядок. Оррант скоро приметил, что никто из камаргитов не бегал туда-сюда бесцельно, хотя поначалу так и могло показаться… нет, просто у них было много разных дел. Для эфестов это было нехарактерно – они занимались чем-нибудь одним и, лишь завершив одну задачу, принимались за другую. Здесь же все происходило сразу, так, словно другого шанса закончить начатое не представится. В небе лениво проплывали существа с гигантскими разноцветными крыльями, как у стрекоз, – их поведение было понятнее всего эфестам, разве что воины Мирны не умели находиться в воздухе, а стрекозы умели и не удивлялись своему умению.
– Что же мы будем делать? – негромко спросил один потрясенный воин. Никто не отреагировал на звук незнакомой речи, кто-то нечаянно толкнул Орранта и, пробормотав что-то под нос, деловито побежал дальше.
– Историю, – ответил Оррант.
Он хотел сказать еще что-то, но передумал и замолчал.
II. Камарг: снести голову
1. Энрике Валенса на том берегу
Очень странное выражение было на этом лице. Если лицо с такими чертами могло быть счастливым, то, наверное, это было выражение счастья, но человек не двигался и не дышал, то есть был мертв, и уточнить у него насчет счастья не было никакой возможности. Старик Энрике Валенса подумал было, что ему мерещится и что виноват низкий прибрежный туман, пришедший с междузе`много моря и накрывший столь знакомую рыбаку грань между небом, водой и землей. Но он был слишком стар, опытен и знал: в прибрежном тумане мерещится не только морок – существуют там вещи слишком опасные, чтоб им позволены были четкие очертания.
Энрике подтащил лодку к камням, удовлетворенно кивнул, узнав берег (а подумал-то, что заблудился в тумане), накинул веревку на камень и пошел к мертвому. Сел возле него и, тихо мыча старинную рыбацкую о волне, буре и парусе, принялся смотреть. Руки человека были сложены крест-накрест на груди, а ладони подняты к плечам и сомкнуты, как будто он сжимал в них что-то: свиток и жезл, плеть или рукоять кинжала… Энрике загляделся, раздумывая: может ли мертвый сжимать руки или все-таки успевает расслабиться? Человек не помогал найти ответ: лицо его было совершенно безмятежным. Да, понял Энрике: не счастье то было – безмятежность.
Удивительна была и одежда мертвого. По эту сторону тумана Энрике никогда не встречал черного цвета, привычного на берегах, с которых приплывал. Здесь не было ни черных скал, ни черной земли, ни черного угля, ни черной кожи, ни черных тканей. У этого же одежда чернела, как уголь. Значит, решил рыбак, он с той стороны тумана, как и я. Да только как он сюда попал – живым или мертвым? Старик уже знал, что берега без черного цвета известны ему одному. В первый раз он приплыл сюда, увидев в море непонятное изумрудное существо, переливавшееся перламутром, оно как будто направляло его курс, призывало последовать тем же путем. Тогда-то старик не раздумывая и пошел в глубь воды. Ушел в море следом за изумрудной тенью, но в конце концов вплыл в туман и сидел в нем, пока не заболела душа, пока не взмолился: «Отпусти ты меня, демон!» И лишь тогда смог вернуться, как будто оставил духа на этом берегу, исторг из себя загадку океана.
Но видно, не до конца исторг и потому часто возвращался сюда. Правда, рыбак никогда ничего не брал здесь – боялся, и выходит, боялся не зря: это был берег смерти. Вот и черный человек был мертв, хотя и не принадлежал этим берегам. «Наверное, умер не в первый раз», – почему-то подумал старик и сам удивился. Как это – не в первый? Но иначе откуда было на его лице взяться этой… безмятежности? Старик решил посидеть рядом и подумать, так ведь принято поступать с мертвыми: сидеть, провожать их и думать. Энрике даже решил, что ему не жалко было бы отдать этому в черном свою лодку, чтоб он уплыл на ней куда-нибудь, куда понесут его волны, может, по ту сторону тумана, а может – просто в океан. «В океан смерти», – подумал старик, который всю жизнь был рыбаком. Его море было океаном смерти, и это он тоже знал.
А мертвый все лежал не шевелясь, как и положено мертвому, и Валенса решил, что умирать несколько раз могут не только трусы, потому что мертвый не был похож на труса, он был похож… Тут Валенса замешкался и, немного потоптавшись мыслями на месте, перестал думать об этом, а стал вместо этого думать о многих смертях. Так вот умирать несколько раз, наверное, когда-нибудь уже и не страшно, и не больно – постепенно привыкаешь. Только все же не ко всему, продолжал размышлять Энрике. Есть потери, к которым не привыкаешь. Он вновь посмотрел на мертвого. Что он потерял, когда оказался здесь? Кого?
Но безмятежное лицо не выражало ничего, кроме безмятежности. Будто говоря: никого я не терял, плыви себе подобру-поздорову, рыбак Энрике Валенса. Старик усмехнулся, отвернулся от лежащего (почему-то представил, как тот откроет глаза, и не захотел на это смотреть) и принялся изучать туман. «Заберу-ка я его с собой обратно, на тот берег, – думал старик. – Негоже так, молодой ведь еще, вон волосы какие черные, ни одного седого… Только слишком много на нем было ран, вот он и умер». Тут Энрике все-таки вернул взгляд на мертвого и рассмотрел его попристальнее. Но на простом и красивом черном одеянии – на коже дублета и на остальной одежде – крови не было. Старик хмыкнул.
Туман переместился, и лицо мертвого человека стало от этого как будто грустным. Безмятежность ушла, будто ровный сон сменился мыслью о необходимости… необходимости… Валенса отвернулся. Это непростой человек, вдруг понял он с уверенностью, простой бы не лежал здесь один, мертвый, скрестив руки на груди, так, как будто выпал вместе со снегом времени на этот берег, но время истаяло, а он остался. И одежда непонятная. Валенса не видел такой на современных людях. Человек был закрыт своей одеждой почти полностью, если не считать непокрытой головы. Добавить плащ с капюшоном, маску и перчатки, и получится не человек, а убийца. Кусок тьмы. Эх…
Валенса вновь повернулся, мучимый любопытством: память его хоть и привыкла удерживать в своих пределах зыбкие контуры ориентиров и береговых линий, а образ черного силуэта сохранить не смогла, и ему захотелось в последний раз взглянуть на странного мертвеца.
…Взглядом, на который он натолкнулся, можно было прокладывать горные туннели. Никакой безмятежности на лице уже не было: недавний «мертвый» сидел на берегу и разглядывал Валенсу так пристально, как будто это рыбак был в ответе за берег, за туман, за океан и за то, что вокруг нет черного цвета, кроме как в волосах незнакомца и в его одежде. Как и в какой момент он сел, Энрике не уследил. Сзади не донеслось ни звука. Не хрустнула ракушка, не прошуршал песок. Ни вдоха, ни выдоха. Дышал ли он вовсе?

Старик, кряхтя, поднялся с земли. «Жив, значит?» – подумал он, не пытаясь говорить вслух. Человек тоже встал текучим и легким движением, в котором, впрочем, ощущалась осторожность – как бывает, когда не хочешь наступить на больную ногу; только чужаку, похоже, больно было везде. Чуть резче, чем надо, дернулась правая рука и принялась проверять стальные заклепки узкой манжеты на левом запястье. Плотно сжатые бескровные губы разомкнулись и вымолвили:
– Полагаю, ты знаешь, где мы, добрый старец?
Это было утверждение. Валенса смотрел в глаза мертвого и видел время, смерть и лед.
– Издалека прибыл, выходит… – пробормотал старик. – Не знаю я. Нигде это.
Он как-то даже усмехнулся внутри себя, подумав, что, если б мог, похлопал бы мертвого по плечу. Ничего, мол, разберешься. Но и эту мысль не стал додумывать Энрике Валенса, повернулся, отвязал лодку и покинул Коста-делла-Морте.
Энрике подтащил лодку к камням, удовлетворенно кивнул, узнав берег (а подумал-то, что заблудился в тумане), накинул веревку на камень и пошел к мертвому. Сел возле него и, тихо мыча старинную рыбацкую о волне, буре и парусе, принялся смотреть. Руки человека были сложены крест-накрест на груди, а ладони подняты к плечам и сомкнуты, как будто он сжимал в них что-то: свиток и жезл, плеть или рукоять кинжала… Энрике загляделся, раздумывая: может ли мертвый сжимать руки или все-таки успевает расслабиться? Человек не помогал найти ответ: лицо его было совершенно безмятежным. Да, понял Энрике: не счастье то было – безмятежность.
Удивительна была и одежда мертвого. По эту сторону тумана Энрике никогда не встречал черного цвета, привычного на берегах, с которых приплывал. Здесь не было ни черных скал, ни черной земли, ни черного угля, ни черной кожи, ни черных тканей. У этого же одежда чернела, как уголь. Значит, решил рыбак, он с той стороны тумана, как и я. Да только как он сюда попал – живым или мертвым? Старик уже знал, что берега без черного цвета известны ему одному. В первый раз он приплыл сюда, увидев в море непонятное изумрудное существо, переливавшееся перламутром, оно как будто направляло его курс, призывало последовать тем же путем. Тогда-то старик не раздумывая и пошел в глубь воды. Ушел в море следом за изумрудной тенью, но в конце концов вплыл в туман и сидел в нем, пока не заболела душа, пока не взмолился: «Отпусти ты меня, демон!» И лишь тогда смог вернуться, как будто оставил духа на этом берегу, исторг из себя загадку океана.
Но видно, не до конца исторг и потому часто возвращался сюда. Правда, рыбак никогда ничего не брал здесь – боялся, и выходит, боялся не зря: это был берег смерти. Вот и черный человек был мертв, хотя и не принадлежал этим берегам. «Наверное, умер не в первый раз», – почему-то подумал старик и сам удивился. Как это – не в первый? Но иначе откуда было на его лице взяться этой… безмятежности? Старик решил посидеть рядом и подумать, так ведь принято поступать с мертвыми: сидеть, провожать их и думать. Энрике даже решил, что ему не жалко было бы отдать этому в черном свою лодку, чтоб он уплыл на ней куда-нибудь, куда понесут его волны, может, по ту сторону тумана, а может – просто в океан. «В океан смерти», – подумал старик, который всю жизнь был рыбаком. Его море было океаном смерти, и это он тоже знал.
А мертвый все лежал не шевелясь, как и положено мертвому, и Валенса решил, что умирать несколько раз могут не только трусы, потому что мертвый не был похож на труса, он был похож… Тут Валенса замешкался и, немного потоптавшись мыслями на месте, перестал думать об этом, а стал вместо этого думать о многих смертях. Так вот умирать несколько раз, наверное, когда-нибудь уже и не страшно, и не больно – постепенно привыкаешь. Только все же не ко всему, продолжал размышлять Энрике. Есть потери, к которым не привыкаешь. Он вновь посмотрел на мертвого. Что он потерял, когда оказался здесь? Кого?
Но безмятежное лицо не выражало ничего, кроме безмятежности. Будто говоря: никого я не терял, плыви себе подобру-поздорову, рыбак Энрике Валенса. Старик усмехнулся, отвернулся от лежащего (почему-то представил, как тот откроет глаза, и не захотел на это смотреть) и принялся изучать туман. «Заберу-ка я его с собой обратно, на тот берег, – думал старик. – Негоже так, молодой ведь еще, вон волосы какие черные, ни одного седого… Только слишком много на нем было ран, вот он и умер». Тут Энрике все-таки вернул взгляд на мертвого и рассмотрел его попристальнее. Но на простом и красивом черном одеянии – на коже дублета и на остальной одежде – крови не было. Старик хмыкнул.
Туман переместился, и лицо мертвого человека стало от этого как будто грустным. Безмятежность ушла, будто ровный сон сменился мыслью о необходимости… необходимости… Валенса отвернулся. Это непростой человек, вдруг понял он с уверенностью, простой бы не лежал здесь один, мертвый, скрестив руки на груди, так, как будто выпал вместе со снегом времени на этот берег, но время истаяло, а он остался. И одежда непонятная. Валенса не видел такой на современных людях. Человек был закрыт своей одеждой почти полностью, если не считать непокрытой головы. Добавить плащ с капюшоном, маску и перчатки, и получится не человек, а убийца. Кусок тьмы. Эх…
Валенса вновь повернулся, мучимый любопытством: память его хоть и привыкла удерживать в своих пределах зыбкие контуры ориентиров и береговых линий, а образ черного силуэта сохранить не смогла, и ему захотелось в последний раз взглянуть на странного мертвеца.
…Взглядом, на который он натолкнулся, можно было прокладывать горные туннели. Никакой безмятежности на лице уже не было: недавний «мертвый» сидел на берегу и разглядывал Валенсу так пристально, как будто это рыбак был в ответе за берег, за туман, за океан и за то, что вокруг нет черного цвета, кроме как в волосах незнакомца и в его одежде. Как и в какой момент он сел, Энрике не уследил. Сзади не донеслось ни звука. Не хрустнула ракушка, не прошуршал песок. Ни вдоха, ни выдоха. Дышал ли он вовсе?

Старик, кряхтя, поднялся с земли. «Жив, значит?» – подумал он, не пытаясь говорить вслух. Человек тоже встал текучим и легким движением, в котором, впрочем, ощущалась осторожность – как бывает, когда не хочешь наступить на больную ногу; только чужаку, похоже, больно было везде. Чуть резче, чем надо, дернулась правая рука и принялась проверять стальные заклепки узкой манжеты на левом запястье. Плотно сжатые бескровные губы разомкнулись и вымолвили:
– Полагаю, ты знаешь, где мы, добрый старец?
Это было утверждение. Валенса смотрел в глаза мертвого и видел время, смерть и лед.
– Издалека прибыл, выходит… – пробормотал старик. – Не знаю я. Нигде это.
Он как-то даже усмехнулся внутри себя, подумав, что, если б мог, похлопал бы мертвого по плечу. Ничего, мол, разберешься. Но и эту мысль не стал додумывать Энрике Валенса, повернулся, отвязал лодку и покинул Коста-делла-Морте.
2. Вступление в Камарг: Nessun dorma[20]
Yet each man kills the thing he loves,
By each let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword.[21]
The Ballad of Reading Gaol. Oscar Wilde
Населенные пункты Белой Земли были обнесены стенами, часто и не в один ряд (самым замечательным исключением из этого правила стал Эгнан, столица эфестов). Вот и сейчас мы бы и рады сказать, что перед нашим взором – вернее, перед взором всадника, раскинулся город, но радоваться рано. Перед нами стена, за нею еще одна, а прибыли мы к ним по зимней дороге (сейчас на дворе сезон, называемый «снег»[22]), в этой части точно так же обнесенной стенами, – сравнить эту картину можно с рукавом, опущенным в карман. Путнику по прибытии деться некуда, разве что развернуться и ехать назад, но по давней традиции не это является целью движущегося из пункта А в пункт Б. В нашем же случае в пункт К: за высокой стеной, где через каждую стадию установлены в башнях титанические шишки со стеклянными шарами наверху, находится величайший полис материка Ур – город-государство Камарг, названный Тысячеруким, ведь Камарг – метрополия тысячи колоний, одна из которых – Рэтлскар.
Всадник, одетый с ног до головы в черное и укрытый от света звезд обширным капюшоном тяжелого плаща, повел головой влево и вправо, озирая стену города, в несколько раз превосходившую по высоте стены, обрамлявшие дорогу. Богатство, неприступность и угрозу увидел он, увидел, как сияние звезд отражается в стеклянных шарах, – и ни одна крыша не выглядывает из-за стен. Только торчит мрачной дымовой трубой, упирается в небеса цилиндрическая башня – темно-серая в ночи, но днем (это всадник знал по прошлым визитам) видно, что кирпичи в ней из тяжкого черно-красного теста, скрепленные яичным желтком и ласточкиной слюной. Раствор этот, как и башня, был большим камаргским секретом. Всадник уважительно кивнул, протянул руку и стукнул рукоятью плети в бронзовые ворота, на которых сейчас было изображено злое лицо, окруженное подсолнухообразными лепестками. Днем лицо – если приходил его черед показываться на воротах[23] – горело алым, ведь то был образ Красного Онэргапа, которому поклонялись камаргиты[24]. Нам не видно лица всадника, и мы не знаем, что он пробормотал, глядя на красный подсолнух, – поприветствовал его, усмехнулся, нахмурился или просто задержал взгляд чуть дольше, чем сделал бы человек, видевший его не впервые.
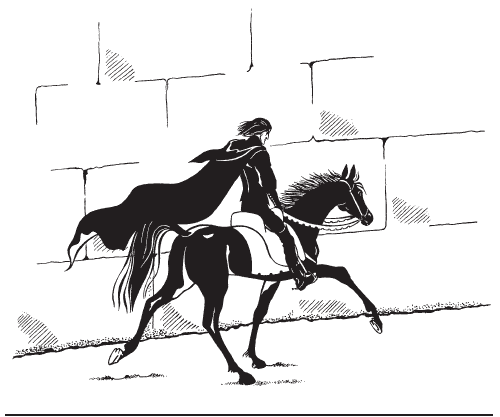
Ворота не спешили реагировать на стук, но когда все-таки решились, одна Онэргапова глазница со скрежетом отверзлась, и в бронзовой дыре тускло высветилось мутное бельмо. Бельмо молчало: ни «Кто?», ни «Закрыто», ни «Покажи лицо» – ничто не донеслось с той стороны ворот. Молчал и всадник. Через несколько минут изучения капюшона, под которым так и укрывался от ночной прохлады пришелец, обладатель бельма что-то решил и заскрежетал рычагом, затем еще одним. Раздалась серия щелчков, как будто кто-то гигантскими железными пальцами ущипнул что-то ржавое, и огромная створка со скрипом приподнялась, открывая путь.
– Входи, гость, – проскрипел изнутри голос, смазанный не намного лучше, чем подъемный механизм ворот (что удивляло: у Камарга хватало средств на содержание парадного входа в порядке; видимо, скрипучие детали держали в хозяйстве специально, чтобы производить на пришельцев тягостное впечатление).
– Благодарю тебя, – учтиво отозвался всадник, направив огромного вороного вперед.
Обладатель бельма попятился, пропуская гостя. Всадник спешился, а ворота сами закрылись у него за спиной. Ночной гость откинул капюшон, посмотрел на привратника сквозь прорези глухой серебряной маски, а затем снял и ее. Ночное вторжение пока ненамного приблизило его к городу: он оказался в кармане между двумя впускными щитами, в своего рода привратницкой Камарга. Не миновав человека с бельмами, он не мог попасть в Камарг.
– Гильдиям, послам, колониям и знати назначено свое время прихода посреди дня, дабы сохранялся закон, – констатировал уложения бельмовладелец, – а ночью город спит и не желает, чтоб его тревожили. Тот, кто приходит ночью, всегда враг, если не докажет обратного. Для получения свободы Камарга[25] до`лжно состояться беседе.
– Что ж, пускай беседа, – легко согласился прибывший, потрепал по шее неприветливого жеребца, и тот тихо отошел к стене, где выгнул дугой упругую шею и принялся буравить взглядом стыки камней.
Договорившись, привратник и всадник направились не сквозь второй, закрытый, щит ворот, а вбок, в тело стены. Спокойствие странника свидетельствовало о том, что он не видел в камаргском законе допуска ничего предосудительного или неожиданного. Иначе и быть не могло: весь материк знал, что неприступную столицу охраняли пуще зеницы ока; в меру сил охрану Камарга копировали колонии и немногие оставшиеся независимыми города. Но что-то в этой встрече было не так. Во-первых, пришелец явился среди ночи – когда от визитеров ничего хорошего не ждут. Во-вторых, его среди этой самой ночи впустили. В-третьих, был он один, а путешествовать в одиночку на дальние расстояния даже в эти благословенные времена решались лишь эфесты, и то нечасто. В-четвертых, прибыл человек верхами, а ведь Всадников на материке уже давно не оставалось, и значит, это не мог быть Всадник. А в-пятых, странным (уже с точки зрения путешественника) было то, что обладатель двух образцовых бельм на глазах оказался женщиной… если так можно назвать согбенную старуху, обмотанную тряпьем и похожую на женщину лишь тем, что тряпье это напоминало женскую одежду, а не мужскую.
– Что ж, – нарушил молчание всадник, которому надоело, что его периодически окатывают немигающей мутью сваренные всмятку белки, – почтенная дама помогает привратникам наводить порядок? Пришла подмести полы, пока бравые защитники Камарга улеглись прикорнуть на часок-другой?
Они дошли до поворота и свернули в небольшое помещение.
– Садись, – проговорили белые бельма, указывая на скамью у стены и не реагируя на насмешку. Освещаемая всполохами жидкого пламени в очаге привратницкая не могла похвастаться другой мебелью, кроме наскоро сколоченного сиденья. Всадник отметил это обстоятельство с удивлением, но все-таки сел. Скамья жалобно хрустнула.
Привратница в несколько приемов повернулась к приезжему спиной, с явственным скрипом согнула и без того согбенную спину и принялась возиться с углями.
– Не худо бы ей обернуться… и обернуться прекрасной девой, – пробормотал всадник, прислоняясь спиной к стене и удобно вытягивая ноги. Так и не дождавшись ни продолжения «беседы», ни двойного «оборачивания», он плотнее укутался в плащ и закрыл глаза. Его поза выражала готовность перетерпеть неприятную рутину.
– Тебе надо ответить на вопросы, путник, – нарушила молчание молочноглазая старуха, не поворачивая зернистого лица и не видя, что приезжий вздрогнул, как будто его резко разбудили. – Тебе надо проявить уважение городу.
– Так задавай же свои вопросы, добрая женщина, – немного раздраженно предложил всадник, – если только уважение не заключается в том, чтоб истомить меня тут, как пирог в печи.
– По какому делу ты приехал сюда?
– Путешествую и собираю… разное.
– Ты не грабитель?
– О нет, нет. Забираю лишь причитающееся.
– Ты не убийца?
– Нет. Но пришлось и убить одного-другого.
– Ты знаешь, кто охраняет Камарг?
– Всем известно об Алой Тысяче. Доводилось слышать и о личной охране Высокого тарна, о его прославленных лучниках. Правда, ничего мне не говорили о пожилой даме со скрипучей поясницей, да и приехал я не к охранникам, сколь бы разнообразны они ни были.
– Знаешь ли ты, что за всю историю Камарг ни разу не был взят?
– Да неужто? – усмехнулся посетитель. – А медзунамский уроженец, номад Бетурубис Быстрый со своим хитроумным заклинателем камня по имени Сарти? Или прекрасноликий Гер Даэза, явившийся из Ламарры и сжегший Кемерги чуть не дотла? Впрочем, ты, наверное, не знаешь об этом: тому уж тысяча с лишним лет. Не станем вспоминать и об Эзларо по прозванию «Колесница судьбы» (Джаггернаут) – он мог бы захватить город, если б не получил того, что хотел…
– Меня зовут Бабу`шка, – непоследовательно ответила на это молочноглазая старуха так, будто это что-то объясняло.
– Бабу`шка? – переспросил всадник. – С длинным «у»? Хм… Благодарю за шутку, Гвидо, – непонятно добавил он.
– Бабушка знает о Камарге все, – с горькой обидой проговорило мамалыжное лицо. Старуха повернулась к собеседнику и, тяжко опустившись на пол около очага, стала окончательно похожа на груду старых лохмотьев. – Тебе известна история города. Это часть уважения. Зачем ты здесь?
– Осмотреться, – отвечал всадник лаконично. – Кажется, мы уже выяснили?
– Ты бывал в Камарге раньше?
– Приходилось… бывать.
– Когда?
– Давно. Тебя тогда еще здесь не было, а ворота не скрипели.
– Делал ли ты зло в свой прошлый приезд?
– Я не чинил зла Камаргу. К сожалению, не могу сказать, что Камарг ответил мне взаимностью.
– Так ты здесь для мести?
Человек в черном задумался.
– Нет, – отвечал он спустя какое-то время, – я здесь по делам, а месть – это развлечение, да еще и сомнительного характера.
На сей раз замолчала старуха. Довольно долго в каморке слышалось лишь ее сдавленное, с присвистом, сопение и треск углей в очаге. Прибывший же не только не издавал звуков, но, кажется, даже не двигался.
– Ты откровенен со мной, доктор Делламорте, – заявила наконец обладательница странного имени и вперила в гостя опаловые глаза, которые по законам офтальмологии и здравого смысла не могли видеть ни самого пришельца, ни его занятий и имен. – Это тоже часть уважения.
– Доктор? Делламорте? – переспросил тот с некоторым подозрением. – Откуда ты взяла эти странные прозвания?
– Ты едешь с Берега Смерти и несешь смерть. Да и одежда на тебе цвета смерти, – охотно пояснила Бабушка. Она облокотилась о колено, подперла длинный подбородок желтым кулаком и обкатывала несуществующим взглядом глазных яблок контуры гостя – настолько, насколько их позволял проследить плащ, сливавшийся с темнотой углов привратницкой.
– А-аа, – протянул всадник, – все ясно. Камаргиты заменили боеспособную стражу на отставную ясновидящую, – он разочарованно вздохнул. – Печально. Никогда не знаешь, какую личину в следующий раз обернет к тебе упадок некогда великого города.
Старуха расплылась в довольной улыбке: похоже, пришелец ей нравился.
– Я стою целого гарнизона, – сказала она. – А ты интересный гость, и я покажу тебе, как с самого дня Избавления охраняет великий Камарг ясновидящая Бабушка.
– Пойдем, – легко согласился «доктор Делламорте» и, не поинтересовавшись «днем Избавления», проследовал за Хароном в юбке. Вопреки ожиданиям, они двинулись не обратно в коридор, а куда-то в темный угол привратницкой, где обнаружился еще один ход.
Пройдя очередным сплетением коридоров, компаньоны остановились на развилке. Вправо тянулся проход, вырезанный как будто в горном хрустале с вкраплением драгоценных золотоносных жил, пульсирующих светом. (Разного рода прозрачные материалы, похоже, пользовались большой популярностью у камаргских строителей, использовавших всевозможные слюды и стекла в промышленных количествах.) Бабушка медлила.
– Ты ждешь от меня выбора пути? – неприятно улыбнулся всадник.
Старуха стояла пнем и молчала.
– Я не пойду в стеклянный коридор, – скучающе заявил гость. – Он очень красив, но ему подобает располагаться в холмах эфестов. А следовательно, эта ловушка из детских сказок… ведет во внешний круг города и отведена для крестьян и купцов, которым не дозволено осквернять видом своих сельских физиономий парадные ворота Камарга. И твои… м-м-м… светлые очи.
Бабушка никак не показала, что эти слова могут сдвинуть ее с места.
– Вперед, почтенная привратница, – с намеком на нетерпение пояснил гость то, что не желала понять не вполне ясно видящая. – Чем скорее мы покончим с формальностями, тем спокойнее будет твоя ночь.
И они пошли вперед по очередному темному коридору, в конце которого высокого, черного и острого всадника и покосившуюся пыльную старуху, словно выметенную из-под дивана, ожидала очередная комната.
– Посидим, ночной ворон, отдохнем теперь и здесь, – проговорила Бабушка каким-то новым тоном, вошла в проем, лишенный двери, и, угрожающе скрипнув суставами, снова опустилась на пол.
– Во имя Иоганна Хризостома[26], – воскликнул Делламорте без восклицательного знака, однако проследовал внутрь и, повинуясь приглашению, расположился на высоком табурете. Другой мебели почему-то не было в заводе и тут, разве что табурет (который тоже злобно заскрипел, стоило пришедшему опуститься на него) являл собою следующую ступень эволюции мебели после страшной скамьи в привратницкой. Бабушка тем временем, будто не довольствуясь своей слепотой, обвязала глаза тряпкой.
– Так лучше видно, – пояснила она и принялась вдохновенно молчать.
Молчал и Делламорте. Испытания, связанные с необходимостью миновать стены, чтобы оказаться внутри Камарга, он принимал стоически и теперь, уперев в поперечную перекладину табурета затянутую в ботфорт ногу, поудобнее устроился и принялся рассеянно поправлять матово блестевшие в свете очередного хилого очага заклепки на левой манжете. Он ждал.
– Вижу, ты сидишь, – начала Бабушка.
– Случается со мною и такое, – благодушно отозвался «доктор» с бесконечным терпением, не иссякающим у подобных людей, когда они решают почему-нибудь смириться и склонить гордую голову перед ходом минут.
– Ты одет по-другому, – продолжила старуха.
