Страница:
Нет, она не помнит, та ли это дорога, ничего нельзя узнать. Может, она и заблудилась.
Ей что, страшно? Страшно одной ночью в лесу? Нина прислушивается. Нет. Ей не страшно, просто какая-то настороженность, не надо прислушиваться, надо идти и идти, дорога должна все же кончиться, должна же она куда-то привести, если не в Болотянку, так в другую деревню.
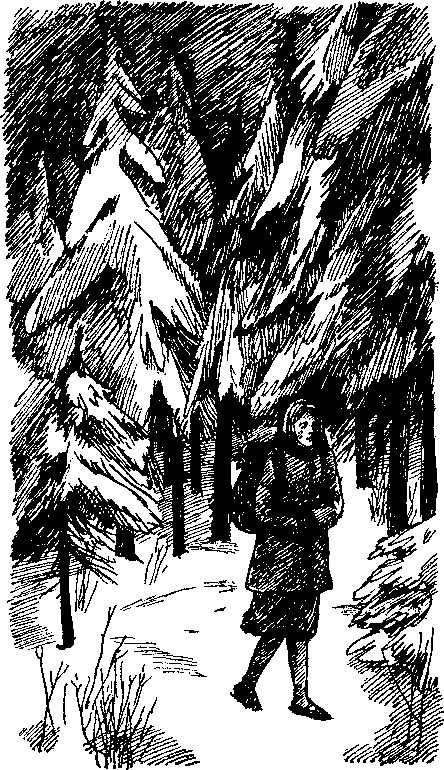
И она идет, идет. Конечно, она заблудилась, тогда они не шли так долго, лес тянется всего каких-нибудь пять километров, с километр от городка она шла полем и, помнится, от леса до деревни — тоже с километр. А она идет лесом уже, наверное, столько, сколько шла от шоссе до Плугович.
Нина до боли в глазах смотрит вперед, надеясь увидеть просвет, конец леса, но лес плотно окружает ее — он впереди, сзади, по обеим сторонам. И вдруг вместо ожидаемого просвета перед ней возникает плотная чернота. Что тут? Тупик?
Нина видит впереди стену леса. Она идет на нее. Идет, потому что обратно возвращаться еще страшнее. Она подходит совсем близко к этому неожиданному препятствию и видит, что это не тупик, дорога обходит деревья, сворачивая в самый лес.
Нина тихо засмеялась. Она узнала это место, как и тот мостик при выходе из городка.
Она не заблудилась, иначе откуда бы знала это место, откуда бы помнила его? Она вспоминает, что здесь было даже болотце, его и огибает дорога.
Значит, она идет правильно, все будет хорошо. Нина старается вспомнить, далеко ли от этого места до деревни, но как ни напрягает память, вспомнить не может, и все же ей стало легче — она идет правильно.
2
Ей что, страшно? Страшно одной ночью в лесу? Нина прислушивается. Нет. Ей не страшно, просто какая-то настороженность, не надо прислушиваться, надо идти и идти, дорога должна все же кончиться, должна же она куда-то привести, если не в Болотянку, так в другую деревню.
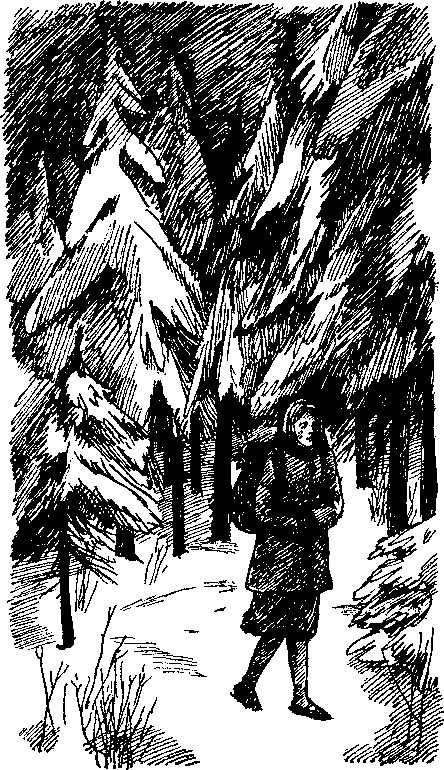
И она идет, идет. Конечно, она заблудилась, тогда они не шли так долго, лес тянется всего каких-нибудь пять километров, с километр от городка она шла полем и, помнится, от леса до деревни — тоже с километр. А она идет лесом уже, наверное, столько, сколько шла от шоссе до Плугович.
Нина до боли в глазах смотрит вперед, надеясь увидеть просвет, конец леса, но лес плотно окружает ее — он впереди, сзади, по обеим сторонам. И вдруг вместо ожидаемого просвета перед ней возникает плотная чернота. Что тут? Тупик?
Нина видит впереди стену леса. Она идет на нее. Идет, потому что обратно возвращаться еще страшнее. Она подходит совсем близко к этому неожиданному препятствию и видит, что это не тупик, дорога обходит деревья, сворачивая в самый лес.
Нина тихо засмеялась. Она узнала это место, как и тот мостик при выходе из городка.
Она не заблудилась, иначе откуда бы знала это место, откуда бы помнила его? Она вспоминает, что здесь было даже болотце, его и огибает дорога.
Значит, она идет правильно, все будет хорошо. Нина старается вспомнить, далеко ли от этого места до деревни, но как ни напрягает память, вспомнить не может, и все же ей стало легче — она идет правильно.
2
— Господи, дитя, откуда ты?
Тетка Ева стояла посреди хаты — в валенках, в длинной юбке, в кофте с засученными рукавами, обнажавшими ее жилистые руки.
— Да вот… пришла… — улыбалась Нина и чувствовала, как трудно ей улыбаться — так стянуло морозом лицо.
— Ты пешком? Откуда?
— Из Плугович… И от Валерьянов до Плугович шла.
— О господи, — снова удивляется тетка Ева. — Так раздевайся же быстрее. Сбрасывай свой мешок. И волки тебя не съели? — спрашивает она.
— Волки? А разве у вас волки есть?
Там, в лесу, Нина даже не подумала о волках, и хорошо, что не подумала, потому что ко всем ее страхам добавился б еще один — волки.
— Конечно, есть… Стаями ходят…
На Нину с печки смотрели ее двоюродные сестры и брат. Она с трудом разглядела их лица при скупом свете коптилки.
Нина разделась. Когда снимала чулки — едва оторвала их от ног, на коленях они почти примерзли, в тепле ноги сразу покраснели, будто их обдали кипятком.
Тетка Ева гремела чугунами.
— Почему же мать тебя послала? Сама не могла пойти? — спросила она.
— Миша заболел… Не могла оставить, — ответила Нина.
— А отец?
— Отец? Ну, мужчинам теперь ходить опасно… Да и старый он.
— Старый… Как детей каждый год плодить, так не старый…
Нина сидела на лавке, слушала, как гремит чугунами тетка, как шепчутся на печи дети, и не верила, что она все же пришла, что она в хате.
Она едва добрела до деревни. Казалось, если б нужно было сделать еще шаг — не дошла б. Не хватило бы сил. А в хате, как только вошла, повеяло на нее знакомым, своим. Хотя сколько она и была здесь, когда-то, совсем маленькая, приезжала, когда бабка еще была жива, да вот в последний раз перед войной. И все же хата показалась родной — и огромная белая печь, и не застланный скатертью стол, и лавки у стен, и земляной пол, и тетка Ева. Говорит громко, на всю хату, будто здесь кто-то глухой, растягивая слова, делая ударения на «о» и «э». Они у нее катятся, как обруч, тянутся, как бечевка.
— Иди поешь… Голо-одная же, наверное, — поставила тетка Ева на стол полную миску щей.
На печи зашевелились дети, стали слезать друг за дружкой.
— И они… Стоит стукнуть миской или чугунком — как здесь… Словно по сигналу, — улыбаясь, говорила тетка.
Две сестры — пятилетняя Оля и старшая, лет тринадцати, Вера — уже мостились у стола. Карабкался на лавку и брат Костя, мальчик лет одиннадцати.
Костя в свои одиннадцать лет не умел говорить, лишь несколько слов мог прогнусавить: «Мама», «дай» и «боби», последнее на его языке означало «больно».
Старшая дочь тетки Евы, на год старше Нины, сейчас была неизвестно где. До войны поступила в Минский торговый техникум, когда наши отступали, она вместе с техникумом двинулась на восток.
И муж тетки Евы, родной брат Нининой матери, тоже неизвестно где. Перед самой войной послали его в один из колхозов России за скотом, хотели развести в Болотянке высокопродуктивную породу. Так и остался он где-то за линией фронта, теперь, наверное, воюет.
На столе в большой миске дымились щи, теткина семейка уже расправлялась с ними. И Костя старался не отстать — таскал ложкой из миски, прихлебывая на всю хату. Нина проглотила ложки две щей и вдруг почувствовала, что ей совсем не хочется есть. Даже сделалось обидно. Подумать только, как вкусно, кислые щи, заправленные шкварками, хлеб на столе, а ей не хочется есть. Если б такую еду дали ей в Минске! Или даже сегодня в пути! И почему же ей не хочется есть? Что-то подташнивает.
— Чего это ты положила ложку? Или невкусно? — спросила тетка.
— Что вы, тетя Ева… Вкусно… Но мне что-то нехорошо, — призналась Нина.
— Это ты устала… И неудивительно, столько за день пройти. Ну, я тебе молока налью, выпей и полезай на печь.
Но и молоко показалось Нине горьковатым, она отпила немножко и встала из-за стола. Ее повело в сторону, едва удержалась на ногах. Взобралась на печь, легла на разостланные там тряпки. Она не могла понять, хорошо ей теперь или плохо. Хорошо, потому что она в хате, на печке, а не в лесу, на холоде. И все же ей как-то не по себе, что-то дрожит внутри, по-прежнему тошнит и кружится голова. И холодно — никак не согреться. Она набросила на себя кафтан, который висел на жерди, но и под кафтаном ее трясло. Она долго корчилась, куталась, вертелась с боку на бок, пока, наконец, не уснула.
Проснулась — за окнами темно. В хате горела коптилка, а тетка Ева чем-то гремела возле печи. Вначале Нина подумала, что это все еще вечер, но потом догадалась, что уже утро, и, свесив голову вниз, посмотрела на хату.
Дети спали все на одной кровати, коптилка стояла на лавке, а тетка Ева мыла картошку, стрелки ходиков показывали пять часов.
«Это она так рано поднимается?» — подумала Нина и почувствовала себя неловко. Она не могла спать, если уже кто-то трудится, но вставать очень не хотелось, все тело было, как побитое, словно на ней молотили рожь, болели руки, ноги, спина.
Она зашевелилась на печи, чтоб дать знак тетке, что не спит и, если нужно, готова встать и помочь ей.
Тетка увидела, что Нина проснулась.
— Ты чего это? — спросила она. — Еще рано. Спи.
— Я думала, что еще вечер…
— Спи, спи, — снова сказала тетка. Она подняла большой чугун, понесла его к печке.
Нина увидела, что тетка теперь без валенок, в галошах на босую ногу, одна нога перевязана. Нина вспомнила, что у тетки больная нога, еще до войны она лечила ее, даже ездила в город, в больницу, уже лет десять мучается с этой ногой.
И Нине стало жаль тетку, она подумала, что нужно будет обязательно дать ей кое-что из того, что принесла для обмена. Сахарина… Спичек… Как гостинец.
Она почувствовала, что ее снова клонит ко сну, и скоро действительно уснула.
Когда проснулась второй раз — в хате было светло, сквозь замерзшие стекла пробивались солнечные лучи, ясно очерчивая узоры — елки, кустики, пальмовые листья, нарисованные на окне морозом.
Тетки Евы в хате не было, пятилетняя Олечка сооружала что-то из щепочек на полу и пела. Костик сидел на кровати, чесал нестриженую голову, Веры дома не было.
Нина слезла с печки. Снова почувствовала, как болит все тело, даже ступать больно, не пошевелить ни ногой, ни рукой. Но лежать нельзя, она ведь не в гости приехала, нужно быстрее менять свой товар и собираться домой, там ждут.
— А где мама? — спросила она у Олечки.
— Мама пошла скотину кормить, — ответила Оля и снова запела:
Нашла свой мешок, развязала его, вынула пачку сахарина, две коробки спичек. Подумала и вынула еще пачку краски, решила дать это тетке Еве.
Загремела щеколда в сенях, и тетка вошла в хату, неся охапку дров, бросила их возле печи.
— Встала? Ну и хорошо, будем завтракать, — сказала она, вытирая руки о юбку.
— Вот это, тетя, вам, — протянула ей Нина гостинец.
Тетка еще раз вытерла руки о юбку, взяла пакетики и спички.
— Вот спасибо, — сказала она. — Спички — это хорошо… А это что? Краска? И краска хорошо… Спасибо. А это? — Тетка вертела пакетик с сахарином. — А-а, сахарин, — догадалась она. — И сахарин хорошо… Только, знаешь, — тетка замялась, — мне он, пожалуй, не нужен. У меня молоко есть. Это у кого маленький ребенок, водичку хорошо подсластить. Сахарин у тебя купят. На, — протянула она Нине обратно пакетик.
— А может, возьмете, — не очень решительно настаивала Нина. — У меня еще есть.
— Нет, нет, ты в такую даль шла… Лучше что-нибудь выменяешь.
Она положила спички и краску на полку, чтоб дети не достали. Подошла было к печке, но в это время что-то прогнусавил Костя.
— Чего тебе нужно? — ласково отозвалась тетка Ева.
Мальчик продолжал что-то бормотать, и она подошла к кровати. Наклонилась к Косте и вдруг разразилась бранью:
— А чтоб тебя разорвало, а горе ты мое, а дурак же ты несчастный! Это ж надо, снова мокрая постель!
Тетка стала бить мальчика, дергала его за волосы, за уши.
Костя кричал на всю хату, а тетка Ева все колотила его и причитала:
— Лучше бы ты в земле гнил, чем сгноил все в хате! Хорошие дети умирают, а этот безмозглый живет! Где только мне взять сил! Ты меня в могилу сведешь!
Костя орал что есть силы, и только можно было разобрать, как он гнусавил:
— Боби! Боби!
— Ему боби! А мне не боби? — кричала тетка. — Слазь, чтоб тебя холера задушила! Слазь! — тянула она мальчика с кровати.
Костя, в одной рубашонке, босой, стоял на земляном полу и дрожал, а тетка стягивала подстилку, матрац. Проклиная мальчика, потянула все это на печку, чтоб сохло.
Затем надела на него штанишки, натянула заштопанные на коленях и пятках чулки. Взяла мальчика за руку, подвела к кадке, сполоснула ему лицо, вытерла полотенцем.
— Иди к столу, чтоб ты не дошел до него, — толкнула Костика в спину.
Тот все еще всхлипывал, с опаской поглядывал на мать.
Гремя посудой, тетка Ева поставила на стол миски, положила хлеб.
— Такое мне горе с ним, Ниночка, — словно оправдываясь, говорила она. — Ведь ни в хате его одного не оставишь, ни на улицу не выпустишь — на улице дети его бьют, дразнят. Только отвернись — так что-нибудь и натворит. То сломает что, то влезет куда-нибудь. За какие грехи такое наказание?.. А где Верка? — спросила она у Оли.
— Пошла гулять, — ответила Оля, терпеливо ожидая, когда мать подаст завтрак.
— Гулять… Только и бегает. Горе мне с вами, — сказала тетка уже спокойнее, даже улыбаясь.
На завтрак тетка подала разваристую картошку, налила в миску кислого молока, поджарила несколько ломтиков сала. О такой еде Нина могла только мечтать, но и сегодня ей что-то не елось. Через силу жевала картошку, пила молоко. А когда тетка протянула ей на вилке кусочек сала и Нина откусила, ее снова затошнило. Закрыв рот ладонью, выбежала во двор.
Тетка бросилась за ней.
— Что с тобой? — трясла она Нину за плечи. Подала ей кружку с водой. Нина выпила. У нее вспотели ладони, лоб. — О, господи, вот несчастье, — сочувственно качала головой тетка.
Нина вытирала ладонями лицо. Ноги у нее дрожали, всю охватила страшная слабость.
— Это, видимо, от голода… Да и устала вчера, — как сквозь вату в ушах долетали до нее слова тетки. — Ну, иди, иди в хату, а то еще простудишься…
— Понятия не имею, что со мной такое, — виновато оправдывалась Нина.
— Ну ничего, ничего, пройдет, — утешала ее тетка.
Они вернулись в хату.
— Вы бы, тетя, сказали женщинам на селе, что я принесла менять, — попросила Нина, когда немножко отошло. — Может, пришли б, потому что мне ходить по хатам не хочется.
— Хорошо, хорошо, я скажу, — кивала головой тетка. — Придут. Магазинов ведь теперь нет, вот пойду сейчас на деревню и скажу. Да и Верка уже, наверное, раззвонила, что ты пришла менять, а ты приляг пока, на тебе лица нет. Ох, дети, дети, — вздохнула она.
Тетка Ева прибрала в хате, оделась и ушла.
Нина лежала на печи, Олечка играла, сидя на полу, и все время пела. Нина дивилась, как много песен знает эта пятилетняя девочка, наверное, ходит с Верой на посиделки, а там поют, у девочки хороший слух и хорошая память, и петь любит.
До чего же хорошая девочка Оленька, ловкая, подвижная, в живых карих глазах озорной огонек, зубки мелкие, как у мышки, даже не верится, что Костик — ее родной брат.
Нина почувствовала себя лучше. Тетка оставила на столе еду, и Нина слезла с печки, немного поела.
Ей захотелось побывать в «комнатке» — как называли небольшую пристройку, в которую вела отдельная дверь из сеней. Когда-то, до войны, в «комнатке» стояла кровать, стол. В ней ночевали гости. А иногда и дядька Игнат, муж тетки Евы, закрывался там с книжкой в руках. Тетка не любила, когда он читал, считала, что он зря тратит время. Там учила уроки их старшая дочь; когда Нина приезжала с матерью в прошлый раз, до войны, они тоже спали в «комнатке».
Стены в ней были оклеены газетами, страницами из журналов. И газеты и журналы были старые, некоторые еще с буквой «ять». Но попадались и более свежие. Нина очень любила читать и, пока они жили там, перечитала все эти газеты, все страницы из журналов. Запомнилось даже одно стихотворение. Тогда она еще не знала, что это спародированный монолог Чацкого, в школе они еще не проходили «Горе от ума».
Нина решила сходить в «комнатку», посмотреть, как там теперь.
В сенях было холодно, пахло кислым, на стенах — решето, какие-то узелочки, мешочки. Дверь в «комнатку» теперь, видимо, открывалась редко, щеколда поржавела, и Нина с трудом открыла ее. И не узнала «комнатку». Окно пыльное, грязное, едва пропускает свет, нет ни кровати, ни стола, все завалено хламом — пустыми бочками, тряпками, стены ободраны.
Сделалось грустно. Даже сюда, в эту «комнатку», заползла война.
Нина стала осматривать стены в поисках пришедшего на память стихотворения. Она долго не могла его найти, наконец увидела. Большой кусок страницы был оторван, осталось лишь две строчки:
Тетка снова принялась за работу. Стала готовить корм свинье, пойло корове. А Нина тем временем обдумывала, сколько же ей просить за свой товар. Кто его знает, сколько можно взять за коробку спичек, за пакетик сахарина? Мамина кофточка, покрывало — тут ясно, дешевле, чем по килограмму сала за каждую вещь, не отдаст.
И вот пришла первая покупательница — тетка в полушубке, в валенках, в теплом платке. Поздоровалась, села на лавку, с любопытством уставилась на Нину.
— Так это Ганнина дочка? — спросила не то у тетки Евы, не то у Нины.
— Ага, Ганнина, — ответила тетка Ева.
— Ну, как же там мать живет? — спросила тетка у Нины.
— Мама? Ничего! Так себе, — не знала, что ответить Нина.
А та вдруг стала вспоминать, как они были молодыми, как гуляли вместе, как им было весело.
— И не заметила, как состарилась, — вздохнула она. — Эх, молодость, молодость…
Звякнула в сенях щеколда, послышались шаги, и в хату вошли еще три женщины. И их Нина не знала, хотя лицо одной показалось знакомым.
Женщины поздоровались и, тоже не раздеваясь, уселись на лавках. И они повели разговор о чем-то далеком, что вовсе не интересовало Нину.
Наконец тетка Ева подала команду:
— Так развяжи свой мешок, Нина, покажи бабам, что у тебя есть.
По тому, как загорелись любопытством глаза женщин, Нина догадалась, что они давно этого ждут.
Она развязала мешок, стала выкладывать на стол все, что в нем было.
Женщины живо поднялись с лавок, подошли к столу.
В это время снова открылась дверь, и в хату вошли сразу пятеро. Четыре женщины и мужчина в коротком потертом полушубке, в шапке-ушанке.
— Ого! Здесь уже торг идет, все, наверное, расхватали, — с порога заговорила женщина в суконной свитке, в сапогах.
— Чтоб ты да опоздала, — отозвалась другая, — разве без тебя какой торг обойдется?
— А и без тебя, вижу, не обошелся, — незлобиво ответила вошедшая.
— Идите, идите, всем хватит, — успокаивала их тетка Ева, хотя было видно, что женщины шутят.
Бабы обступили стол. Рассматривали пакетики с сахарином, с краской, коробки спичек. Каждая откладывала себе то, что намеревалась взять.
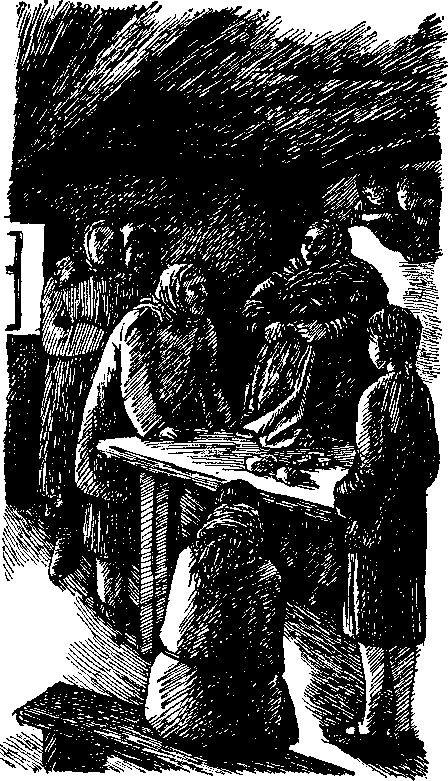
— Тэкля, бери вот сахарин, у тебя маленький ребенок, пригодится, — советовала тетка Ева женщине в суконной свитке.
— Если не дорого, то можно будет взять, — ответила Тэкля.
Мужчина смотрел на стол поверх голов женщин, но ничего не брал, только качал головой, причмокивая.
— Вот что значит город. Война не война, а там все есть, и спички, и краска, а здесь как не было ничего, так и нет, — сказал он.
— Вот уж, дядька, позавидовали городу, — рассмеялась Тэкля. — Были вы там хоть раз, видели, как он разбит?
— Разбит или не разбит, а там все есть, — настаивал мужчина.
— В городе теперь голод, — не выдержала Нина. Ей сразу не понравился этот дядька, подумать только — говорит, что в городе все есть. Это чтоб выставить Нину богатой, а самому прикинуться бедненьким.
Две женщины развернули покрывало. Третья прикладывала к себе шелковую блузку.
— Вот хорошее покрывало, но и попросишь ты, наверное, за него много, — сказала женщина, которая пришла первой.
— Кило сала, — ответила Нина.
— Ого, — покачала головой женщина и стала складывать покрывало.
— Покрывало Стэфка Буракова возьмет, приданое к свадьбе будет, — сказала Тэкля.
— У нее от приданого и так сундуки ломятся…
— Куда уж больше, — заговорили женщины.
— А разве вы не знаете, что добро к добру льнет?
— Кто много имеет, тому еще больше хочется иметь, — сказала тетка Ева.
— Вот чужое богатство глаза колет, — вступился за неизвестную Нине Стэфку мужчина.
— А за кофточку сколько ты хочешь? — неуверенно спросила голубоглазая молодая женщина, которая до этого молчала и вообще не лезла к столу.
— Тоже кило, — твердо сказала Нина.
Женщина держала в руках кофточку, по всему было видно — она ей нравилась.
— Хорошая кофточка, — сказала она. — И кило стоит… Но весна придет — без сала плуга не потянешь… Самим нужно.
— И кофточку Стэфка возьмет… Вот посмотришь, — снова засмеялась Тэкля.
— А что это за Стэфка такая? — спросила Нина. Ей было интересно, что это за богачка, которая все может купить.
— Стэфка? Дочь…
Не успела тетка Тэкля сказать Нине, кто такая Стэфка Буракова, как дверь в хату открылась, и вошла молодая девушка. В плюшевом жакете, в цветастом платке. По тому, как прикусила тетка Тэкля язык, как сразу замолчали бабы, Нина догадалась, что это и есть та самая Стэфка.
— Вечер добрый, — сказала, как пропела, она.
— Добрый вечер, — не очень охотно ответили женщины.
У девушки было красное от холода лицо, большой мясистый нос, толстые губы.
«Если эта Стэфка покупает себе приданое, значит, собирается замуж, значит, она невеста», — подумала Нина. Нине всегда казалось, что невеста должна быть обязательно красивой. Ну, а как же иначе? А эта… Нет, не похожа она на невесту, один нос чего стоит…
— Иди, Стэфка, иди, здесь для тебя кое-что есть, — льстиво обратился к ней мужчина.
Стэфка подошла к столу. Глаза ее забегали, ощупывая все, что там лежало. Остановилась на кофточке. Огромными красными руками взяла Стэфка кофточку, развернула, приложила к себе. Посмотрела на баб, спросила, переводя глаза с одной на другую:
— Ну как, идет мне?
— Тебе, Стэфка, все идет. Что ни возьмешь — все тебе идет, — весело сказала Тэкля.
— Если есть за что покупать, так неудивительно, что все пойдет, — вставила женщина с голубыми глазами, которая первая смотрела кофточку.
— Бери, Стэфка, бери, — подбадривал ее мужчина, — не слушай, что они говорят. Это от зависти.
— Сколько же ты хочешь за кофточку? — спросила Стэфка у Нины.
Та сказала.
— Ого, — покачала головой Стэфка. — А это что? — потянулась она к покрывалу.
Не выпуская из рук кофточки, Стэфка стала разворачивать покрывало.
— Что ж, как раз на свадебную кровать, — снова сказала Тэкля.
Стэфка стрельнула глазами в сторону Тэкли. Видимо, хотела понять, искренне та говорит или насмехается.
В глазах Тэкли была явная насмешка, и лицо Стэфки сделалось злым, колючим.
— У тебя-то не спрошу, покупать или нет, — сказала она. — А сколько за покрывало? — повернулась она к Нине.
— Как и за кофточку, — ответила та.
Стэфка крепко держала в одной руке кофточку, в другой — покрывало. На лбу у нее собрались морщины, под носом выступили капельки пота. Видимо, думала.
— Полтора кило, — наконец сказала она. — Возьму и покрывало и кофточку.
Все затихли. Ожидали, что скажет Нина. Но та тоже молчала, думала — отдать или нет. Она теперь понимала, что если эта Стэфка не купит, то другие женщины вряд ли возьмут. Боялась потерять покупателя. Но за полтора килограмма сала было жаль отдавать такие вещи. Решила все же поторговаться.
— Не отдам, — сказала она. — Давайте два.
Стэфкины пальцы разжались, она вздохнула.
— Ну, если Стэфка не возьмет, то мы купим, — сказала вдруг Тэкля. — Манька — кофточку, — кивнула она на женщину с голубыми глазами, а я — покрывало. Была не была! — махнула она рукой.
Стэфкины пальцы вновь впились в кофточку и покрывало.
— Очень уж ты быстрая, — набросилась она на Тэклю. — Мы ведь еще не кончили торговаться… Лишь бы перебить… — Так давай за полтора кило, — снова обратилась она к Нине.
— Что же я вам буду отдавать за полтора, если мне два дают, — ответила Нина.
Она начинала понимать Тэклину игру. Тэкля ведь и не собиралась покупать покрывало, и Манька кофточку не купит, хотя та ей и нравится; наверное, просто хотят помочь Нине выгоднее продать.
Стэфка молчала, сопела, но кофточку и покрывало из рук не выпускала.
— Ох и хорошая кофточка, — подлила масла в огонь Манька.
— А покрывало… Новехонькое… Это тебе не постилка своей работы, — вздохнула Тэкля.
— Хорошо, возьму, — неожиданно охрипшим голосом сказала Стэфка.
Она сложила покрывало и кофточку, запихнула их за пазуху.
— Сало завтра принесу. Но два кило… Ай-яй-яй, — простонала она.
Словно боясь, что Нина передумает или бабы отнимут у нее покупку, она потопталась немного возле стола, затем повернулась и быстро вышла. Уходя, сильно хлопнула дверью, выражая этим свое презрение к оставшимся в хате.
Как только она ушла, женщины засмеялись, заговорили.
— Так и вцепилась в кофточку, — злобно говорила Манька.
— А как сопела… — вставила одна из баб.
— А что я говорила, что говорила? — толкала женщин Тэкля. — Говорила ведь, что Стэфка возьмет!
— Так вы же сами помогли ей, — сказала Нина.
— Помогла, потому что видела — ты за полтора кило уже готова была отдать. А скулу ей в бок! Пускай дает два!
— А кто эта Стэфка? — снова спросила Нина. Она теперь видела, что Стэфку не любят, но за что? Что она плохое сделала людям? Или не любят только за то, что Стэфка богата?
— Дочка одного гада. Полицая. И замуж за такого же гада выходит, — сказала Тэкля.
Нина вдруг побледнела. Что же это происходит?.. Что она наделала?.. Мамину кофточку теперь будет носить жена полицая. Покрывало… Ее приданое перешло к невесте полицейского…
— Почему же вы мне раньше не сказали… — едва проговорила Нина. — Да чтоб я… Где она живет?.. Я побегу… отниму… Я не хочу…
Нина бросилась искать свой жакет. Ткнулась в один угол, в другой. Нашла, набросила на плечи.
— Куда ты, глупая! — схватила ее за руку тетка Ева.
Тетка Ева стояла посреди хаты — в валенках, в длинной юбке, в кофте с засученными рукавами, обнажавшими ее жилистые руки.
— Да вот… пришла… — улыбалась Нина и чувствовала, как трудно ей улыбаться — так стянуло морозом лицо.
— Ты пешком? Откуда?
— Из Плугович… И от Валерьянов до Плугович шла.
— О господи, — снова удивляется тетка Ева. — Так раздевайся же быстрее. Сбрасывай свой мешок. И волки тебя не съели? — спрашивает она.
— Волки? А разве у вас волки есть?
Там, в лесу, Нина даже не подумала о волках, и хорошо, что не подумала, потому что ко всем ее страхам добавился б еще один — волки.
— Конечно, есть… Стаями ходят…
На Нину с печки смотрели ее двоюродные сестры и брат. Она с трудом разглядела их лица при скупом свете коптилки.
Нина разделась. Когда снимала чулки — едва оторвала их от ног, на коленях они почти примерзли, в тепле ноги сразу покраснели, будто их обдали кипятком.
Тетка Ева гремела чугунами.
— Почему же мать тебя послала? Сама не могла пойти? — спросила она.
— Миша заболел… Не могла оставить, — ответила Нина.
— А отец?
— Отец? Ну, мужчинам теперь ходить опасно… Да и старый он.
— Старый… Как детей каждый год плодить, так не старый…
Нина сидела на лавке, слушала, как гремит чугунами тетка, как шепчутся на печи дети, и не верила, что она все же пришла, что она в хате.
Она едва добрела до деревни. Казалось, если б нужно было сделать еще шаг — не дошла б. Не хватило бы сил. А в хате, как только вошла, повеяло на нее знакомым, своим. Хотя сколько она и была здесь, когда-то, совсем маленькая, приезжала, когда бабка еще была жива, да вот в последний раз перед войной. И все же хата показалась родной — и огромная белая печь, и не застланный скатертью стол, и лавки у стен, и земляной пол, и тетка Ева. Говорит громко, на всю хату, будто здесь кто-то глухой, растягивая слова, делая ударения на «о» и «э». Они у нее катятся, как обруч, тянутся, как бечевка.
— Иди поешь… Голо-одная же, наверное, — поставила тетка Ева на стол полную миску щей.
На печи зашевелились дети, стали слезать друг за дружкой.
— И они… Стоит стукнуть миской или чугунком — как здесь… Словно по сигналу, — улыбаясь, говорила тетка.
Две сестры — пятилетняя Оля и старшая, лет тринадцати, Вера — уже мостились у стола. Карабкался на лавку и брат Костя, мальчик лет одиннадцати.
Костя в свои одиннадцать лет не умел говорить, лишь несколько слов мог прогнусавить: «Мама», «дай» и «боби», последнее на его языке означало «больно».
Старшая дочь тетки Евы, на год старше Нины, сейчас была неизвестно где. До войны поступила в Минский торговый техникум, когда наши отступали, она вместе с техникумом двинулась на восток.
И муж тетки Евы, родной брат Нининой матери, тоже неизвестно где. Перед самой войной послали его в один из колхозов России за скотом, хотели развести в Болотянке высокопродуктивную породу. Так и остался он где-то за линией фронта, теперь, наверное, воюет.
На столе в большой миске дымились щи, теткина семейка уже расправлялась с ними. И Костя старался не отстать — таскал ложкой из миски, прихлебывая на всю хату. Нина проглотила ложки две щей и вдруг почувствовала, что ей совсем не хочется есть. Даже сделалось обидно. Подумать только, как вкусно, кислые щи, заправленные шкварками, хлеб на столе, а ей не хочется есть. Если б такую еду дали ей в Минске! Или даже сегодня в пути! И почему же ей не хочется есть? Что-то подташнивает.
— Чего это ты положила ложку? Или невкусно? — спросила тетка.
— Что вы, тетя Ева… Вкусно… Но мне что-то нехорошо, — призналась Нина.
— Это ты устала… И неудивительно, столько за день пройти. Ну, я тебе молока налью, выпей и полезай на печь.
Но и молоко показалось Нине горьковатым, она отпила немножко и встала из-за стола. Ее повело в сторону, едва удержалась на ногах. Взобралась на печь, легла на разостланные там тряпки. Она не могла понять, хорошо ей теперь или плохо. Хорошо, потому что она в хате, на печке, а не в лесу, на холоде. И все же ей как-то не по себе, что-то дрожит внутри, по-прежнему тошнит и кружится голова. И холодно — никак не согреться. Она набросила на себя кафтан, который висел на жерди, но и под кафтаном ее трясло. Она долго корчилась, куталась, вертелась с боку на бок, пока, наконец, не уснула.
Проснулась — за окнами темно. В хате горела коптилка, а тетка Ева чем-то гремела возле печи. Вначале Нина подумала, что это все еще вечер, но потом догадалась, что уже утро, и, свесив голову вниз, посмотрела на хату.
Дети спали все на одной кровати, коптилка стояла на лавке, а тетка Ева мыла картошку, стрелки ходиков показывали пять часов.
«Это она так рано поднимается?» — подумала Нина и почувствовала себя неловко. Она не могла спать, если уже кто-то трудится, но вставать очень не хотелось, все тело было, как побитое, словно на ней молотили рожь, болели руки, ноги, спина.
Она зашевелилась на печи, чтоб дать знак тетке, что не спит и, если нужно, готова встать и помочь ей.
Тетка увидела, что Нина проснулась.
— Ты чего это? — спросила она. — Еще рано. Спи.
— Я думала, что еще вечер…
— Спи, спи, — снова сказала тетка. Она подняла большой чугун, понесла его к печке.
Нина увидела, что тетка теперь без валенок, в галошах на босую ногу, одна нога перевязана. Нина вспомнила, что у тетки больная нога, еще до войны она лечила ее, даже ездила в город, в больницу, уже лет десять мучается с этой ногой.
И Нине стало жаль тетку, она подумала, что нужно будет обязательно дать ей кое-что из того, что принесла для обмена. Сахарина… Спичек… Как гостинец.
Она почувствовала, что ее снова клонит ко сну, и скоро действительно уснула.
Когда проснулась второй раз — в хате было светло, сквозь замерзшие стекла пробивались солнечные лучи, ясно очерчивая узоры — елки, кустики, пальмовые листья, нарисованные на окне морозом.
Тетки Евы в хате не было, пятилетняя Олечка сооружала что-то из щепочек на полу и пела. Костик сидел на кровати, чесал нестриженую голову, Веры дома не было.
Нина слезла с печки. Снова почувствовала, как болит все тело, даже ступать больно, не пошевелить ни ногой, ни рукой. Но лежать нельзя, она ведь не в гости приехала, нужно быстрее менять свой товар и собираться домой, там ждут.
— А где мама? — спросила она у Олечки.
— Мама пошла скотину кормить, — ответила Оля и снова запела:
Нина умылась, причесалась сломанным гребешком, лежавшим на подоконнике, посмотрелась в мутное зеркальце на стене. Или это зеркальце было такое, или в самом деле Нина так осунулась: почернела, синяки под глазами.
А мое сердечко ноет
Да по миленьком болит…
Нашла свой мешок, развязала его, вынула пачку сахарина, две коробки спичек. Подумала и вынула еще пачку краски, решила дать это тетке Еве.
Загремела щеколда в сенях, и тетка вошла в хату, неся охапку дров, бросила их возле печи.
— Встала? Ну и хорошо, будем завтракать, — сказала она, вытирая руки о юбку.
— Вот это, тетя, вам, — протянула ей Нина гостинец.
Тетка еще раз вытерла руки о юбку, взяла пакетики и спички.
— Вот спасибо, — сказала она. — Спички — это хорошо… А это что? Краска? И краска хорошо… Спасибо. А это? — Тетка вертела пакетик с сахарином. — А-а, сахарин, — догадалась она. — И сахарин хорошо… Только, знаешь, — тетка замялась, — мне он, пожалуй, не нужен. У меня молоко есть. Это у кого маленький ребенок, водичку хорошо подсластить. Сахарин у тебя купят. На, — протянула она Нине обратно пакетик.
— А может, возьмете, — не очень решительно настаивала Нина. — У меня еще есть.
— Нет, нет, ты в такую даль шла… Лучше что-нибудь выменяешь.
Она положила спички и краску на полку, чтоб дети не достали. Подошла было к печке, но в это время что-то прогнусавил Костя.
— Чего тебе нужно? — ласково отозвалась тетка Ева.
Мальчик продолжал что-то бормотать, и она подошла к кровати. Наклонилась к Косте и вдруг разразилась бранью:
— А чтоб тебя разорвало, а горе ты мое, а дурак же ты несчастный! Это ж надо, снова мокрая постель!
Тетка стала бить мальчика, дергала его за волосы, за уши.
Костя кричал на всю хату, а тетка Ева все колотила его и причитала:
— Лучше бы ты в земле гнил, чем сгноил все в хате! Хорошие дети умирают, а этот безмозглый живет! Где только мне взять сил! Ты меня в могилу сведешь!
Костя орал что есть силы, и только можно было разобрать, как он гнусавил:
— Боби! Боби!
— Ему боби! А мне не боби? — кричала тетка. — Слазь, чтоб тебя холера задушила! Слазь! — тянула она мальчика с кровати.
Костя, в одной рубашонке, босой, стоял на земляном полу и дрожал, а тетка стягивала подстилку, матрац. Проклиная мальчика, потянула все это на печку, чтоб сохло.
Затем надела на него штанишки, натянула заштопанные на коленях и пятках чулки. Взяла мальчика за руку, подвела к кадке, сполоснула ему лицо, вытерла полотенцем.
— Иди к столу, чтоб ты не дошел до него, — толкнула Костика в спину.
Тот все еще всхлипывал, с опаской поглядывал на мать.
Гремя посудой, тетка Ева поставила на стол миски, положила хлеб.
— Такое мне горе с ним, Ниночка, — словно оправдываясь, говорила она. — Ведь ни в хате его одного не оставишь, ни на улицу не выпустишь — на улице дети его бьют, дразнят. Только отвернись — так что-нибудь и натворит. То сломает что, то влезет куда-нибудь. За какие грехи такое наказание?.. А где Верка? — спросила она у Оли.
— Пошла гулять, — ответила Оля, терпеливо ожидая, когда мать подаст завтрак.
— Гулять… Только и бегает. Горе мне с вами, — сказала тетка уже спокойнее, даже улыбаясь.
На завтрак тетка подала разваристую картошку, налила в миску кислого молока, поджарила несколько ломтиков сала. О такой еде Нина могла только мечтать, но и сегодня ей что-то не елось. Через силу жевала картошку, пила молоко. А когда тетка протянула ей на вилке кусочек сала и Нина откусила, ее снова затошнило. Закрыв рот ладонью, выбежала во двор.
Тетка бросилась за ней.
— Что с тобой? — трясла она Нину за плечи. Подала ей кружку с водой. Нина выпила. У нее вспотели ладони, лоб. — О, господи, вот несчастье, — сочувственно качала головой тетка.
Нина вытирала ладонями лицо. Ноги у нее дрожали, всю охватила страшная слабость.
— Это, видимо, от голода… Да и устала вчера, — как сквозь вату в ушах долетали до нее слова тетки. — Ну, иди, иди в хату, а то еще простудишься…
— Понятия не имею, что со мной такое, — виновато оправдывалась Нина.
— Ну ничего, ничего, пройдет, — утешала ее тетка.
Они вернулись в хату.
— Вы бы, тетя, сказали женщинам на селе, что я принесла менять, — попросила Нина, когда немножко отошло. — Может, пришли б, потому что мне ходить по хатам не хочется.
— Хорошо, хорошо, я скажу, — кивала головой тетка. — Придут. Магазинов ведь теперь нет, вот пойду сейчас на деревню и скажу. Да и Верка уже, наверное, раззвонила, что ты пришла менять, а ты приляг пока, на тебе лица нет. Ох, дети, дети, — вздохнула она.
Тетка Ева прибрала в хате, оделась и ушла.
Нина лежала на печи, Олечка играла, сидя на полу, и все время пела. Нина дивилась, как много песен знает эта пятилетняя девочка, наверное, ходит с Верой на посиделки, а там поют, у девочки хороший слух и хорошая память, и петь любит.
Кончает одну — начинает другую:
А-а в по-оле верба,
Под вербой вода,
Там ходила, там гуляла,
Девка-а молода.
И так весь день, поет и поет.
Ро-осла, ро-осла
Девчи-и-нонька,
Расти-и перестала-а-а,
Жда-ла-а-а, ждала
Миле-енького
И пла-акати ста-ала-а…
До чего же хорошая девочка Оленька, ловкая, подвижная, в живых карих глазах озорной огонек, зубки мелкие, как у мышки, даже не верится, что Костик — ее родной брат.
Нина почувствовала себя лучше. Тетка оставила на столе еду, и Нина слезла с печки, немного поела.
Ей захотелось побывать в «комнатке» — как называли небольшую пристройку, в которую вела отдельная дверь из сеней. Когда-то, до войны, в «комнатке» стояла кровать, стол. В ней ночевали гости. А иногда и дядька Игнат, муж тетки Евы, закрывался там с книжкой в руках. Тетка не любила, когда он читал, считала, что он зря тратит время. Там учила уроки их старшая дочь; когда Нина приезжала с матерью в прошлый раз, до войны, они тоже спали в «комнатке».
Стены в ней были оклеены газетами, страницами из журналов. И газеты и журналы были старые, некоторые еще с буквой «ять». Но попадались и более свежие. Нина очень любила читать и, пока они жили там, перечитала все эти газеты, все страницы из журналов. Запомнилось даже одно стихотворение. Тогда она еще не знала, что это спародированный монолог Чацкого, в школе они еще не проходили «Горе от ума».
Какой-то автор высмеивал плохое качество радиопередач.
Не образумлюсь, виноват.
И слушаю — не понимаю,
Как будто я попал из рая прямо в ад,
Растерян мыслями, чего-то ожидаю…
Слепец, я в чем искал забвенья от трудов,
Спешил, дрожал — вот передача близко,
Но, кроме воя, скрежета и писка,
Не слышу ничего уж больше двух часов…
Нина решила сходить в «комнатку», посмотреть, как там теперь.
В сенях было холодно, пахло кислым, на стенах — решето, какие-то узелочки, мешочки. Дверь в «комнатку» теперь, видимо, открывалась редко, щеколда поржавела, и Нина с трудом открыла ее. И не узнала «комнатку». Окно пыльное, грязное, едва пропускает свет, нет ни кровати, ни стола, все завалено хламом — пустыми бочками, тряпками, стены ободраны.
Сделалось грустно. Даже сюда, в эту «комнатку», заползла война.
Нина стала осматривать стены в поисках пришедшего на память стихотворения. Она долго не могла его найти, наконец увидела. Большой кусок страницы был оторван, осталось лишь две строчки:
Наконец вернулась тетка. Сказала, что скоро придут женщины, управятся по хозяйству и придут. Покупатели найдутся.
Как будто я попал из рая прямо в ад.
Растерян мыслями…
Тетка снова принялась за работу. Стала готовить корм свинье, пойло корове. А Нина тем временем обдумывала, сколько же ей просить за свой товар. Кто его знает, сколько можно взять за коробку спичек, за пакетик сахарина? Мамина кофточка, покрывало — тут ясно, дешевле, чем по килограмму сала за каждую вещь, не отдаст.
И вот пришла первая покупательница — тетка в полушубке, в валенках, в теплом платке. Поздоровалась, села на лавку, с любопытством уставилась на Нину.
— Так это Ганнина дочка? — спросила не то у тетки Евы, не то у Нины.
— Ага, Ганнина, — ответила тетка Ева.
— Ну, как же там мать живет? — спросила тетка у Нины.
— Мама? Ничего! Так себе, — не знала, что ответить Нина.
А та вдруг стала вспоминать, как они были молодыми, как гуляли вместе, как им было весело.
— И не заметила, как состарилась, — вздохнула она. — Эх, молодость, молодость…
Звякнула в сенях щеколда, послышались шаги, и в хату вошли еще три женщины. И их Нина не знала, хотя лицо одной показалось знакомым.
Женщины поздоровались и, тоже не раздеваясь, уселись на лавках. И они повели разговор о чем-то далеком, что вовсе не интересовало Нину.
Наконец тетка Ева подала команду:
— Так развяжи свой мешок, Нина, покажи бабам, что у тебя есть.
По тому, как загорелись любопытством глаза женщин, Нина догадалась, что они давно этого ждут.
Она развязала мешок, стала выкладывать на стол все, что в нем было.
Женщины живо поднялись с лавок, подошли к столу.
В это время снова открылась дверь, и в хату вошли сразу пятеро. Четыре женщины и мужчина в коротком потертом полушубке, в шапке-ушанке.
— Ого! Здесь уже торг идет, все, наверное, расхватали, — с порога заговорила женщина в суконной свитке, в сапогах.
— Чтоб ты да опоздала, — отозвалась другая, — разве без тебя какой торг обойдется?
— А и без тебя, вижу, не обошелся, — незлобиво ответила вошедшая.
— Идите, идите, всем хватит, — успокаивала их тетка Ева, хотя было видно, что женщины шутят.
Бабы обступили стол. Рассматривали пакетики с сахарином, с краской, коробки спичек. Каждая откладывала себе то, что намеревалась взять.
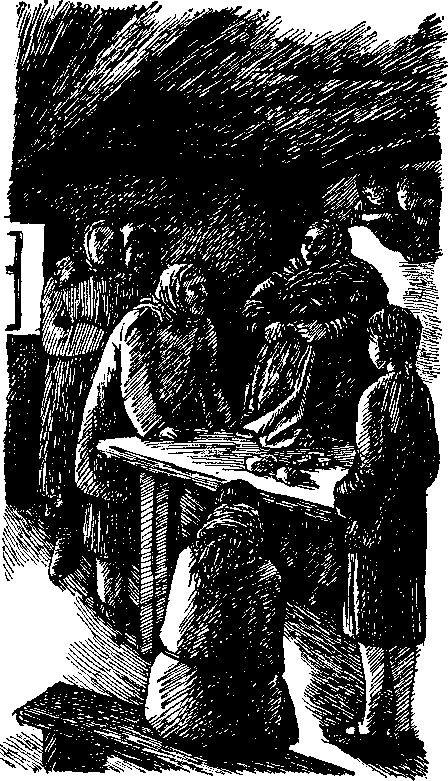
— Тэкля, бери вот сахарин, у тебя маленький ребенок, пригодится, — советовала тетка Ева женщине в суконной свитке.
— Если не дорого, то можно будет взять, — ответила Тэкля.
Мужчина смотрел на стол поверх голов женщин, но ничего не брал, только качал головой, причмокивая.
— Вот что значит город. Война не война, а там все есть, и спички, и краска, а здесь как не было ничего, так и нет, — сказал он.
— Вот уж, дядька, позавидовали городу, — рассмеялась Тэкля. — Были вы там хоть раз, видели, как он разбит?
— Разбит или не разбит, а там все есть, — настаивал мужчина.
— В городе теперь голод, — не выдержала Нина. Ей сразу не понравился этот дядька, подумать только — говорит, что в городе все есть. Это чтоб выставить Нину богатой, а самому прикинуться бедненьким.
Две женщины развернули покрывало. Третья прикладывала к себе шелковую блузку.
— Вот хорошее покрывало, но и попросишь ты, наверное, за него много, — сказала женщина, которая пришла первой.
— Кило сала, — ответила Нина.
— Ого, — покачала головой женщина и стала складывать покрывало.
— Покрывало Стэфка Буракова возьмет, приданое к свадьбе будет, — сказала Тэкля.
— У нее от приданого и так сундуки ломятся…
— Куда уж больше, — заговорили женщины.
— А разве вы не знаете, что добро к добру льнет?
— Кто много имеет, тому еще больше хочется иметь, — сказала тетка Ева.
— Вот чужое богатство глаза колет, — вступился за неизвестную Нине Стэфку мужчина.
— А за кофточку сколько ты хочешь? — неуверенно спросила голубоглазая молодая женщина, которая до этого молчала и вообще не лезла к столу.
— Тоже кило, — твердо сказала Нина.
Женщина держала в руках кофточку, по всему было видно — она ей нравилась.
— Хорошая кофточка, — сказала она. — И кило стоит… Но весна придет — без сала плуга не потянешь… Самим нужно.
— И кофточку Стэфка возьмет… Вот посмотришь, — снова засмеялась Тэкля.
— А что это за Стэфка такая? — спросила Нина. Ей было интересно, что это за богачка, которая все может купить.
— Стэфка? Дочь…
Не успела тетка Тэкля сказать Нине, кто такая Стэфка Буракова, как дверь в хату открылась, и вошла молодая девушка. В плюшевом жакете, в цветастом платке. По тому, как прикусила тетка Тэкля язык, как сразу замолчали бабы, Нина догадалась, что это и есть та самая Стэфка.
— Вечер добрый, — сказала, как пропела, она.
— Добрый вечер, — не очень охотно ответили женщины.
У девушки было красное от холода лицо, большой мясистый нос, толстые губы.
«Если эта Стэфка покупает себе приданое, значит, собирается замуж, значит, она невеста», — подумала Нина. Нине всегда казалось, что невеста должна быть обязательно красивой. Ну, а как же иначе? А эта… Нет, не похожа она на невесту, один нос чего стоит…
— Иди, Стэфка, иди, здесь для тебя кое-что есть, — льстиво обратился к ней мужчина.
Стэфка подошла к столу. Глаза ее забегали, ощупывая все, что там лежало. Остановилась на кофточке. Огромными красными руками взяла Стэфка кофточку, развернула, приложила к себе. Посмотрела на баб, спросила, переводя глаза с одной на другую:
— Ну как, идет мне?
— Тебе, Стэфка, все идет. Что ни возьмешь — все тебе идет, — весело сказала Тэкля.
— Если есть за что покупать, так неудивительно, что все пойдет, — вставила женщина с голубыми глазами, которая первая смотрела кофточку.
— Бери, Стэфка, бери, — подбадривал ее мужчина, — не слушай, что они говорят. Это от зависти.
— Сколько же ты хочешь за кофточку? — спросила Стэфка у Нины.
Та сказала.
— Ого, — покачала головой Стэфка. — А это что? — потянулась она к покрывалу.
Не выпуская из рук кофточки, Стэфка стала разворачивать покрывало.
— Что ж, как раз на свадебную кровать, — снова сказала Тэкля.
Стэфка стрельнула глазами в сторону Тэкли. Видимо, хотела понять, искренне та говорит или насмехается.
В глазах Тэкли была явная насмешка, и лицо Стэфки сделалось злым, колючим.
— У тебя-то не спрошу, покупать или нет, — сказала она. — А сколько за покрывало? — повернулась она к Нине.
— Как и за кофточку, — ответила та.
Стэфка крепко держала в одной руке кофточку, в другой — покрывало. На лбу у нее собрались морщины, под носом выступили капельки пота. Видимо, думала.
— Полтора кило, — наконец сказала она. — Возьму и покрывало и кофточку.
Все затихли. Ожидали, что скажет Нина. Но та тоже молчала, думала — отдать или нет. Она теперь понимала, что если эта Стэфка не купит, то другие женщины вряд ли возьмут. Боялась потерять покупателя. Но за полтора килограмма сала было жаль отдавать такие вещи. Решила все же поторговаться.
— Не отдам, — сказала она. — Давайте два.
Стэфкины пальцы разжались, она вздохнула.
— Ну, если Стэфка не возьмет, то мы купим, — сказала вдруг Тэкля. — Манька — кофточку, — кивнула она на женщину с голубыми глазами, а я — покрывало. Была не была! — махнула она рукой.
Стэфкины пальцы вновь впились в кофточку и покрывало.
— Очень уж ты быстрая, — набросилась она на Тэклю. — Мы ведь еще не кончили торговаться… Лишь бы перебить… — Так давай за полтора кило, — снова обратилась она к Нине.
— Что же я вам буду отдавать за полтора, если мне два дают, — ответила Нина.
Она начинала понимать Тэклину игру. Тэкля ведь и не собиралась покупать покрывало, и Манька кофточку не купит, хотя та ей и нравится; наверное, просто хотят помочь Нине выгоднее продать.
Стэфка молчала, сопела, но кофточку и покрывало из рук не выпускала.
— Ох и хорошая кофточка, — подлила масла в огонь Манька.
— А покрывало… Новехонькое… Это тебе не постилка своей работы, — вздохнула Тэкля.
— Хорошо, возьму, — неожиданно охрипшим голосом сказала Стэфка.
Она сложила покрывало и кофточку, запихнула их за пазуху.
— Сало завтра принесу. Но два кило… Ай-яй-яй, — простонала она.
Словно боясь, что Нина передумает или бабы отнимут у нее покупку, она потопталась немного возле стола, затем повернулась и быстро вышла. Уходя, сильно хлопнула дверью, выражая этим свое презрение к оставшимся в хате.
Как только она ушла, женщины засмеялись, заговорили.
— Так и вцепилась в кофточку, — злобно говорила Манька.
— А как сопела… — вставила одна из баб.
— А что я говорила, что говорила? — толкала женщин Тэкля. — Говорила ведь, что Стэфка возьмет!
— Так вы же сами помогли ей, — сказала Нина.
— Помогла, потому что видела — ты за полтора кило уже готова была отдать. А скулу ей в бок! Пускай дает два!
— А кто эта Стэфка? — снова спросила Нина. Она теперь видела, что Стэфку не любят, но за что? Что она плохое сделала людям? Или не любят только за то, что Стэфка богата?
— Дочка одного гада. Полицая. И замуж за такого же гада выходит, — сказала Тэкля.
Нина вдруг побледнела. Что же это происходит?.. Что она наделала?.. Мамину кофточку теперь будет носить жена полицая. Покрывало… Ее приданое перешло к невесте полицейского…
— Почему же вы мне раньше не сказали… — едва проговорила Нина. — Да чтоб я… Где она живет?.. Я побегу… отниму… Я не хочу…
Нина бросилась искать свой жакет. Ткнулась в один угол, в другой. Нашла, набросила на плечи.
— Куда ты, глупая! — схватила ее за руку тетка Ева.
