Махнёт Федора рукой на дочь, сама на чердак полезет.
– А ты, Аришка, пока хоть в чулан сходи, молока крынку принеси.
– Да-а!.. А в чулане – мыши.
– А хоть бы и так! Не съедят они тебя.
– Они хвостатые. Я их боюся.
Ну, что с такой трусишкой поделаешь?!
Раз летом убирали колхозники сено на дальнем покосе в большом лесу. Аришка от матери ни на шаг, цепляется за юбку, – работать не даёт.
Федора и придумала:
– Ты бы, девушка, в лес сходила по малину.
Тут в лесу страсть сколько малины. Хоть лукошко набери.
Аришка – первая в колхозе сластёна. К ягодам липнет, как муха к сахару.
– Где, маменька, где тут малинка?
– Да вон на опушке. Идём, покажу.
Как увидела Аришка на кустах красные ягоды, так к ним и кинулась.
– Далёко-то в лес, слышь, не ходи, доченька, – наставляла Федора. – А напугаешься чего – меня кличь. Я тут рядом буду, никуда не уйду.
Пришло время полдничать. Только собралась Федора за дочуркой в лес, глядь – Аришка сама идёт. Все щёки у неё в малиновом соку и в руках – полное лукошко ягоды.
– Умница, доченька! – обрадовалась Федора. – И где же это ты столько много ягоды на брала?
– А там подальше, за ручьём, в большом малиннике.
– Ишь расхрабрилась, куда забрела! Говорила ведь я тебе: далеко в лес не заходи. Как там тебя звери не съели?
– Какие там звери? – смеётся Аришка. – Один медвежонок всего и был.
Тут уж Федоре пришёл черёд пугаться.
– Как… медвежонок? Какой такой медвежонок?..
– Да смешной такой, хорошенький. Мохнатый весь, носик чёрненький, а глазки зелёные-зелёные!
– Батюшки-светы! И ты не испугалась?
– И не подумала! Я ему: «Здравствуй, Мишук!» А он, бедненький, напугался – да на дерево от меня. Я ему кричу: «Слазь, Мишенька, слазь! Дай только поглажу!» А он выше да выше. Так и не слез ко мне. Поди, и сейчас на том дереве сидит, с перепугу-то.
У Федоры так сердце и оборвалось.
– А в кустах, доченька, никого там не приметила?
– Был кто-то, ходил, сучьями потрескивал да всё ворчал толстым голосом. Тоже, верно, малинку собирал. Уж я звала-звала: «Дяденька, пособи медвежонка поймать!» Да не вышел он ко мне.
– Дитя неразумное! – всплеснула руками Федора. – Да ведь это не иначе как сама медведиха кругом ходила, своего медвежонка берегла! Да как только она тебя насмерть не разорвала!
А колхозники, как такое услыхали, сейчас подхватили кто топор, кто вилы – да в лес!
В малиннике за ручьём и на самом деле нашли медведицу. Только она им не далась, ушла от них с другим своим медвежонком.
А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изловили и Аришке в подарок на ремешке привели.
Случилось это всё в прошлом году.
Теперь медвежонок с большого медведя вырос, а от Аришки ни на шаг, как, бывало, Аришка от матери. Сама Аришка – та всё ещё маленькая, только ещё в первый класс пошла, и над партой её чуть видно. Мишука своего нисколько не боится, хоть он вон какое страшилище вырос: лошади от него шарахаются и трактор на дыбы становится.
Нынче уж Федорину дочурку никто Аришкой-Трусишкой не зовёт – все Аришей с Мишей величают. Она старательная такая стала, всем девчонкам в пример, матери помощница. И за водой на пруд, и в погреб, и на чердак ходит.
Вот и пойми её, чего она раньше мышей-то боялась!
Снегирушка-Милушка
Музыкальная канарейка
Муха и чудовище
ПО СЛЕДАМ

Снежная книга
По следам
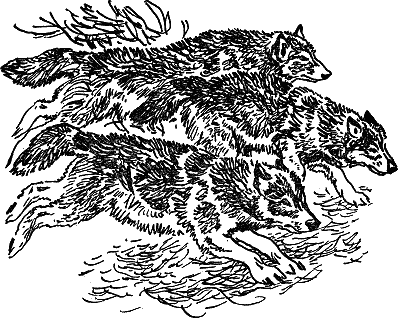 Скучно Егорке целый день в избе. Глянет в окошко: бело кругом. Замело лесникову избушку снегом. Белый стоит лес.
Скучно Егорке целый день в избе. Глянет в окошко: бело кругом. Замело лесникову избушку снегом. Белый стоит лес.
Знает Егорка полянку одну в лесу. Эх, и местечко! Как ни придёшь – стадо куропачей из-под ног. Фррр! Фррр! – во все стороны. Только стреляй!
Да что куропатки! Зайцы там здоровые! А намедни видал Егорка на поляне ещё след – неизвестно чей. С лисий будет, а когтищи прямые, длинные.
Вот бы самому выследить по следу диковинного зверя. Это тебе не заяц! Это и тятька похвалит.
Загорелось Егорке: сейчас в лес бежать!
Отец у окошка сапоги валяные подшивает.
– Тять, а тять!
– Чего тебе?
– Дозволь в лес: куропачей пострелять!
– Ишь, чего вздумал, на ночь глядя-то!
– Пусти-и, тять! – жалобно тянет Егорка.
Молчит отец; у Егорки дух заняло, – ой, не пустит!
Не любит лесник, чтоб парнишка без дела валандался. А и то сказать: охота пуще неволи. Почему мальчонке не промяться? Всё в избе да в избе…
– Ступай уж! Да гляди, чтоб до сумерок назад. А то у меня расправа коротка: отберу фузею и ремнём ещё настегаю.
Фузея – это ружьё. У Егорки своё, даром что парнишке четырнадцатый год. Отец из города привёз. Одноствольное, бердана называется. И птицу и зверя из него бить можно. Хорошее ружьё.
Отец знает: бердана для Егорки – первая вещь на свете. Пригрози отнять – всё сделает.
– Мигом обернусь, – обещает Егорка. Сам уже полушубок напялил и берданку с гвоздя сдёрнул.
– То-то, обернусь! – ворчит отец. – Вишь, по ночам волки кругом воют. Смотри у меня!
А Егорки уж нет в избе. Выскочил на двор, стал на лыжи – и в лес.
Отложил лесник сапоги. Взял топор, пошёл в сарай сани починять.
Смеркаться стало. Кончил старик топором стучать.
Время ужинать, а парнишки нет.
Слышно было: пальнул раза три. А с тех пор ничего.
Ещё время прошло. Лесник зашёл в избу, поправил фитиль в лампе, зажёг её. Вынул каши горшок из печи.
Егорки всё нет. И где запропастился, поганец?
Поел. Вышел на крыльцо.
Темь непроглядная.
Прислушался – ничего не слыхать.
Стоит лес чёрный, суком не треснет. Тихо, а кто его знает, что в нём?
– Воууу-уу!..
Вздрогнул лесник. Или показалось? Из лесу опять:
– Воуу-уу!..
Так и есть, волк! Другой подхватил, третий… целая стая!
Ёкнуло в груди: не иначе, на Егоркин след напали звери!
– Вуу-вооу-уу!..
Лесник заскочил в избу, выбежал – в руках двустволка. Вскинул к плечу, из дул полыхнул огонь, грохнули выстрелы.
Волки пуще. Слушает лесник: не отзовётся ли где Егорка?
И вот из лесу, из темноты, слабо-слабо: «бумм!»
Лесник сорвался с места, ружьё за спину, подвязал лыжи – и в темноту, туда, откуда донёсся Егоркин выстрел.
Темь в лесу – хоть плачь! Еловые лапы хватают за одежду, колют лицо. Деревья плотной стеной – не продерёшься.
А впереди волки. В голос тянут:
– Вуу-ооуууу!..
Лесник остановился; выстрелил ещё.
Нет ответа. Только волки.
Плохое дело!
Опять стал продираться сквозь чащу. Шёл на волчий голос.
Только успел подумать: «Воют, – пока, значит, ещё не добрались…» Тут разом вой оборвался. Тихо стало.
Прошёл лесник ещё вперёд и стал.
Выстрелил. Потом ещё. Слушал долго.
Тишь такая – прямо ушам больно.
Куда пойдёшь? Темно. А идти надо.
Двинулся наугад. Что ни шаг, то гуще.
Стрелял, кричал. Никто не отвечает.
И опять, уж сам не зная куда, шагал, продирался по лесу.
Наконец совсем из сил выбился, осип от крика.
Стал – и не знает, куда идти: давно потерял, в какой стороне дом.
Пригляделся: будто огонёк из-за деревьев? Или это волчьи глаза блестят?
Пошёл прямо на свет. Вышел из лесу: чистое место, посреди него изба. В окошке свет.
Глядит лесник, глазам не верит: своя изба стоит!
Круг, значит, дал в темноте по лесу.
На дворе ещё раз выстрелил.
Нет ответа. И волки молчат, не воют. Видно, добычу делят.
Пропал парнишка!
Скинул лесник лыжи, зашёл в избу. В избе тулупа не снял, сел на лавку. Голову на руки уронил да так и замер.
Лампа на столе зачадила, мигнула и погасла. Не заметил лесник.
Мутный забелел свет за окошком.
Лесник поднялся. Страшный стал: в одну ночь постарел и сгорбился.
Сунул за пазуху хлеба краюху, патроны взял, ружьё.
Вышел на двор – светло. Снег блестит.
Из ворот тянутся по снегу две борозды от Егоркиных лыж.
Лесник поглядел, махнул рукой. Подумал: «Если б луна ночью, может, и отыскал бы парнишку по белотропу. Пойти хоть косточки собрать! А то бывает же такое! – может, и жив ещё?..»
Приладил лыжи и побежал по следу.
Борозы свернули влево, повели вдоль опушки.
Бежит по ним лесник, сам глазами по снегу шарит. Не пропускает ни следа, ни царапины. Читает по снегу, как по книге.
А в книге той записано всё, что с Егоркой приключилось за ночь.
Глядит лесник на снег и всё понимает: где Егорка шёл и что делал.
Вот бежал парнишка опушкой. В стороне на снегу крестики тонких птичьих пальцев и острых перьев.
Сорок, значит, спугнул Егорка. Мышковали тут сороки: кругом мышиные петли-дорожки.
Тут зверька с земли поднял.
Белка по насту прыгала. Её след. Задние ноги у неё длинные – следок от них тоже длинный. Задние ноги белка вперёд за передние закидывает, когда по земле прыгает. А передние ноги короткие, маленькие – следок от них точечками.
Видит лесник: Егорка белку на дерево загнал, там её и стукнул. Свалил в снег с ветки.
«Меткий парнишка!» – думает лесник.
Глядит: здесь вот Егорка подобрал добычу и дальше пошёл в лес.
Покружили, покружили следы по лесу и вывели на большую поляну.
На поляне Егорка, видать, разглядывал заячьи следы – малики.
Густо натропили зайцы: тут у них и петли и смётки – прыжки. Только Егорка не стал распутывать заячьи хитрости: лыжные борозды прямо через малики идут.
Вон дальше снег в стороне взрыхлён, птичьи следы и обгорелый пыж на снегу.
Куропатки это белые. Целая стая спала тут, в снег зарывшись.
Услышали птицы Егорку, вспорхнули. А он выпалил. Все улетели; одна шмякнулась. Видно, как билась на снегу.
Эх, лихой рос охотник: птицу на лету валил! Такой и от волков отбиваться может, даром им в зубы не дастся.
Заторопился лесник дальше, сами ноги бегут, поспевают.
Привёл след к кусту – и стоп!
Что за леший?
Остановился Егорка за кустом, толчётся лыжами на месте, нагнулся – и рукой в снег. И в сторону побежал.
Метров сорок прямо тянется след, а дальше колесить стал. Э, да тут звериные следы! Величиной с лисьи, и с когтями…
Что за диковина? Сроду такого следа не видано: не велика лапа, а когтищи с вершок длиной, прямые, как гвозди!
Кровь на снегу: пошёл дальше зверь на трёх. Правую, переднюю, Егорка ему зарядом перешиб.
Колесит по кустам, гонит зверя.
Где уж тут было парнишке домой ворочаться: подранка разве охотник бросит?
Только вот что за зверь? Больно здоровые когтищи! Тяпнет такими по животу из-за куста… Парнишке много ли надо!
Глубже и глубже в лес лыжный след – сквозь кусты, мимо пней, вокруг поваленных ветром деревьев. Ещё на корягу налетишь, лыжу поломаешь!
Эх, желторотый! Заряд, что ли, бережёт? Вот это место – за вывороченными корнями – и добить бы зверя. Некуда ему тут податься.
А руками разве скоро возьмёшь? Сунься к нему, к раненому! Обозлённый-то и хомячишко в руки не дастся, а этот зверь, видать, тяжёлый: дырья от него в снегу глубокие.
Да что же это: никак снег падает? Беда теперь: занесёт след, тогда как быть?
Ходу! Ходу!
Кружит, колесит по лесу звериный след, за ним лыжный. Конца не видно.
А снег гуще, гуще.
Впереди просвет. Лес пошёл редкий, широкоствольный. Тут скорей ещё следы засыпает, всё хуже их видать, трудней разбирать.
Вот наконец: догнал тут Егорка зверя! Снег примят, кровь на нём, серая жёсткая шерсть.
Поглядеть надо по шерсти-то, что за зверь такой. Только неладно тут как-то наслежено… На оба колена парнишка в снег упал…
А что там впереди торчит?
Лыжа! Другая! Узкие глубокие ямы в снегу: бежал Егорка, провалился…
И вдруг – спереди, справа, слева, наперерез – машистые, словно собачьи, следы.
Волки! Настигли, проклятые!
Остановился лесник: на что-то твёрдое наткнулась его правая лыжа.
Глянул: бердана лежит Егоркина.
Так вот оно что! Мёртвой хваткой схватил вожак за горло, выронил парнишка ружьё из рук, – тут и вся стая подоспела…
Конец! Взглянул лесник вперёд: хоть бы одёжи клок подобрать!
Будто серая тень мелькнула за деревьями. И сейчас же оттуда глухое рычание и тявк, точно псы сцепились.
Выпрямился лесник, сдёрнул ружьё с плеча, рванул вперёд.
За деревьями над кучей окровавленных костей, оскалив зубы и подняв шерсть, стояли два волка. Кругом валялись, сидели ещё несколько…
Страшно вскрикнул лесник и, не целясь, выпалил сразу из обоих стволов.
Ружьё крепко отдало ему в плечо. Он покачнулся и упал в снег на колени.
Когда разошёлся пороховой дым, волков уже не было.
В ушах звенело от выстрела. И сквозь звон ему чудился жалобный Егоркин голос: «Тять!»
Лесник зачем-то снял шапку. Хлопья снега падали на ресницы, мешали глядеть.
– Тять!.. – так внятно опять почудился тихий Егоркин голос.
– Егорушка! – простонал лесник.
– Сними, тять!
Лесник испуганно вскочил, обернулся… На суку большого дерева, обхватив руками толстый ствол, сидел живой Егорка.
– Сынок! – вскрикнул лесник и без памяти кинулся к дереву.
Окоченевший Егорка мешком свалился на руки отцу.
Духом домчался лесник до дому с Егоркой на спине. Только раз пришлось ему остановиться – Егорка пристал, лепечет одно:
– Тять, бердану мою подбери, бердану…
Лесник сидел у него в ногах, поил его горячим чаем с блюдечка.
– Слышу, волки близко, – рассказывал Егорка. – Сдрейфил я! Ружьё выронил, лыжи в снегу завязли, бросил. На первое дерево влез, – они уж тут. Скачут, окаянные, зубами щёлкают, меня достать хотят. Ух, и страшно, тятя!
– Молчи, сынок, молчи, родимый! А скажи-ка, стрелок, что за зверя ты подшиб?
– А барсука, тятя! Здоровый барсучище, что твоя свинья. Видал когти-то?
– Барсук, говоришь? А мне и невдомёк. И верно: лапа-то у него когтистая. Ишь, вылез в оттепель, засоня! Спит он в мороз, редкую зиму вылезет. Погоди вот – весна придёт, я тебе нору его покажу. Знатная нора! Лисе нипочём такой не вырыть.
Но Егорка уже не слышал. Голова его свалилась набок, глаза сами закрылись. Он спал.
Лесник взял у него из рук блюдце, плотней прикрыл сына овчиной и глянул в окно.
За окном расходилась метель. Сыпала, сыпала и кружила в воздухе белые лёгкие хлопья – засыпала путаные лесные следы.

– А ты, Аришка, пока хоть в чулан сходи, молока крынку принеси.
– Да-а!.. А в чулане – мыши.
– А хоть бы и так! Не съедят они тебя.
– Они хвостатые. Я их боюся.
Ну, что с такой трусишкой поделаешь?!
Раз летом убирали колхозники сено на дальнем покосе в большом лесу. Аришка от матери ни на шаг, цепляется за юбку, – работать не даёт.
Федора и придумала:
– Ты бы, девушка, в лес сходила по малину.
Тут в лесу страсть сколько малины. Хоть лукошко набери.
Аришка – первая в колхозе сластёна. К ягодам липнет, как муха к сахару.
– Где, маменька, где тут малинка?
– Да вон на опушке. Идём, покажу.
Как увидела Аришка на кустах красные ягоды, так к ним и кинулась.
– Далёко-то в лес, слышь, не ходи, доченька, – наставляла Федора. – А напугаешься чего – меня кличь. Я тут рядом буду, никуда не уйду.
* * *
Славно поработалось в тот день Федоре: ни разу её из лесу Аришка не окликнула.Пришло время полдничать. Только собралась Федора за дочуркой в лес, глядь – Аришка сама идёт. Все щёки у неё в малиновом соку и в руках – полное лукошко ягоды.
– Умница, доченька! – обрадовалась Федора. – И где же это ты столько много ягоды на брала?
– А там подальше, за ручьём, в большом малиннике.
– Ишь расхрабрилась, куда забрела! Говорила ведь я тебе: далеко в лес не заходи. Как там тебя звери не съели?
– Какие там звери? – смеётся Аришка. – Один медвежонок всего и был.
Тут уж Федоре пришёл черёд пугаться.
– Как… медвежонок? Какой такой медвежонок?..
– Да смешной такой, хорошенький. Мохнатый весь, носик чёрненький, а глазки зелёные-зелёные!
– Батюшки-светы! И ты не испугалась?
– И не подумала! Я ему: «Здравствуй, Мишук!» А он, бедненький, напугался – да на дерево от меня. Я ему кричу: «Слазь, Мишенька, слазь! Дай только поглажу!» А он выше да выше. Так и не слез ко мне. Поди, и сейчас на том дереве сидит, с перепугу-то.
У Федоры так сердце и оборвалось.
– А в кустах, доченька, никого там не приметила?
– Был кто-то, ходил, сучьями потрескивал да всё ворчал толстым голосом. Тоже, верно, малинку собирал. Уж я звала-звала: «Дяденька, пособи медвежонка поймать!» Да не вышел он ко мне.
– Дитя неразумное! – всплеснула руками Федора. – Да ведь это не иначе как сама медведиха кругом ходила, своего медвежонка берегла! Да как только она тебя насмерть не разорвала!
А колхозники, как такое услыхали, сейчас подхватили кто топор, кто вилы – да в лес!
В малиннике за ручьём и на самом деле нашли медведицу. Только она им не далась, ушла от них с другим своим медвежонком.
А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изловили и Аришке в подарок на ремешке привели.
Случилось это всё в прошлом году.
Теперь медвежонок с большого медведя вырос, а от Аришки ни на шаг, как, бывало, Аришка от матери. Сама Аришка – та всё ещё маленькая, только ещё в первый класс пошла, и над партой её чуть видно. Мишука своего нисколько не боится, хоть он вон какое страшилище вырос: лошади от него шарахаются и трактор на дыбы становится.
Нынче уж Федорину дочурку никто Аришкой-Трусишкой не зовёт – все Аришей с Мишей величают. Она старательная такая стала, всем девчонкам в пример, матери помощница. И за водой на пруд, и в погреб, и на чердак ходит.
Вот и пойми её, чего она раньше мышей-то боялась!
Снегирушка-Милушка
Жил у нас с бабушкой летом снегирушка. Грудка розовая, как кисель. Ручной совсем. Такой милушка! И очень музыку любил. Заведёшь патефон – он сейчас насвистывать.
Мы ему всё больше ставили старинную песенку про охотника и зайку. Он и выучил её. Целыми днями, бывало, свистит себе из своей большой проволочной клетки:
А потом, осенью, – заболел. Заболел наш снегирушка – и смолк. Сидит – хохлится, зёрна не клюёт и молчит.
Пёрышки у него стали падать. Это он линял. Долго линял – хохлился. А когда перелинял и выздоровел, – опять повеселел.
Повеселеть-то повеселел снегирушка, а песенку нашу любимую забыл. Насвистывает что-то своё, птичье, а про зайку – никак. Хотя мы ему по-прежнему патефон заводили.
Заведём – он слушает, слушает… Смирно сидит, будто что-то вспомнить силится, – и не может.
К зиме мы кота взяли у соседей, большого, серого: очень нас мыши одолели. Тут уж снегирушка и совсем замолк.
Раз солнечным весенним утром мы опять поставили эту пластинку:
Я и говорю бабушке:
– Я не знал, что птичкам так тяжело линять.
Наш снегирушка совсем слух потерял, как маленькая Маша после кори.
Бабушка говорит:
– Может быть, это он кота боится. Надо кота унести.
А снегирушка из клетки вдруг как засвистит:
Мы ему всё больше ставили старинную песенку про охотника и зайку. Он и выучил её. Целыми днями, бывало, свистит себе из своей большой проволочной клетки:
Так славно насвистывал – все удивлялись.
Шёл охотничек лесочком. —
Вот идёт, идёт, глядит,—
А под кустичком-кусточком,
А под кустичком-кусточком
Заинька сидит…
А потом, осенью, – заболел. Заболел наш снегирушка – и смолк. Сидит – хохлится, зёрна не клюёт и молчит.
Пёрышки у него стали падать. Это он линял. Долго линял – хохлился. А когда перелинял и выздоровел, – опять повеселел.
Повеселеть-то повеселел снегирушка, а песенку нашу любимую забыл. Насвистывает что-то своё, птичье, а про зайку – никак. Хотя мы ему по-прежнему патефон заводили.
Заведём – он слушает, слушает… Смирно сидит, будто что-то вспомнить силится, – и не может.
К зиме мы кота взяли у соседей, большого, серого: очень нас мыши одолели. Тут уж снегирушка и совсем замолк.
Раз солнечным весенним утром мы опять поставили эту пластинку:
Снегирушка ни гу-гу.
Ну-тка, борзая, хватай-ка! —
Тут охотничек сказал.
Я и говорю бабушке:
– Я не знал, что птичкам так тяжело линять.
Наш снегирушка совсем слух потерял, как маленькая Маша после кори.
Бабушка говорит:
– Может быть, это он кота боится. Надо кота унести.
А снегирушка из клетки вдруг как засвистит:
Мы так и ахнули: вспомнил ведь песенку, милушка!
Я не ваш! – ответил зайка, —
Я не ваш! – ответил зайка, —
Прыг – и ускакал!
Музыкальная канарейка
Ещё была у моей бабушки канарейка. Бабушка её очень берегла, потому что канарейка была тоненькая, нежная – вся жёлтенькая, – и пела чудесно. Эта канарейка тоже музыку обожала, только самую хорошую. Бабушка ей всегда самые лучшие свои пластинки заводила, разные там концерты.
Вот как-то бабушка ушла из дому, а я назвал к себе ребят. На дворе был дождь, нам было скучно, и мы придумали устроить свой оркестр.
Я взял гребёнку и тонкую бумажку, сделал себе губную гармошку. А ребята – один себе стакан поставил – ложечкой стукать; другой – пустое ведро кверх ногами – вместо барабана; у третьего трещотка деревянная была. И начали мы играть известную песенку: «Мы едем, едем, едем в далёкие края!»
И совсем уже было у нас на лад пошло, начало даже что-то получаться, – вдруг входит бабушка. Вошла бабушка, улыбнулась на нашу музыку. Потом посмотрела на клетку да как всплеснёт руками:
– Ах, что вы делаете! Вы мою канарейку убили!
А мы к её клетке даже близко не подходили.
Смотрим – правда, канарейка лежит на песке, глаза закрыты и ножки кверху.
Бабушка сразу всех ребят зонтиком выгнала и давай скорей свою канарейку сердечными каплями отхаживать.
Отходила всё-таки.
Бабушка немножко успокоилась и говорит:
– Глупые какие! Разве можно при ней такой отвратительный шум устраивать! Ведь у неё замечательно нежный слух. Она не может вытерпеть ваших трещоток, вёдер и губных гармошек. Это очень музыкальная птичка-певичка, и с ней сделался настоящий обморок от вашей безобразной игры.
Вот как-то бабушка ушла из дому, а я назвал к себе ребят. На дворе был дождь, нам было скучно, и мы придумали устроить свой оркестр.
Я взял гребёнку и тонкую бумажку, сделал себе губную гармошку. А ребята – один себе стакан поставил – ложечкой стукать; другой – пустое ведро кверх ногами – вместо барабана; у третьего трещотка деревянная была. И начали мы играть известную песенку: «Мы едем, едем, едем в далёкие края!»
И совсем уже было у нас на лад пошло, начало даже что-то получаться, – вдруг входит бабушка. Вошла бабушка, улыбнулась на нашу музыку. Потом посмотрела на клетку да как всплеснёт руками:
– Ах, что вы делаете! Вы мою канарейку убили!
А мы к её клетке даже близко не подходили.
Смотрим – правда, канарейка лежит на песке, глаза закрыты и ножки кверху.
Бабушка сразу всех ребят зонтиком выгнала и давай скорей свою канарейку сердечными каплями отхаживать.
Отходила всё-таки.
Бабушка немножко успокоилась и говорит:
– Глупые какие! Разве можно при ней такой отвратительный шум устраивать! Ведь у неё замечательно нежный слух. Она не может вытерпеть ваших трещоток, вёдер и губных гармошек. Это очень музыкальная птичка-певичка, и с ней сделался настоящий обморок от вашей безобразной игры.
Муха и чудовище
Бабушка говорит: мало любить всякую животинку, её понимать ещё надо, – а это не так-то просто.
Удивляюсь, прямо, что тут мудрёного?
Один раз лежу в траве на солнышке – загораю.
Вдруг – бац! – у меня перед носом села муха. На лист сирени. Да не простая муха – серая комнатная, а замечательно какая красивая. Майка на ней зелёная, трусы синие, всё яркое, блестящее, в обтяжку, как облитое. Бывают такие блестящие мухи.
Села и сидит. Тоже, видно, загорать прилетела. И, видно, ей скучно: лениво так брюшко себе почесала задней ножкой и зевнула во всю пасть.
Хотя, может быть, это мне только так показалось, что пасть. Спорить не буду. По правде, я даже не знаю, есть ли у мухи пасть. Надо будет как-нибудь через увеличительное стекло посмотреть. Хобот-то у мух есть: это простыми глазами видно. А раз есть хобот, – значит, должна быть и пасть: иначе куда же ей хоботом еду класть? Я слона видел. Он хоботом взял у мальчика булку и отправил её себе в пасть. У него здоровая пасть. Наверное, и у мухи не хуже.
Ну, одним словом, вижу: мухе скучно сидеть одной на листе и загорать. И она очень обрадовалась, когда вдруг кто-то стал снизу подниматься на лист.
Показалась зелёная гладкая голова с длинным кривым рогом и двумя ярко-красными глазами под ним. Потом толстая шея…
Муха было подскочила к ней, – а шея всё вытягивается, вытягивается из-под листа – толстая, жирная, вся в перетяжках. Голова всё выше, выше… и уставилась на муху своими красными глазами.
Муха – брык! – со всех ног и отскочила на дальний край листа.
Я так и прыснул со смеху. Кричу ей:
– Струсила, струсила! – хотя, правда, рогатое чудовище и мне показалось довольно страшным.
Мухе, конечно, стыдно. Она сделала вид, будто и не думала удирать, а так, отскочила только, чтобы удобнее было драться. Она поплевала себе в ладошки и стала засучивать рукава: «А ну, выходи на кулачки!»
Видели, как это мухи делают? Подожмут передние ножки и ножкой об ножку сучат, – точь-в-точь рукава закатывают. Хотя раз майка и трусы у них – всё это их собственное тело, то никаких рукавов у них и нет. А замечательно похоже это у них выходит!
Чудовище не двигалось.
Это придало мухе нахальства. Она опустила руки и на шестереньках бочком, бочком начала наступать на чудовище.
Я подумал: «Вот это так здорово! Сейчас поднимется на самые задние ноги и разыграет дурачка на четыре кулачка! Вот это так бокс!»
Тут чудовище тихонько шевельнулось и направило свой кривой рог прямо ей в грудь.
Муха – стоп! Но не бежит. Размахнулась сразу двумя средними ножками – и давай себя гладить по бёдрам, по трусам, – приноравливается, значит, с какой стороны удобнее ударить.
Я понимаю, я всё понимаю! Мальчишки у нас тоже так делают перед дракой.
И вдруг – вот уж этого я сам не ожидал! – рядом с рогатой головой поднимается из-под листа вторая голова – тупорылая, такая же зелёная, только безрогая.
Муха как подскочит – жжж! – замахала крыльями и драла по воздуху. Ещё бы: сразу с двумя такими чудовищами биться! Всякий струсит.
Но вот тут-то самое смешное: вторая голова стала на ножки, за ней выпялилось, поднялось на лист всё тело чудовища – и оказалось, что чудовище-то одно, а первая его голова, которая с рогом, совсем и не голова, а наоборот – хвост! Оказалось, – это гусеница такая толстая – сиреневый бражник, что ли, называется. И на хвосте у неё не глаза, а просто такие точечки красные.
Значит, муха с хвостом воевать собиралась. Вот дурёха-то!
Я гусеницу сковырнул себе в кепку и побежал скорей бабушке показать и рассказать про муху.
Бабушка стояла посреди избы и выгоняла мух в открытое окно. Машет полотенцем и кричит:
– Кыш, мухи! Кыш, кыш отсюда!
Я ей всё рассказал, всё объяснил, как было, даже сам показал, как муха рукава засучивала и по трусам себя гладила. А бабушка ну хохотать надо мной!
Вот уж не понимаю, что тут такого смешного!
Прямо до слёз дохохоталась и говорит:
– Ох, и мастер ты у меня из мухи слона, делать! Муха и драться-то не собиралась на кулачки, просто она чистилась. И совсем она не такая глупая; она лучше тебя, верно, знала, что это за чудовище лезет, где у него хвост, а где голова. Всё это ты из себя выдумал, потому что по себе судишь. Подумай только: разве мухи дерутся на кулачки? У них и кулаков-то нет.
Вот подите поговорите с ней! Ну, что она понимает в драке?
Я не стал с ней спорить, – пусть думает, что хочет. Я только сказал:
– Бабушка, а ты зачем кричишь: «Кыш, мухи, кыш, кыш, кыш из комнаты!» Думаешь, они слова твои понимают?
Ну, бабушка мне ничего не ответила. А всё-таки потом уж больше не кричала на мух: «Кыш, мухи, кыш!»

Удивляюсь, прямо, что тут мудрёного?
Один раз лежу в траве на солнышке – загораю.
Вдруг – бац! – у меня перед носом села муха. На лист сирени. Да не простая муха – серая комнатная, а замечательно какая красивая. Майка на ней зелёная, трусы синие, всё яркое, блестящее, в обтяжку, как облитое. Бывают такие блестящие мухи.
Села и сидит. Тоже, видно, загорать прилетела. И, видно, ей скучно: лениво так брюшко себе почесала задней ножкой и зевнула во всю пасть.
Хотя, может быть, это мне только так показалось, что пасть. Спорить не буду. По правде, я даже не знаю, есть ли у мухи пасть. Надо будет как-нибудь через увеличительное стекло посмотреть. Хобот-то у мух есть: это простыми глазами видно. А раз есть хобот, – значит, должна быть и пасть: иначе куда же ей хоботом еду класть? Я слона видел. Он хоботом взял у мальчика булку и отправил её себе в пасть. У него здоровая пасть. Наверное, и у мухи не хуже.
Ну, одним словом, вижу: мухе скучно сидеть одной на листе и загорать. И она очень обрадовалась, когда вдруг кто-то стал снизу подниматься на лист.
Показалась зелёная гладкая голова с длинным кривым рогом и двумя ярко-красными глазами под ним. Потом толстая шея…
Муха было подскочила к ней, – а шея всё вытягивается, вытягивается из-под листа – толстая, жирная, вся в перетяжках. Голова всё выше, выше… и уставилась на муху своими красными глазами.
Муха – брык! – со всех ног и отскочила на дальний край листа.
Я так и прыснул со смеху. Кричу ей:
– Струсила, струсила! – хотя, правда, рогатое чудовище и мне показалось довольно страшным.
Мухе, конечно, стыдно. Она сделала вид, будто и не думала удирать, а так, отскочила только, чтобы удобнее было драться. Она поплевала себе в ладошки и стала засучивать рукава: «А ну, выходи на кулачки!»
Видели, как это мухи делают? Подожмут передние ножки и ножкой об ножку сучат, – точь-в-точь рукава закатывают. Хотя раз майка и трусы у них – всё это их собственное тело, то никаких рукавов у них и нет. А замечательно похоже это у них выходит!
Чудовище не двигалось.
Это придало мухе нахальства. Она опустила руки и на шестереньках бочком, бочком начала наступать на чудовище.
Я подумал: «Вот это так здорово! Сейчас поднимется на самые задние ноги и разыграет дурачка на четыре кулачка! Вот это так бокс!»
Тут чудовище тихонько шевельнулось и направило свой кривой рог прямо ей в грудь.
Муха – стоп! Но не бежит. Размахнулась сразу двумя средними ножками – и давай себя гладить по бёдрам, по трусам, – приноравливается, значит, с какой стороны удобнее ударить.
Я понимаю, я всё понимаю! Мальчишки у нас тоже так делают перед дракой.
И вдруг – вот уж этого я сам не ожидал! – рядом с рогатой головой поднимается из-под листа вторая голова – тупорылая, такая же зелёная, только безрогая.
Муха как подскочит – жжж! – замахала крыльями и драла по воздуху. Ещё бы: сразу с двумя такими чудовищами биться! Всякий струсит.
Но вот тут-то самое смешное: вторая голова стала на ножки, за ней выпялилось, поднялось на лист всё тело чудовища – и оказалось, что чудовище-то одно, а первая его голова, которая с рогом, совсем и не голова, а наоборот – хвост! Оказалось, – это гусеница такая толстая – сиреневый бражник, что ли, называется. И на хвосте у неё не глаза, а просто такие точечки красные.
Значит, муха с хвостом воевать собиралась. Вот дурёха-то!
Я гусеницу сковырнул себе в кепку и побежал скорей бабушке показать и рассказать про муху.
Бабушка стояла посреди избы и выгоняла мух в открытое окно. Машет полотенцем и кричит:
– Кыш, мухи! Кыш, кыш отсюда!
Я ей всё рассказал, всё объяснил, как было, даже сам показал, как муха рукава засучивала и по трусам себя гладила. А бабушка ну хохотать надо мной!
Вот уж не понимаю, что тут такого смешного!
Прямо до слёз дохохоталась и говорит:
– Ох, и мастер ты у меня из мухи слона, делать! Муха и драться-то не собиралась на кулачки, просто она чистилась. И совсем она не такая глупая; она лучше тебя, верно, знала, что это за чудовище лезет, где у него хвост, а где голова. Всё это ты из себя выдумал, потому что по себе судишь. Подумай только: разве мухи дерутся на кулачки? У них и кулаков-то нет.
Вот подите поговорите с ней! Ну, что она понимает в драке?
Я не стал с ней спорить, – пусть думает, что хочет. Я только сказал:
– Бабушка, а ты зачем кричишь: «Кыш, мухи, кыш, кыш, кыш из комнаты!» Думаешь, они слова твои понимают?
Ну, бабушка мне ничего не ответила. А всё-таки потом уж больше не кричала на мух: «Кыш, мухи, кыш!»

ПО СЛЕДАМ

Снежная книга
Набродили, наследили звери на снегу. Не сразу поймёшь, что тут было.
Налево под кустом начинается заячий след. От задних лап следок вытянутый, длинный; от передних – круглый, маленький.
Пошёл заячий след по полю. По одну сторону его – другой след, побольше; в снегу от когтей дырки – лисий след. А по другую сторону
заячьего следа ещё след: тоже лисий, только назад ведёт.
Заячий дал круг по полю; лисий – тоже. Заячий в сторону; лисий за ним. Оба следа кончаются посреди поля.
А вот в стороне – опять заячий след. Пропадает, дальше идёт…
Идёт, идёт, идёт – и вдруг оборвался – как под землю ушёл! И где пропал, там снег примят, и по сторонам будто кто пальцами мазнул.
Куда лиса делась?
Куда заяц пропал?
Разберём по складам.
Стоит куст. С него кора содрана. Под кустом натоптано, наслежено. Следы заячьи. Тут заяц жировал: с куста кору глодал. Встанет на задние лапы, отдерёт зубами кусок, сжуёт, переступит лапками, рядом ещё кусок сдерёт. Наелся и спать захотел.
Пошёл искать, где бы спрятаться.
А вот – лисий след, рядом с заячьим. Было так: ушёл заяц спать. Час проходит, другой. Идёт полем лиса.
Глядь, заячий след по снегу! Лиса нос к земле.
Принюхалась: след свежий!
Побежала по следу.
Лиса хитра, и заяц не прост: умел свой след запутать. Скакал, скакал по полю, завернул, выкружил большую петлю, свой же след пересёк – и в сторону.
След пока ещё ровный, неторопливый: спокойно шёл заяц, беды за собой не чуял.
Лиса бежала, бежала – видит: поперёк следа свежий след.
Не догадалась, что заяц петлю сделал.
Свернула вбок – по свежему следу: бежит, бежит – и стала: оборвался след! Куда теперь?
А дело простое: это новая заячья хитрость: двойка.
Заяц сделал петлю, пересёк свой след, прошёл немного вперёд, а потом обернулся – и назад по своему следу.
Аккуратно шёл – лапка в лапку.
Лиса постояла, постояла – и назад.
Опять к перекрёстку подошла.
Всю петлю выследила.
Идёт, идёт, видит – обманул её заяц: никуда след не ведёт!
Фыркнула она и ушла в лес по своим делам.
А было вот как: заяц двойку сделал – прошёл назад по своему следу.
До петли не дошёл – и махнул через сугроб – в сторону.
Через куст перескочил и залёг под кучу хвороста. Тут и лежал, пока лиса его по следу искала.
А когда лиса ушла, – как прыснет из-под хвороста – и в чащу.
Прыжки широкие, – лапки к лапкам: гонный след.
Мчит без оглядки. Пень по дороге. Заяц мимо. А на пне…
А на пне сидит большой филин.
Увидал зайца, снялся, так за ним и стелет. Настиг и цап в спину всеми когтями!
Ткнулся заяц в снег, а филин насел, крыльями по снегу бьёт, от земли отрывает.
Где заяц упал, там снег примят. Где филин крыльями хлопал, – там знаки на снегу, будто от пальцев.
Улетел заяц в лес. Оттого и следа дальше нет.
Налево под кустом начинается заячий след. От задних лап следок вытянутый, длинный; от передних – круглый, маленький.
Пошёл заячий след по полю. По одну сторону его – другой след, побольше; в снегу от когтей дырки – лисий след. А по другую сторону
заячьего следа ещё след: тоже лисий, только назад ведёт.
Заячий дал круг по полю; лисий – тоже. Заячий в сторону; лисий за ним. Оба следа кончаются посреди поля.
А вот в стороне – опять заячий след. Пропадает, дальше идёт…
Идёт, идёт, идёт – и вдруг оборвался – как под землю ушёл! И где пропал, там снег примят, и по сторонам будто кто пальцами мазнул.
Куда лиса делась?
Куда заяц пропал?
Разберём по складам.
Стоит куст. С него кора содрана. Под кустом натоптано, наслежено. Следы заячьи. Тут заяц жировал: с куста кору глодал. Встанет на задние лапы, отдерёт зубами кусок, сжуёт, переступит лапками, рядом ещё кусок сдерёт. Наелся и спать захотел.
Пошёл искать, где бы спрятаться.
А вот – лисий след, рядом с заячьим. Было так: ушёл заяц спать. Час проходит, другой. Идёт полем лиса.
Глядь, заячий след по снегу! Лиса нос к земле.
Принюхалась: след свежий!
Побежала по следу.
Лиса хитра, и заяц не прост: умел свой след запутать. Скакал, скакал по полю, завернул, выкружил большую петлю, свой же след пересёк – и в сторону.
След пока ещё ровный, неторопливый: спокойно шёл заяц, беды за собой не чуял.
Лиса бежала, бежала – видит: поперёк следа свежий след.
Не догадалась, что заяц петлю сделал.
Свернула вбок – по свежему следу: бежит, бежит – и стала: оборвался след! Куда теперь?
А дело простое: это новая заячья хитрость: двойка.
Заяц сделал петлю, пересёк свой след, прошёл немного вперёд, а потом обернулся – и назад по своему следу.
Аккуратно шёл – лапка в лапку.
Лиса постояла, постояла – и назад.
Опять к перекрёстку подошла.
Всю петлю выследила.
Идёт, идёт, видит – обманул её заяц: никуда след не ведёт!
Фыркнула она и ушла в лес по своим делам.
А было вот как: заяц двойку сделал – прошёл назад по своему следу.
До петли не дошёл – и махнул через сугроб – в сторону.
Через куст перескочил и залёг под кучу хвороста. Тут и лежал, пока лиса его по следу искала.
А когда лиса ушла, – как прыснет из-под хвороста – и в чащу.
Прыжки широкие, – лапки к лапкам: гонный след.
Мчит без оглядки. Пень по дороге. Заяц мимо. А на пне…
А на пне сидит большой филин.
Увидал зайца, снялся, так за ним и стелет. Настиг и цап в спину всеми когтями!
Ткнулся заяц в снег, а филин насел, крыльями по снегу бьёт, от земли отрывает.
Где заяц упал, там снег примят. Где филин крыльями хлопал, – там знаки на снегу, будто от пальцев.
Улетел заяц в лес. Оттого и следа дальше нет.
По следам
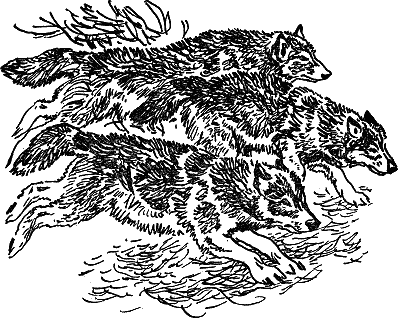
Знает Егорка полянку одну в лесу. Эх, и местечко! Как ни придёшь – стадо куропачей из-под ног. Фррр! Фррр! – во все стороны. Только стреляй!
Да что куропатки! Зайцы там здоровые! А намедни видал Егорка на поляне ещё след – неизвестно чей. С лисий будет, а когтищи прямые, длинные.
Вот бы самому выследить по следу диковинного зверя. Это тебе не заяц! Это и тятька похвалит.
Загорелось Егорке: сейчас в лес бежать!
Отец у окошка сапоги валяные подшивает.
– Тять, а тять!
– Чего тебе?
– Дозволь в лес: куропачей пострелять!
– Ишь, чего вздумал, на ночь глядя-то!
– Пусти-и, тять! – жалобно тянет Егорка.
Молчит отец; у Егорки дух заняло, – ой, не пустит!
Не любит лесник, чтоб парнишка без дела валандался. А и то сказать: охота пуще неволи. Почему мальчонке не промяться? Всё в избе да в избе…
– Ступай уж! Да гляди, чтоб до сумерок назад. А то у меня расправа коротка: отберу фузею и ремнём ещё настегаю.
Фузея – это ружьё. У Егорки своё, даром что парнишке четырнадцатый год. Отец из города привёз. Одноствольное, бердана называется. И птицу и зверя из него бить можно. Хорошее ружьё.
Отец знает: бердана для Егорки – первая вещь на свете. Пригрози отнять – всё сделает.
– Мигом обернусь, – обещает Егорка. Сам уже полушубок напялил и берданку с гвоздя сдёрнул.
– То-то, обернусь! – ворчит отец. – Вишь, по ночам волки кругом воют. Смотри у меня!
А Егорки уж нет в избе. Выскочил на двор, стал на лыжи – и в лес.
Отложил лесник сапоги. Взял топор, пошёл в сарай сани починять.
Смеркаться стало. Кончил старик топором стучать.
Время ужинать, а парнишки нет.
Слышно было: пальнул раза три. А с тех пор ничего.
Ещё время прошло. Лесник зашёл в избу, поправил фитиль в лампе, зажёг её. Вынул каши горшок из печи.
Егорки всё нет. И где запропастился, поганец?
Поел. Вышел на крыльцо.
Темь непроглядная.
Прислушался – ничего не слыхать.
Стоит лес чёрный, суком не треснет. Тихо, а кто его знает, что в нём?
– Воууу-уу!..
Вздрогнул лесник. Или показалось? Из лесу опять:
– Воуу-уу!..
Так и есть, волк! Другой подхватил, третий… целая стая!
Ёкнуло в груди: не иначе, на Егоркин след напали звери!
– Вуу-вооу-уу!..
Лесник заскочил в избу, выбежал – в руках двустволка. Вскинул к плечу, из дул полыхнул огонь, грохнули выстрелы.
Волки пуще. Слушает лесник: не отзовётся ли где Егорка?
И вот из лесу, из темноты, слабо-слабо: «бумм!»
Лесник сорвался с места, ружьё за спину, подвязал лыжи – и в темноту, туда, откуда донёсся Егоркин выстрел.
Темь в лесу – хоть плачь! Еловые лапы хватают за одежду, колют лицо. Деревья плотной стеной – не продерёшься.
А впереди волки. В голос тянут:
– Вуу-ооуууу!..
Лесник остановился; выстрелил ещё.
Нет ответа. Только волки.
Плохое дело!
Опять стал продираться сквозь чащу. Шёл на волчий голос.
Только успел подумать: «Воют, – пока, значит, ещё не добрались…» Тут разом вой оборвался. Тихо стало.
Прошёл лесник ещё вперёд и стал.
Выстрелил. Потом ещё. Слушал долго.
Тишь такая – прямо ушам больно.
Куда пойдёшь? Темно. А идти надо.
Двинулся наугад. Что ни шаг, то гуще.
Стрелял, кричал. Никто не отвечает.
И опять, уж сам не зная куда, шагал, продирался по лесу.
Наконец совсем из сил выбился, осип от крика.
Стал – и не знает, куда идти: давно потерял, в какой стороне дом.
Пригляделся: будто огонёк из-за деревьев? Или это волчьи глаза блестят?
Пошёл прямо на свет. Вышел из лесу: чистое место, посреди него изба. В окошке свет.
Глядит лесник, глазам не верит: своя изба стоит!
Круг, значит, дал в темноте по лесу.
На дворе ещё раз выстрелил.
Нет ответа. И волки молчат, не воют. Видно, добычу делят.
Пропал парнишка!
Скинул лесник лыжи, зашёл в избу. В избе тулупа не снял, сел на лавку. Голову на руки уронил да так и замер.
Лампа на столе зачадила, мигнула и погасла. Не заметил лесник.
Мутный забелел свет за окошком.
Лесник поднялся. Страшный стал: в одну ночь постарел и сгорбился.
Сунул за пазуху хлеба краюху, патроны взял, ружьё.
Вышел на двор – светло. Снег блестит.
Из ворот тянутся по снегу две борозды от Егоркиных лыж.
Лесник поглядел, махнул рукой. Подумал: «Если б луна ночью, может, и отыскал бы парнишку по белотропу. Пойти хоть косточки собрать! А то бывает же такое! – может, и жив ещё?..»
Приладил лыжи и побежал по следу.
Борозы свернули влево, повели вдоль опушки.
Бежит по ним лесник, сам глазами по снегу шарит. Не пропускает ни следа, ни царапины. Читает по снегу, как по книге.
А в книге той записано всё, что с Егоркой приключилось за ночь.
Глядит лесник на снег и всё понимает: где Егорка шёл и что делал.
Вот бежал парнишка опушкой. В стороне на снегу крестики тонких птичьих пальцев и острых перьев.
Сорок, значит, спугнул Егорка. Мышковали тут сороки: кругом мышиные петли-дорожки.
Тут зверька с земли поднял.
Белка по насту прыгала. Её след. Задние ноги у неё длинные – следок от них тоже длинный. Задние ноги белка вперёд за передние закидывает, когда по земле прыгает. А передние ноги короткие, маленькие – следок от них точечками.
Видит лесник: Егорка белку на дерево загнал, там её и стукнул. Свалил в снег с ветки.
«Меткий парнишка!» – думает лесник.
Глядит: здесь вот Егорка подобрал добычу и дальше пошёл в лес.
Покружили, покружили следы по лесу и вывели на большую поляну.
На поляне Егорка, видать, разглядывал заячьи следы – малики.
Густо натропили зайцы: тут у них и петли и смётки – прыжки. Только Егорка не стал распутывать заячьи хитрости: лыжные борозды прямо через малики идут.
Вон дальше снег в стороне взрыхлён, птичьи следы и обгорелый пыж на снегу.
Куропатки это белые. Целая стая спала тут, в снег зарывшись.
Услышали птицы Егорку, вспорхнули. А он выпалил. Все улетели; одна шмякнулась. Видно, как билась на снегу.
Эх, лихой рос охотник: птицу на лету валил! Такой и от волков отбиваться может, даром им в зубы не дастся.
Заторопился лесник дальше, сами ноги бегут, поспевают.
Привёл след к кусту – и стоп!
Что за леший?
Остановился Егорка за кустом, толчётся лыжами на месте, нагнулся – и рукой в снег. И в сторону побежал.
Метров сорок прямо тянется след, а дальше колесить стал. Э, да тут звериные следы! Величиной с лисьи, и с когтями…
Что за диковина? Сроду такого следа не видано: не велика лапа, а когтищи с вершок длиной, прямые, как гвозди!
Кровь на снегу: пошёл дальше зверь на трёх. Правую, переднюю, Егорка ему зарядом перешиб.
Колесит по кустам, гонит зверя.
Где уж тут было парнишке домой ворочаться: подранка разве охотник бросит?
Только вот что за зверь? Больно здоровые когтищи! Тяпнет такими по животу из-за куста… Парнишке много ли надо!
Глубже и глубже в лес лыжный след – сквозь кусты, мимо пней, вокруг поваленных ветром деревьев. Ещё на корягу налетишь, лыжу поломаешь!
Эх, желторотый! Заряд, что ли, бережёт? Вот это место – за вывороченными корнями – и добить бы зверя. Некуда ему тут податься.
А руками разве скоро возьмёшь? Сунься к нему, к раненому! Обозлённый-то и хомячишко в руки не дастся, а этот зверь, видать, тяжёлый: дырья от него в снегу глубокие.
Да что же это: никак снег падает? Беда теперь: занесёт след, тогда как быть?
Ходу! Ходу!
Кружит, колесит по лесу звериный след, за ним лыжный. Конца не видно.
А снег гуще, гуще.
Впереди просвет. Лес пошёл редкий, широкоствольный. Тут скорей ещё следы засыпает, всё хуже их видать, трудней разбирать.
Вот наконец: догнал тут Егорка зверя! Снег примят, кровь на нём, серая жёсткая шерсть.
Поглядеть надо по шерсти-то, что за зверь такой. Только неладно тут как-то наслежено… На оба колена парнишка в снег упал…
А что там впереди торчит?
Лыжа! Другая! Узкие глубокие ямы в снегу: бежал Егорка, провалился…
И вдруг – спереди, справа, слева, наперерез – машистые, словно собачьи, следы.
Волки! Настигли, проклятые!
Остановился лесник: на что-то твёрдое наткнулась его правая лыжа.
Глянул: бердана лежит Егоркина.
Так вот оно что! Мёртвой хваткой схватил вожак за горло, выронил парнишка ружьё из рук, – тут и вся стая подоспела…
Конец! Взглянул лесник вперёд: хоть бы одёжи клок подобрать!
Будто серая тень мелькнула за деревьями. И сейчас же оттуда глухое рычание и тявк, точно псы сцепились.
Выпрямился лесник, сдёрнул ружьё с плеча, рванул вперёд.
За деревьями над кучей окровавленных костей, оскалив зубы и подняв шерсть, стояли два волка. Кругом валялись, сидели ещё несколько…
Страшно вскрикнул лесник и, не целясь, выпалил сразу из обоих стволов.
Ружьё крепко отдало ему в плечо. Он покачнулся и упал в снег на колени.
Когда разошёлся пороховой дым, волков уже не было.
В ушах звенело от выстрела. И сквозь звон ему чудился жалобный Егоркин голос: «Тять!»
Лесник зачем-то снял шапку. Хлопья снега падали на ресницы, мешали глядеть.
– Тять!.. – так внятно опять почудился тихий Егоркин голос.
– Егорушка! – простонал лесник.
– Сними, тять!
Лесник испуганно вскочил, обернулся… На суку большого дерева, обхватив руками толстый ствол, сидел живой Егорка.
– Сынок! – вскрикнул лесник и без памяти кинулся к дереву.
Окоченевший Егорка мешком свалился на руки отцу.
Духом домчался лесник до дому с Егоркой на спине. Только раз пришлось ему остановиться – Егорка пристал, лепечет одно:
– Тять, бердану мою подбери, бердану…
* * *
В печи жарко пылал огонь. Егорка лежал на лавке под тяжёлой овчиной. Глаза его блестели, тело горело.Лесник сидел у него в ногах, поил его горячим чаем с блюдечка.
– Слышу, волки близко, – рассказывал Егорка. – Сдрейфил я! Ружьё выронил, лыжи в снегу завязли, бросил. На первое дерево влез, – они уж тут. Скачут, окаянные, зубами щёлкают, меня достать хотят. Ух, и страшно, тятя!
– Молчи, сынок, молчи, родимый! А скажи-ка, стрелок, что за зверя ты подшиб?
– А барсука, тятя! Здоровый барсучище, что твоя свинья. Видал когти-то?
– Барсук, говоришь? А мне и невдомёк. И верно: лапа-то у него когтистая. Ишь, вылез в оттепель, засоня! Спит он в мороз, редкую зиму вылезет. Погоди вот – весна придёт, я тебе нору его покажу. Знатная нора! Лисе нипочём такой не вырыть.
Но Егорка уже не слышал. Голова его свалилась набок, глаза сами закрылись. Он спал.
Лесник взял у него из рук блюдце, плотней прикрыл сына овчиной и глянул в окно.
За окном расходилась метель. Сыпала, сыпала и кружила в воздухе белые лёгкие хлопья – засыпала путаные лесные следы.

