Страница:
– Какая ты стала. Прямо красавица. А яблочки, яблочки-то какие налитые. Стряхни-ка мне пяток.
Яблонька стряхнула. Ей было приятно, что Ёж Иглыч опять приметил ее, разговаривает с нею.
Съел Ёж Иглыч одно яблочко, а остальные наколол на иголки и унес к себе: дома пригодятся.
Дня через два опять прибежал к Яблоньке:
– Стоишь? Зеленеешь? Это хорошо. Зеленой, говорю, хорошо быть, молодой себя чувствовать… А яблочки-то, яблочки какие у тебя, так и светятся соком, прикоснись губами – и брызнут. Стряхни-ка мне пяток, я позабавлюсь.
И Яблонька стряхнула. Она была счастлива, что Ёж Иглыч опять пришел к ней. А он, как и в прошлый раз, одно яблочко съел, а остальные наколол на иголки и унес домой.
Через день он снова прибежал к ней. Прибегал и еще много раз, а она все угощала и угощала его яблочками. И говорила соседним деревцам:
– Он меня приметил, еще когда цвела я.
И пришел день, когда Яблонька стряхнула и отдала Ежу Иглычу последнее яблочко. Он деловито наколол его на иголки и унес к себе. Она долго слушала, как уходит он, и как похрустывают под его шагами прошлогодние листья.
На другой день Ёж Иглыч не пришел. Не пришел и на третий. Яблонька напрасно ждала его, прислушиваясь к шорохам. Через неделю она услышала его голос. На соседней полянке росла еще одна молоденькая яблонька, и Ёж Иглыч говорил ей:
– Я помню, как ты цвела. У тебя были крупные, белые с розовым цветы.
Яблонька слушала, что говорит Ёж Иглыч ее соседке, и думала: «Что ж, у нее еще есть яблочки и можно говорить ей, как цвела она и какими крупными были ее цветы…»
И хоть до осени было еще далеко, с ветвей ее падали на землю поблекшие листья…».
Глядел Ёж Иглыч, как выбивает на березе Ду-Дук сказку о нем, и шуршал иголками: «Это, что ж, выходит, и я плут?.. Но ведь это же давно было».
И он уже хотел было крикнуть: «Давняя это история, зачем записывать ее», – да засопел, завозился на пне. – «Пусть записывают, я уже не такой, а другим на пользу пойдет».
Воронье диво
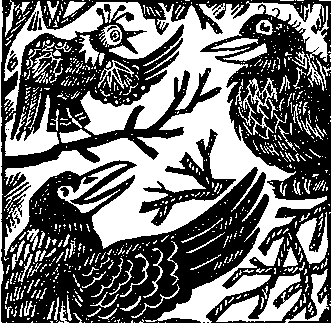
Не каждый может мужественно выслушать о себе сказку. Ворона вот не смогла. Любила Ворона Ворона, а он любил не ее, а Иволгу, любил он ее за песни звонкие. И подумала как-то Ворона:
«Погоди, ты еще пожалеешь об этом».
И стала завлекать Ворона. Увидит: полетел он к речке, отправляется за ним следом. Сядет на виду, глаза под лоб заведет, крылья по бокам свесит – пусть видит Ворон, что она не просто так сидит, а – думает.
Полетит к Маньяшину кургану Ворон – и Ворона за ним. Пристроится где-нибудь поблизости, заведет глаза под лоб и сидит, толстая, серая.
Была уверена Ворона: увидит ее Ворон думающей и поймет, что главное в птице не песня звонкая, а – ум, и перестанет летать к Иволге, у нее, у Вороны, время коротать будет. Но Ворон не обращал на нее внимания. И поэтому когда сказала черепаха как-то у березы:
– Сейчас я расскажу вам сказку про Воронье диво, – захлопала Ворона крыльями, закричала:
– Слушайте, слушайте, обо мне Кири-Бум начинает сказку рассказывать. И до меня дошла очередь.
И многозначительно поглядела на Ворона, дескать, имей в виду, я не чета Иволге: обо мне сказки рассказывают, а со временем будут рассказывать и легенды. Я птица легендарная.
А черепаха, покачиваясь на пенечке, рассказывала: «Прилетела в нашу рощу из-за моря Птица Заморская. Долго о диковинках заморского края рассказывала, а потом и говорит:
– Ну, а теперь покажите, что в вашем крае хорошего есть.
Привели ее наши птицы на поляну, цветы показали. Похвалила она их:
– Красно цветут. У нас нет таких.
Ворона тоже здесь была. Распахнула клюв, прокаркала:
– Эко диво – цветы. Нашли что показывать. Вот если бы я показала, ахнула бы гостья заморская.
Привели наши птицы гостью из-за моря к Ванину колодцу. Попила она воды из него, похвалила:
– Студеная. У нас редко встретишь такую.
Ворона и сюда прилетела. Распахнула клюв, прокаркала:
– Эко диво – вода родниковая. Нашли что показывать. Бот если бы я показала кое-что, ахнула бы гостья заморская.
Привели наши птицы гостью к Лысой горе. Посидела она на ее вершине, похвалила:
– Красивая у вас гора.
А Ворона и сюда прилетела. Распахнула клюв:
– Эко диво – гора Лысая. Нашли что показывать. Вот если бы я показала кое-что, ахнула бы гостья заморская.
И сказали тогда наши птицы:
– Что ж, покажи ты свое диво, Ворона.
– И покажу, – сказала Ворона и привела заморскую гостью к своему гнезду.
Сидела в нем молодая, только что оперившаяся ворона с большим животом и большими выпуклыми глазами.
– Это моя дочка, – сказала Ворона. – Красивее ее никого у нас во всей округе нет. Разве… я только».
Нет, совсем не такую от черепахи ждала сказку Ворона! Разве хотела она, чтобы над нею смеялись? Ворон тоже смеялся. Правда, не так явно, как все, но все-таки смеялся. И это больше всего обидело Ворону.
«Ты еще об этом пожалеешь», – сказала про себя Ворона и улетела домой.
Села у своего гнезда, завела глаза под лоб, крылья по бокам свесила. Будет лететь мимо Ворон, увидит ее.
– О, – скажет, – на вид-то Ворона простоватая, а с думой в голове, – и пожалеет, что смеялся над нею.
Но увидела Ворону Сорока. Летела она к барсуку Фильке, крикнула на лету:
– Что? Думаешь, каким бы новым чудом удивить нас?
– Но, но, – кинулась к ней Ворона и, если бы не удрала Сорока, быть бы ей битой.
– Балаболка, – послала ей вслед Ворона обидное слово и опять глаза под лоб завела: с минуты на минут должен показаться Ворон.
Ворона ждала Ворона, а появился Коршун. Крикнул на всю рощу:
– Удиви-ка чем-нибудь, Ворона.
И даже Сокол, который снился ей почти каждую ночь, которого втайне она любила больше, чем Ворона, даже Сокол не пролетел мимо, чтобы не съязвить:
– Нет ли у тебя еще какого дива, Ворона. Ха-ха!..
И тогда сказала Ворона:
– Ах, так, ну вы еще пожалеете об этом.
И решила навсегда улететь из Гореловской рощи. В Осинники решила улететь Ворона. Гнездо свое на землю спихнула, чтобы никто не вздумал жить в нем. Вылетела из рощи, оглянулась, пригрозила.
– Хватитесь завтра, а меня нет. Увидите, плохо жить без Вороны, и позовете. Посмотрим тогда, захочу ли я к вам вернуться.
Прилетела Ворона в Осинники и угнездилась на макушке самой высокой осины, чтобы, когда придут звать ее, сразу бы увидели, где она. А то еще поищут да назад вернутся, скажут: «Не нашли».
Отчего осина горькая

Каждое утро бобер Яшка приходил к березе и сидел возле нее до вечера. Ему очень хотелось, чтобы и о нем рассказала черепаха Кири-Бум сказку и чтобы выбил эту сказку Ду-Дук на березе на самом видном месте. Дни шли. Все меньше и меньше оставалось на березе места для сказок, а о Яшке черепаха пока и словом не обмолвилась.
Бобер сердился, но никому не говорил об обиде своей. Прятал остренький подбородок в бобровый воротник, ворчал себе под нос:
– Соседка называется. Я с ней на дню по два раза здороваюсь и все зря.
Однажды сказала черепаха:
– Сейчас я расскажу вам, отчего осина горькая, и на этом сегодня кончим. Устала я. Да и Ду-Дуку пора хоть немного жене помочь, гнездо почистить, птенцов покормить. Правильно я говорю, Ду-Дук?
– Правильно, – поддернул дятел красные шаровары. – Немножко помочь надо, а то будет сердиться жена.
И приготовился записывать.
А бобер услышал, что собирается Кири-Бум про осину рассказывать, и пошел прочь от березы: если сказка сегодня последняя, да не о нем, то зачем ее слушать?
Недовольный Яшка домой пришел. Сказал жене хмуро:
– Состряпай поесть чего-нибудь.
Но не успела она стол накрыть, а Яшка умыться, как прилетела Сорока и, заглядывая в окошко, поманила крылом:
– Выйди, Яшка.
Вышел бобер. Отогнула Сорока хвост влево, чечекнула:
– Ты чччего ушел так рано?
– А тебе что?
– Мне-то все равно, а вот черепаха о тебе сказку рассказывала.
– Врешь. Она об осине объявила, я слышал.
– Объявила про осину, а рассказывала про тебя. Ух и сказка получилась! Я ее один раз прослушала и три раза прочитала. На память заучила.
– Ой ли! А ну расскажи.
– Пожалуйста, – сказала Сорока и, усевшись на крылечке Яшкиной хатки, начала рассказывать:
«Еще когда бобер Яшка бобренком был, приметил он, что отец его, чуть заспорит с женой, к осине бежит. Встанет перед ней и вот говорит, вот говорит что-то.
Спросил он однажды:
– Зачем это ты, отец, к осине бегаешь?
– Горечь свою отношу ей. Жизнь доживаю я с твоей матерью, а еще ни разу не сказал ей грубого слова. Защемит иной раз сердце, такое сказать хочется, но побегу скорее и скажу это осине. Оттого и живем мы с твоей матерью в ладу, не ссоримся. А где лад, там, говорят, и клад, там, говорят, и счастье.
Отец это сказал, а Яшка запомнил. Вырос, сам бобром стал, семьей обзавелся. Обиделся как-то на жену, хотел было ее словом огненным ожечь, да отцовскую присказку вспомнил: где лад – там и клад. Закусил губы: лучше не вздорить. А слово горячее так и вертится да языке, так и просится, чтобы его сказали. И чувствует Яшка, если не скажет он его, если не освободится от него, покоя не будет.
Выскочил он из своей хатки и побежал к осине, к которой отец в свое время бегал. Все сказал ей, что жене сказать хотел. И сразу легче на душе стало, отмяк. Веселым домой вернулся. И жена его весело встретила. За стол усадила, осинку молоденькую положила перед ним.
– Ешь, Яша.
Однажды опять поспорили они – в семье такое бывает. И опять захотелось бобру слово погорячее подобрать и опалить им сердце жены побольнее, но вспомнил присказку отцовскую: где лад – там и клад. Вспомнил и побежал к осине. Побранился на нее, облегчил душу.
И когда видят теперь у Бобровой запруды, что Яшка опять к осине бежит, говорят друг другу:
– Это он свой семейный клад бережет.
А глядя на Яшку, и другие бобры стали к осине бегать, всю траву вокруг нее попримяли.
– А что? – говорят. – Выскажешь ей обиду свою, и остынет сердце. А если еще и погрызешь ее немного, совсем легко делается.
– Ну! – воскликнула Сорока. – Разве не о тебе эта сказка?
И схватился Яшка за голову:
– Что я наделал! Столько ждал о себе сказку, а услышать, как рассказывала ее Кири-Бум, не пришлось.
– У, – вытаращила глаза Сорока, – эту сказку черепаха рассказывала так, что у нас у всех дух в горле перехватило.
– И-и, – закачался бобер из стороны в сторону, – как я глупо поступил, что ушел, как глупо.
–Ну, ты переживай тут, – сказала Сорока, – а я к Фильке полечу. Я к нему каждый вечер летаю, записанные сказки рассказываю. Сам он слушать не может, болеет.
– Погоди, – попытался остановить ее бобер. – Расскажи еще раз о том, как я к осине бегаю, свой семейный клад берегу, а я жену кликну, вместе послушаем
– Не могу, – сказала Сорока. – Филька ждет. Да и муж не любит, когда я поздно домой возвращаюсь. Да и зачем я буду тебе одно и то же два раза рассказывать. Сказка о тебе на березе записана, можешь сбегать в любое время и прочесть. Спи спокойно.
Но спокойного сна в эту ночь у бобра не было. Повалялся он в постели. Поднялся. В рощу пошел. Встал у березы и прочитал о себе сказку от начала до конца. Верно рассказывала Сорока, ничего не спутала и ничего не забыла.
Прочитал еще раз. Прослезился: счастье-то какое. Теперь и через год и через пять лет будут знать, что жил Яшка в ладу со своей женой. И будут говорить все:
– Живите так, как жил бобер Яшка: не ссорьтесь с женами.
Яшка еще раз прочитал сказку о себе и, смахивая слезы с ресниц, побежал к Машуте, у которой последние дни ночевала черепаха. Постучал в окошко. И когда поднялась с подушки большая голова Машуты, сказал:
– Я это – Яшка. Пусть Кири-Бум выйдет.
И когда вышла черепаха, попросил ее:
– Расскажи еще раз сказку обо мне, я послушаю.
Кири-Бум видела, что это очень важно для бобра – услышать о себе сказку именно сейчас. Присела на крылечко Машутиной берлоги, слово в слово рассказала то, что так старательно выбил дятел на березе. Яшка слушал, и по щекам его катились слезы: Яшка был счастлив.
На следующее утро он пришел раньше всех к березе я ушел последним. Так было и в последующие дни: первым приходил к березе Яшка и сидел до конца. Вдруг еще о нем черепаха Кири-Бум сказку расскажет, а он не услышит. Второй раз идти к ней стыдно будет. Старенькая уже Кири-Бум. Устает от сказок, охрипла даже.
Делил медведь барана

Не спалось в эту ночь волку. С охоты он пришел пустым, от жены ему попало, голодные волчата скулили. Злой был волк. Вылез из логова, побрел по роще. Остановился неподалеку от Ванина колодца. На луну поглядел, зубами пощелкал:
– Худо нам, волкам, жить стало: из ружья по нас палят, собаками нас травят. Худо.
Увидел березу со сказками, свернул к ней. Хоть сказки почитать, все, может, полегче станет. Подошел, прочитал: «ДЕЛИЛ МЕДВЕДЬ БАРАНА», – возмутился:
– И что она врет, эта Кири-Бум. Чтобы медведь поделил с кем-нибудь своего барана, да такого еще никогда не было и не будет. Медведи привыкли брать, а не давать. И нечего их выгораживать.
И вдруг рыжая шерсть у него на загривке ощетинилась: волк читал сказку о самом себе.
Было выбито на березе:
«Добыл волк Рыжий Загривок барана, тащил домой А идти нужно было мимо берлоги медведя Сидора. «Дай, – думает волк, – зайду к медведю, лишний раз напомню о себе».
Но так просто как зайдешь к медведю? Не товарищ он тебе, неудобно.
И решил тогда волк:
– Попрошу-ка я его барана разделить нам с женой, будто мы никак не можем поделить его между собой поровну.
Протиснулся волк Рыжий Загривок с бараном к медведю Сидору в берлогу, а у того гости: медведь Потап, медведь Лаврентий, да еще какой-то медведь незнакомый, да четыре медведицы.
Остановился волк у порога. Положил барана к ногам. Поклонился медведю Сидору:
– Зашел навестить тебя, Сидор.
– И правильно сделал, что зашел, – сказал Сидор, не вставая из-за стола.
Поклонился волк еще раз ему:
– Решил попросить тебя, Сидор, барана разделить нам с женой. Сами никак поделить не можем.
– И правильно сделал, что решил, – сказал медведь и лапы протянул. – Давай-ка его сюда. Да отодвинься от окошка к порогу, не темни. Застишь, а тут точно видеть надо.
Положил медведь барана на стол. Отрезал голову. отодвинул в сторону.
– Она одна, ее не поделишь. Отложил в сторону и сердце.
– Оно тоже у барана одно, не делится.
После этого разрезал барана на две равные половины я спрашивает у гостей:
– Как вы думаете, какую из них волку отдать – левую или правую?
Зашевелились медведи, поближе придвинулись к медведю Сидору. Губы облизали. Подали совет:
– Какая вкуснее, ту волку надо отдать. Он трудился, добывал.
Откусил медведь Сидор от левой половины, отведал. Откусил от правой – тоже пробу снял. Сказал:
– Левая вроде вкуснее.
Еще раз попробовал и протянул гостю, соседу своему:
– Отведай-ка ты, Потапушка, может, ошибаюсь я.
Отхватил медведь Потап от левой половины кус, съел его. От правой отхватил, медведю Лаврентию подал:
– Верно, левую половину надо волку отдать. Она в самом деле вкуснее. Попробуй-ка, Лаврентий.
Попробовал медведь Лаврентий, своему соседу передал, а тот – медведице Авдотье, а медведица Авдотья – медведице Матрене. И все кусали да пробовали. И пока дошли до волка бараньи половинки, одни кости остались. После этого взял медведь Сидор сердце барана, подал волку:
– Жене отдай, чтобы любила тебя крепче. А голову сам съешь, чтобы в твоей побольше мозга было. А когда в следующий раз добудешь еще барана, заходи, не стесняйся – поделю.
– Обязательно приду, – пообещал волк Рыжий Загривок и понес домой бараньи кости.
С той поры немало времени прошло, но почему-то так ни разу больше и не пришел волк к медведю Сидору делить барана, хотя и пообещал».
Дочитал волк сказку до конца и схватился за голову: вот ему теперь медведь: «Раззвонил, – скажет, – не утерпел. Один раз угостился твоим бараном и ты уж разболтал всем».
А волк и не славил его вовсе. Стыдно ему было в тот день с бараньими мослами домой идти, он и вытряхнул их из мешка в Бобровую запруду – пусть раки полакомятся. Увидела его у берега черепаха, спросила:
– Ты что это к медведю за мослами ходишь, побираешься?
И чтобы не сплела она о нем небылицы какой, рассказал волк, как дело было. И еще попросил даже:
– Ты только никому не рассказывай об этом, пусть это будет нашей с тобой тайной.
Черепаха опустилась на дно запруды и пустила оттуда струйку пузырьков воздуха. И не понял тогда волк, будет Кири-Бум хранить его тайну или нет. Время шло, разговору в роще о случившемся не было, и волк успокоился и забыл эту историю с бараном и вот теперь среди ночи прочел ее выбитой на березе и схватился за голову. К березе Сидор пока не ходит. Простудился у речки, болеет, но выздоровеет и придет. И тогда, как узнает, что о нем записано на березе, – у-у!
И поглаживал волк Рыжий Загривок сердце. Бывало, жил и не чувствовал, что оно у него есть, а сейчас ноет под ребрами, не к добру, видать, ох, не к добру.
– Сцарапать бы эту страшную сказку с березы, но ведь тогда сразу все догадаются, что это я сделал, к ответу потянут. Еще из рощи прогонят. А куда я тогда пойду? В Осинники? Там свои волки есть. И в других рощах тоже. Ох, худо нам, волкам, жить стало, ху-удо.
И глядел на выбитую на березе сказку, зубами пощелкивал, завывал тоненько:
– Что будет, что будет!
И грозил черепахе:
– Ну погоди, Кири-Бушка.
Хотя знал, что ничего дурного ей не сделает: за плечами у Кири-Бум вся Гореловская роща с медведями во главе.
– Надо идти заглаживать вину свою, пока не поздно, – сказал волк и побежал к медведю Сидору.
Он долго топтался у него под окошком, не решаясь постучать. И не постучал, а робко поскреб о наличник. И вздрогнул, когда раздался из тьмы берлоги хриплый голос медведя Сидора:
– Кого еще там в такую пору черти принесли?
Волк от страха и голову вобрал в плечи. На пришибленного деревенского пса похож стал. Сказал чуть слышно, совсем не по-волчьи:
– Я это.
– Кто – ты? Не признаю никак по голосу, – прохрипел медведь и толкнул створки окна. – Ты, что ли, это, волк? Что это ты какой? И меньше вроде стал и в голосе нет прочности прежней. Что по ночам шляешься? Сам не спишь, и меня с постели поднял.
– Беда, Сидор, – простонал волк. – Черепаха эта… Вызнала откуда-то, как ты барана делил мне, и сочинила сказку, а дятел записал ее на березе.
– Врешь! – прорычал медведь и полез в окно из берлоги. – А ну, пошли к березе.
И размашисто зашагал по просеке. Волк рядом бежал. Поскуливал, оправдывался:
– И откуда она вызнала? Кто ей мог сказать!
И старался заглянуть медведю в глаза.
Пришли они. Осмотрел медведь березу сверху донизу: исписали уже сколько! Приказал:
– Ну, которая здесь сказка про меня? Читай. Да громче и отчетливее, что ты мямлишь.
Прочитал волк. Прижал его медведь к груди.
– Милый, как хорошо, что ты зашел тогда ко мне с бараном. Не зайди ты, и нечего было бы Кири-Бум рассказывать обо мне.
Не сразу понял волк Рыжий Загривок, что медведь не собирается бить его. А когда понял, ослаб вдруг и опустился на траву. А медведь Сидор стоял над ним, ухал.
– Хорошо, ух, как хорошо! А! Живешь и не знаешь, что в твоей жизни будет сказочного. Ну, зашел ты тогда ко мне, разделил я тебе барана – мелочь. Трудно разве это было мне? А погляди, как все обернулось. Спасибо тебе. А ты что худой какой?
– Ем плохо, – честно признался растроганный волк. – Пастухи зоркие нынче пошли, не подойти к стаду. Весь вечер бродил у загона и не добыл ничего. Да еще и обстреляли из ружья и собаками припугнули.
– Так ты что, и не ужинал сегодня?
– Я даже и не завтракал.
– Милый, идем тогда ко мне. У меня кое-что припасено. Только ты еще раз прочти сказочку. Хоть и луна светит, а слаб я глазами, не вижу.
Дома накормил медведь Сидор волка мясом. Ребятишкам кусок в гостинец послал. Проводил его до Яблоневого оврага. К березе вернулся. Погладил ствол ее, воздух понюхал. Сказал:
– Как в жизни бывает!
И пошел к своему давнему товарищу медведю Михайле. Поднял его с постели. За плечи трясет, кричит:
– Видел? Сказку обо мне на березе выбили.
– А, – протянул медведь Михайло, – не только видел, но и слышал, как черепаха рассказывала ее.
И отвернулся к стене. Подумал: «Нашел чему радоваться – сказке. Я с утра до ночи бога молю, чтобы обо мне не рассказали, а он – радуется. Какие мы все разные». Сказал сухо:
– Иди домой, спать я буду.
Но медведь Сидор домой не пошел. Он вернулся к березе и простоял возле нее до утра. И потом весь день бродил по роще я говорил всем:
– Читали сказку обо мне? Идите читайте. Поучительная сказка. Я даже сам, прочтя ее, многому научился.
Сурок

Утром, когда черепаха Кири-Бум пробиралась к березе, у Ванина колодца она повстречала Сурка. Он пил из лужицы воду. Черепаха оглядела его, сказала:
– Я тебя раньше вроде у нас не видела.
– А я никогда раньше у вас не был. Только что появился. Хочу у вас на Маньяшином кургане поселиться. Можно?
– Это Потапыч решит. Он у нас хозяин рощи. А ты чей?
Сурок рассказал о себе. Выслушала его Кири-Бум и махнула лапкой.
– Иди за мной.
Она привела Сурка к березе и взобралась на пенек. Все уже ждали ее. Черепаха подперла кулачком щеку и началась:
– Сейчас расскажу я вам свою новую сказку. Погоди Ду-Дук, не записывай. Сперва прослушайте, а потом уж решим – записывать ее или нет. Сказка-то новая.
И она повела рассказ:
«Поймали ребятишки Сурка в степи и принесли школу в живой уголок, но он у них убежал ночью. Выбрался за село и стал соображать: в какую сторону идти ему, где искать нору свою. Место было незнакомое, совсем чужое.
Поднял Сурок глаза к небу, попробовал по звездам определить путь свой. Но никогда раньше не наблюдал Сурок за звездами, и потому сегодня ничего они ему не сказали.
До рассвета просидел Сурок у села, но так и не смог определить, куда идти ему. А когда всходило солнце, решил:
– Пойду к нему, оно мне поможет.
Так рассудил Сурок: придет он к солнцу и скажет:
– Солнышко, ты по целым дням в небе. Ты выше всех и все видишь. Скажи, где находится тот курган, на котором по утрам я люблю сидеть и посвистывать.
Вытянет солнышко луч и покажет, куда бежать надо. И будет потом Сурок на кургане у себя рассказывать, как был он в гостях у солнца и как помогло оно ему домой дорогу найти.
Но попасть к солнцу оказалось не так-то легко: утром оно на востоке, в обед – на юге, а вечером – на западе. Бегал, бегал за ним Сурок, совсем запутался. Понял: и к солнцу ему не попасть и домой не выбраться.
– Что ж, – сказал Сурок, – буду здесь прибиваться к кому-то. Не жить же одному.
Была ночь. Собиралась гроза. Сурок обежал пустырь, на котором застигла его непогода, но кроме домика Хомяка, ничего не нашел на нем. Ну что ж, и Хомяк тоже живая душа, пригреет.
И верно, пригрел Хомяк. Впустил к себе Сурка, расспрашивать начал: откуда идет он и куда путь держит. Услышал, что заблудился тот, посочувствовал:
– Один, значит, на земле остался. Это плохо, одному говорю, плохо быть: поругаться и то не с кем. По себе знаю. Я на этом пустыре уже третий год один живу. Плохо.
И загорелись вдруг остренькие глазки Хомяка, и сам он весь посветлел как-то. Предложил:
– Послушай, ты – бобыль, я – бобыль. Давай вместе жить. Вдвоем легче век коротать. Больно я о товарище натосковался.
– Я согласен, – сказал Сурок. – Мне теперь где ни жить, лишь бы не одному, лишь бы с кем-нибудь поблизости.
И умащиваясь на сухонькой соломке, спросил:
– А ты как на этом пустыре оказался? Или всегда жил здесь?
– Что ты! Я на кургане у Гореловской рощи жил, да с соседями не поладил. У меня, знаешь, натура широкая. Я люблю жить так, как я хочу, а им это не понравилось. Учить меня начали. Я и перебрался от них на этот пустырь.
И тихонько засмеялся, захрюкал будто, весь подергиваясь:
– Когда я уходил, пугали они меня, соседушки мои. От тоски, говорят, помрешь. А вот и не помру теперь. ты у меня есть. Одному и в самом деле плохо. Я уж даже подумывать начал: не податься ли к своим, но теперь ты у меня есть, и я никуда не пойду. Мне здесь хорошо: делаю, что хочу, и никто не перечит.
«Так вот ты какой, – подумал Сурок, – ты хочешь жить так, чтобы только тебе удобно было, и меня к себе для забавы берешь. Нет уж, отделился ото всех, так и живи один».
Снаружи уже гроза гремела, лил дождь. В норе у Хомяка было тепло и сухо, но поднялся Сурок и пошел к выходу.
– Пойду, – говорит, – я думал, ты из доброты пустил меня на ночь, а ты вовсе и не обо мне, о себе думал. Себялюб ты, и я с тобой даже одним воздухом у тебя норе дышать не хочу, – и, вобрав голову в плечи, нырнул под холодный ливень.
Мокрый сидел Сурок посреди пустыря. Когда вспыхивала молния, зажмуривался от страха и, замирая ждал грома. По спине его барабанил дождь. Дождь тек по щекам и груди. Высунувшись из норы, Хомяк кричал:
– Иди ко мне. Что ты мокнешь зря?
Но говорил самому себе Сурок: «Пусть будет страшно мне, пусть будет мокро мне, зато никто никогда не скажет, что я провел ночь в одной норе с тем, кто ушел от товарищей, кто любит только себя».
Яблонька стряхнула. Ей было приятно, что Ёж Иглыч опять приметил ее, разговаривает с нею.
Съел Ёж Иглыч одно яблочко, а остальные наколол на иголки и унес к себе: дома пригодятся.
Дня через два опять прибежал к Яблоньке:
– Стоишь? Зеленеешь? Это хорошо. Зеленой, говорю, хорошо быть, молодой себя чувствовать… А яблочки-то, яблочки какие у тебя, так и светятся соком, прикоснись губами – и брызнут. Стряхни-ка мне пяток, я позабавлюсь.
И Яблонька стряхнула. Она была счастлива, что Ёж Иглыч опять пришел к ней. А он, как и в прошлый раз, одно яблочко съел, а остальные наколол на иголки и унес домой.
Через день он снова прибежал к ней. Прибегал и еще много раз, а она все угощала и угощала его яблочками. И говорила соседним деревцам:
– Он меня приметил, еще когда цвела я.
И пришел день, когда Яблонька стряхнула и отдала Ежу Иглычу последнее яблочко. Он деловито наколол его на иголки и унес к себе. Она долго слушала, как уходит он, и как похрустывают под его шагами прошлогодние листья.
На другой день Ёж Иглыч не пришел. Не пришел и на третий. Яблонька напрасно ждала его, прислушиваясь к шорохам. Через неделю она услышала его голос. На соседней полянке росла еще одна молоденькая яблонька, и Ёж Иглыч говорил ей:
– Я помню, как ты цвела. У тебя были крупные, белые с розовым цветы.
Яблонька слушала, что говорит Ёж Иглыч ее соседке, и думала: «Что ж, у нее еще есть яблочки и можно говорить ей, как цвела она и какими крупными были ее цветы…»
И хоть до осени было еще далеко, с ветвей ее падали на землю поблекшие листья…».
Глядел Ёж Иглыч, как выбивает на березе Ду-Дук сказку о нем, и шуршал иголками: «Это, что ж, выходит, и я плут?.. Но ведь это же давно было».
И он уже хотел было крикнуть: «Давняя это история, зачем записывать ее», – да засопел, завозился на пне. – «Пусть записывают, я уже не такой, а другим на пользу пойдет».
Воронье диво
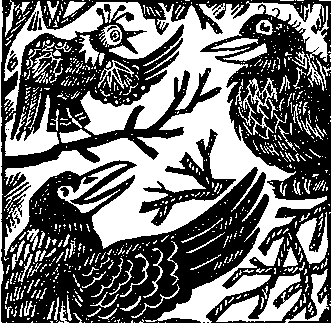
Не каждый может мужественно выслушать о себе сказку. Ворона вот не смогла. Любила Ворона Ворона, а он любил не ее, а Иволгу, любил он ее за песни звонкие. И подумала как-то Ворона:
«Погоди, ты еще пожалеешь об этом».
И стала завлекать Ворона. Увидит: полетел он к речке, отправляется за ним следом. Сядет на виду, глаза под лоб заведет, крылья по бокам свесит – пусть видит Ворон, что она не просто так сидит, а – думает.
Полетит к Маньяшину кургану Ворон – и Ворона за ним. Пристроится где-нибудь поблизости, заведет глаза под лоб и сидит, толстая, серая.
Была уверена Ворона: увидит ее Ворон думающей и поймет, что главное в птице не песня звонкая, а – ум, и перестанет летать к Иволге, у нее, у Вороны, время коротать будет. Но Ворон не обращал на нее внимания. И поэтому когда сказала черепаха как-то у березы:
– Сейчас я расскажу вам сказку про Воронье диво, – захлопала Ворона крыльями, закричала:
– Слушайте, слушайте, обо мне Кири-Бум начинает сказку рассказывать. И до меня дошла очередь.
И многозначительно поглядела на Ворона, дескать, имей в виду, я не чета Иволге: обо мне сказки рассказывают, а со временем будут рассказывать и легенды. Я птица легендарная.
А черепаха, покачиваясь на пенечке, рассказывала: «Прилетела в нашу рощу из-за моря Птица Заморская. Долго о диковинках заморского края рассказывала, а потом и говорит:
– Ну, а теперь покажите, что в вашем крае хорошего есть.
Привели ее наши птицы на поляну, цветы показали. Похвалила она их:
– Красно цветут. У нас нет таких.
Ворона тоже здесь была. Распахнула клюв, прокаркала:
– Эко диво – цветы. Нашли что показывать. Вот если бы я показала, ахнула бы гостья заморская.
Привели наши птицы гостью из-за моря к Ванину колодцу. Попила она воды из него, похвалила:
– Студеная. У нас редко встретишь такую.
Ворона и сюда прилетела. Распахнула клюв, прокаркала:
– Эко диво – вода родниковая. Нашли что показывать. Бот если бы я показала кое-что, ахнула бы гостья заморская.
Привели наши птицы гостью к Лысой горе. Посидела она на ее вершине, похвалила:
– Красивая у вас гора.
А Ворона и сюда прилетела. Распахнула клюв:
– Эко диво – гора Лысая. Нашли что показывать. Вот если бы я показала кое-что, ахнула бы гостья заморская.
И сказали тогда наши птицы:
– Что ж, покажи ты свое диво, Ворона.
– И покажу, – сказала Ворона и привела заморскую гостью к своему гнезду.
Сидела в нем молодая, только что оперившаяся ворона с большим животом и большими выпуклыми глазами.
– Это моя дочка, – сказала Ворона. – Красивее ее никого у нас во всей округе нет. Разве… я только».
Нет, совсем не такую от черепахи ждала сказку Ворона! Разве хотела она, чтобы над нею смеялись? Ворон тоже смеялся. Правда, не так явно, как все, но все-таки смеялся. И это больше всего обидело Ворону.
«Ты еще об этом пожалеешь», – сказала про себя Ворона и улетела домой.
Села у своего гнезда, завела глаза под лоб, крылья по бокам свесила. Будет лететь мимо Ворон, увидит ее.
– О, – скажет, – на вид-то Ворона простоватая, а с думой в голове, – и пожалеет, что смеялся над нею.
Но увидела Ворону Сорока. Летела она к барсуку Фильке, крикнула на лету:
– Что? Думаешь, каким бы новым чудом удивить нас?
– Но, но, – кинулась к ней Ворона и, если бы не удрала Сорока, быть бы ей битой.
– Балаболка, – послала ей вслед Ворона обидное слово и опять глаза под лоб завела: с минуты на минут должен показаться Ворон.
Ворона ждала Ворона, а появился Коршун. Крикнул на всю рощу:
– Удиви-ка чем-нибудь, Ворона.
И даже Сокол, который снился ей почти каждую ночь, которого втайне она любила больше, чем Ворона, даже Сокол не пролетел мимо, чтобы не съязвить:
– Нет ли у тебя еще какого дива, Ворона. Ха-ха!..
И тогда сказала Ворона:
– Ах, так, ну вы еще пожалеете об этом.
И решила навсегда улететь из Гореловской рощи. В Осинники решила улететь Ворона. Гнездо свое на землю спихнула, чтобы никто не вздумал жить в нем. Вылетела из рощи, оглянулась, пригрозила.
– Хватитесь завтра, а меня нет. Увидите, плохо жить без Вороны, и позовете. Посмотрим тогда, захочу ли я к вам вернуться.
Прилетела Ворона в Осинники и угнездилась на макушке самой высокой осины, чтобы, когда придут звать ее, сразу бы увидели, где она. А то еще поищут да назад вернутся, скажут: «Не нашли».
Отчего осина горькая

Каждое утро бобер Яшка приходил к березе и сидел возле нее до вечера. Ему очень хотелось, чтобы и о нем рассказала черепаха Кири-Бум сказку и чтобы выбил эту сказку Ду-Дук на березе на самом видном месте. Дни шли. Все меньше и меньше оставалось на березе места для сказок, а о Яшке черепаха пока и словом не обмолвилась.
Бобер сердился, но никому не говорил об обиде своей. Прятал остренький подбородок в бобровый воротник, ворчал себе под нос:
– Соседка называется. Я с ней на дню по два раза здороваюсь и все зря.
Однажды сказала черепаха:
– Сейчас я расскажу вам, отчего осина горькая, и на этом сегодня кончим. Устала я. Да и Ду-Дуку пора хоть немного жене помочь, гнездо почистить, птенцов покормить. Правильно я говорю, Ду-Дук?
– Правильно, – поддернул дятел красные шаровары. – Немножко помочь надо, а то будет сердиться жена.
И приготовился записывать.
А бобер услышал, что собирается Кири-Бум про осину рассказывать, и пошел прочь от березы: если сказка сегодня последняя, да не о нем, то зачем ее слушать?
Недовольный Яшка домой пришел. Сказал жене хмуро:
– Состряпай поесть чего-нибудь.
Но не успела она стол накрыть, а Яшка умыться, как прилетела Сорока и, заглядывая в окошко, поманила крылом:
– Выйди, Яшка.
Вышел бобер. Отогнула Сорока хвост влево, чечекнула:
– Ты чччего ушел так рано?
– А тебе что?
– Мне-то все равно, а вот черепаха о тебе сказку рассказывала.
– Врешь. Она об осине объявила, я слышал.
– Объявила про осину, а рассказывала про тебя. Ух и сказка получилась! Я ее один раз прослушала и три раза прочитала. На память заучила.
– Ой ли! А ну расскажи.
– Пожалуйста, – сказала Сорока и, усевшись на крылечке Яшкиной хатки, начала рассказывать:
«Еще когда бобер Яшка бобренком был, приметил он, что отец его, чуть заспорит с женой, к осине бежит. Встанет перед ней и вот говорит, вот говорит что-то.
Спросил он однажды:
– Зачем это ты, отец, к осине бегаешь?
– Горечь свою отношу ей. Жизнь доживаю я с твоей матерью, а еще ни разу не сказал ей грубого слова. Защемит иной раз сердце, такое сказать хочется, но побегу скорее и скажу это осине. Оттого и живем мы с твоей матерью в ладу, не ссоримся. А где лад, там, говорят, и клад, там, говорят, и счастье.
Отец это сказал, а Яшка запомнил. Вырос, сам бобром стал, семьей обзавелся. Обиделся как-то на жену, хотел было ее словом огненным ожечь, да отцовскую присказку вспомнил: где лад – там и клад. Закусил губы: лучше не вздорить. А слово горячее так и вертится да языке, так и просится, чтобы его сказали. И чувствует Яшка, если не скажет он его, если не освободится от него, покоя не будет.
Выскочил он из своей хатки и побежал к осине, к которой отец в свое время бегал. Все сказал ей, что жене сказать хотел. И сразу легче на душе стало, отмяк. Веселым домой вернулся. И жена его весело встретила. За стол усадила, осинку молоденькую положила перед ним.
– Ешь, Яша.
Однажды опять поспорили они – в семье такое бывает. И опять захотелось бобру слово погорячее подобрать и опалить им сердце жены побольнее, но вспомнил присказку отцовскую: где лад – там и клад. Вспомнил и побежал к осине. Побранился на нее, облегчил душу.
И когда видят теперь у Бобровой запруды, что Яшка опять к осине бежит, говорят друг другу:
– Это он свой семейный клад бережет.
А глядя на Яшку, и другие бобры стали к осине бегать, всю траву вокруг нее попримяли.
– А что? – говорят. – Выскажешь ей обиду свою, и остынет сердце. А если еще и погрызешь ее немного, совсем легко делается.
– Ну! – воскликнула Сорока. – Разве не о тебе эта сказка?
И схватился Яшка за голову:
– Что я наделал! Столько ждал о себе сказку, а услышать, как рассказывала ее Кири-Бум, не пришлось.
– У, – вытаращила глаза Сорока, – эту сказку черепаха рассказывала так, что у нас у всех дух в горле перехватило.
– И-и, – закачался бобер из стороны в сторону, – как я глупо поступил, что ушел, как глупо.
–Ну, ты переживай тут, – сказала Сорока, – а я к Фильке полечу. Я к нему каждый вечер летаю, записанные сказки рассказываю. Сам он слушать не может, болеет.
– Погоди, – попытался остановить ее бобер. – Расскажи еще раз о том, как я к осине бегаю, свой семейный клад берегу, а я жену кликну, вместе послушаем
– Не могу, – сказала Сорока. – Филька ждет. Да и муж не любит, когда я поздно домой возвращаюсь. Да и зачем я буду тебе одно и то же два раза рассказывать. Сказка о тебе на березе записана, можешь сбегать в любое время и прочесть. Спи спокойно.
Но спокойного сна в эту ночь у бобра не было. Повалялся он в постели. Поднялся. В рощу пошел. Встал у березы и прочитал о себе сказку от начала до конца. Верно рассказывала Сорока, ничего не спутала и ничего не забыла.
Прочитал еще раз. Прослезился: счастье-то какое. Теперь и через год и через пять лет будут знать, что жил Яшка в ладу со своей женой. И будут говорить все:
– Живите так, как жил бобер Яшка: не ссорьтесь с женами.
Яшка еще раз прочитал сказку о себе и, смахивая слезы с ресниц, побежал к Машуте, у которой последние дни ночевала черепаха. Постучал в окошко. И когда поднялась с подушки большая голова Машуты, сказал:
– Я это – Яшка. Пусть Кири-Бум выйдет.
И когда вышла черепаха, попросил ее:
– Расскажи еще раз сказку обо мне, я послушаю.
Кири-Бум видела, что это очень важно для бобра – услышать о себе сказку именно сейчас. Присела на крылечко Машутиной берлоги, слово в слово рассказала то, что так старательно выбил дятел на березе. Яшка слушал, и по щекам его катились слезы: Яшка был счастлив.
На следующее утро он пришел раньше всех к березе я ушел последним. Так было и в последующие дни: первым приходил к березе Яшка и сидел до конца. Вдруг еще о нем черепаха Кири-Бум сказку расскажет, а он не услышит. Второй раз идти к ней стыдно будет. Старенькая уже Кири-Бум. Устает от сказок, охрипла даже.
Делил медведь барана

Не спалось в эту ночь волку. С охоты он пришел пустым, от жены ему попало, голодные волчата скулили. Злой был волк. Вылез из логова, побрел по роще. Остановился неподалеку от Ванина колодца. На луну поглядел, зубами пощелкал:
– Худо нам, волкам, жить стало: из ружья по нас палят, собаками нас травят. Худо.
Увидел березу со сказками, свернул к ней. Хоть сказки почитать, все, может, полегче станет. Подошел, прочитал: «ДЕЛИЛ МЕДВЕДЬ БАРАНА», – возмутился:
– И что она врет, эта Кири-Бум. Чтобы медведь поделил с кем-нибудь своего барана, да такого еще никогда не было и не будет. Медведи привыкли брать, а не давать. И нечего их выгораживать.
И вдруг рыжая шерсть у него на загривке ощетинилась: волк читал сказку о самом себе.
Было выбито на березе:
«Добыл волк Рыжий Загривок барана, тащил домой А идти нужно было мимо берлоги медведя Сидора. «Дай, – думает волк, – зайду к медведю, лишний раз напомню о себе».
Но так просто как зайдешь к медведю? Не товарищ он тебе, неудобно.
И решил тогда волк:
– Попрошу-ка я его барана разделить нам с женой, будто мы никак не можем поделить его между собой поровну.
Протиснулся волк Рыжий Загривок с бараном к медведю Сидору в берлогу, а у того гости: медведь Потап, медведь Лаврентий, да еще какой-то медведь незнакомый, да четыре медведицы.
Остановился волк у порога. Положил барана к ногам. Поклонился медведю Сидору:
– Зашел навестить тебя, Сидор.
– И правильно сделал, что зашел, – сказал Сидор, не вставая из-за стола.
Поклонился волк еще раз ему:
– Решил попросить тебя, Сидор, барана разделить нам с женой. Сами никак поделить не можем.
– И правильно сделал, что решил, – сказал медведь и лапы протянул. – Давай-ка его сюда. Да отодвинься от окошка к порогу, не темни. Застишь, а тут точно видеть надо.
Положил медведь барана на стол. Отрезал голову. отодвинул в сторону.
– Она одна, ее не поделишь. Отложил в сторону и сердце.
– Оно тоже у барана одно, не делится.
После этого разрезал барана на две равные половины я спрашивает у гостей:
– Как вы думаете, какую из них волку отдать – левую или правую?
Зашевелились медведи, поближе придвинулись к медведю Сидору. Губы облизали. Подали совет:
– Какая вкуснее, ту волку надо отдать. Он трудился, добывал.
Откусил медведь Сидор от левой половины, отведал. Откусил от правой – тоже пробу снял. Сказал:
– Левая вроде вкуснее.
Еще раз попробовал и протянул гостю, соседу своему:
– Отведай-ка ты, Потапушка, может, ошибаюсь я.
Отхватил медведь Потап от левой половины кус, съел его. От правой отхватил, медведю Лаврентию подал:
– Верно, левую половину надо волку отдать. Она в самом деле вкуснее. Попробуй-ка, Лаврентий.
Попробовал медведь Лаврентий, своему соседу передал, а тот – медведице Авдотье, а медведица Авдотья – медведице Матрене. И все кусали да пробовали. И пока дошли до волка бараньи половинки, одни кости остались. После этого взял медведь Сидор сердце барана, подал волку:
– Жене отдай, чтобы любила тебя крепче. А голову сам съешь, чтобы в твоей побольше мозга было. А когда в следующий раз добудешь еще барана, заходи, не стесняйся – поделю.
– Обязательно приду, – пообещал волк Рыжий Загривок и понес домой бараньи кости.
С той поры немало времени прошло, но почему-то так ни разу больше и не пришел волк к медведю Сидору делить барана, хотя и пообещал».
Дочитал волк сказку до конца и схватился за голову: вот ему теперь медведь: «Раззвонил, – скажет, – не утерпел. Один раз угостился твоим бараном и ты уж разболтал всем».
А волк и не славил его вовсе. Стыдно ему было в тот день с бараньими мослами домой идти, он и вытряхнул их из мешка в Бобровую запруду – пусть раки полакомятся. Увидела его у берега черепаха, спросила:
– Ты что это к медведю за мослами ходишь, побираешься?
И чтобы не сплела она о нем небылицы какой, рассказал волк, как дело было. И еще попросил даже:
– Ты только никому не рассказывай об этом, пусть это будет нашей с тобой тайной.
Черепаха опустилась на дно запруды и пустила оттуда струйку пузырьков воздуха. И не понял тогда волк, будет Кири-Бум хранить его тайну или нет. Время шло, разговору в роще о случившемся не было, и волк успокоился и забыл эту историю с бараном и вот теперь среди ночи прочел ее выбитой на березе и схватился за голову. К березе Сидор пока не ходит. Простудился у речки, болеет, но выздоровеет и придет. И тогда, как узнает, что о нем записано на березе, – у-у!
И поглаживал волк Рыжий Загривок сердце. Бывало, жил и не чувствовал, что оно у него есть, а сейчас ноет под ребрами, не к добру, видать, ох, не к добру.
– Сцарапать бы эту страшную сказку с березы, но ведь тогда сразу все догадаются, что это я сделал, к ответу потянут. Еще из рощи прогонят. А куда я тогда пойду? В Осинники? Там свои волки есть. И в других рощах тоже. Ох, худо нам, волкам, жить стало, ху-удо.
И глядел на выбитую на березе сказку, зубами пощелкивал, завывал тоненько:
– Что будет, что будет!
И грозил черепахе:
– Ну погоди, Кири-Бушка.
Хотя знал, что ничего дурного ей не сделает: за плечами у Кири-Бум вся Гореловская роща с медведями во главе.
– Надо идти заглаживать вину свою, пока не поздно, – сказал волк и побежал к медведю Сидору.
Он долго топтался у него под окошком, не решаясь постучать. И не постучал, а робко поскреб о наличник. И вздрогнул, когда раздался из тьмы берлоги хриплый голос медведя Сидора:
– Кого еще там в такую пору черти принесли?
Волк от страха и голову вобрал в плечи. На пришибленного деревенского пса похож стал. Сказал чуть слышно, совсем не по-волчьи:
– Я это.
– Кто – ты? Не признаю никак по голосу, – прохрипел медведь и толкнул створки окна. – Ты, что ли, это, волк? Что это ты какой? И меньше вроде стал и в голосе нет прочности прежней. Что по ночам шляешься? Сам не спишь, и меня с постели поднял.
– Беда, Сидор, – простонал волк. – Черепаха эта… Вызнала откуда-то, как ты барана делил мне, и сочинила сказку, а дятел записал ее на березе.
– Врешь! – прорычал медведь и полез в окно из берлоги. – А ну, пошли к березе.
И размашисто зашагал по просеке. Волк рядом бежал. Поскуливал, оправдывался:
– И откуда она вызнала? Кто ей мог сказать!
И старался заглянуть медведю в глаза.
Пришли они. Осмотрел медведь березу сверху донизу: исписали уже сколько! Приказал:
– Ну, которая здесь сказка про меня? Читай. Да громче и отчетливее, что ты мямлишь.
Прочитал волк. Прижал его медведь к груди.
– Милый, как хорошо, что ты зашел тогда ко мне с бараном. Не зайди ты, и нечего было бы Кири-Бум рассказывать обо мне.
Не сразу понял волк Рыжий Загривок, что медведь не собирается бить его. А когда понял, ослаб вдруг и опустился на траву. А медведь Сидор стоял над ним, ухал.
– Хорошо, ух, как хорошо! А! Живешь и не знаешь, что в твоей жизни будет сказочного. Ну, зашел ты тогда ко мне, разделил я тебе барана – мелочь. Трудно разве это было мне? А погляди, как все обернулось. Спасибо тебе. А ты что худой какой?
– Ем плохо, – честно признался растроганный волк. – Пастухи зоркие нынче пошли, не подойти к стаду. Весь вечер бродил у загона и не добыл ничего. Да еще и обстреляли из ружья и собаками припугнули.
– Так ты что, и не ужинал сегодня?
– Я даже и не завтракал.
– Милый, идем тогда ко мне. У меня кое-что припасено. Только ты еще раз прочти сказочку. Хоть и луна светит, а слаб я глазами, не вижу.
Дома накормил медведь Сидор волка мясом. Ребятишкам кусок в гостинец послал. Проводил его до Яблоневого оврага. К березе вернулся. Погладил ствол ее, воздух понюхал. Сказал:
– Как в жизни бывает!
И пошел к своему давнему товарищу медведю Михайле. Поднял его с постели. За плечи трясет, кричит:
– Видел? Сказку обо мне на березе выбили.
– А, – протянул медведь Михайло, – не только видел, но и слышал, как черепаха рассказывала ее.
И отвернулся к стене. Подумал: «Нашел чему радоваться – сказке. Я с утра до ночи бога молю, чтобы обо мне не рассказали, а он – радуется. Какие мы все разные». Сказал сухо:
– Иди домой, спать я буду.
Но медведь Сидор домой не пошел. Он вернулся к березе и простоял возле нее до утра. И потом весь день бродил по роще я говорил всем:
– Читали сказку обо мне? Идите читайте. Поучительная сказка. Я даже сам, прочтя ее, многому научился.
Сурок

Утром, когда черепаха Кири-Бум пробиралась к березе, у Ванина колодца она повстречала Сурка. Он пил из лужицы воду. Черепаха оглядела его, сказала:
– Я тебя раньше вроде у нас не видела.
– А я никогда раньше у вас не был. Только что появился. Хочу у вас на Маньяшином кургане поселиться. Можно?
– Это Потапыч решит. Он у нас хозяин рощи. А ты чей?
Сурок рассказал о себе. Выслушала его Кири-Бум и махнула лапкой.
– Иди за мной.
Она привела Сурка к березе и взобралась на пенек. Все уже ждали ее. Черепаха подперла кулачком щеку и началась:
– Сейчас расскажу я вам свою новую сказку. Погоди Ду-Дук, не записывай. Сперва прослушайте, а потом уж решим – записывать ее или нет. Сказка-то новая.
И она повела рассказ:
«Поймали ребятишки Сурка в степи и принесли школу в живой уголок, но он у них убежал ночью. Выбрался за село и стал соображать: в какую сторону идти ему, где искать нору свою. Место было незнакомое, совсем чужое.
Поднял Сурок глаза к небу, попробовал по звездам определить путь свой. Но никогда раньше не наблюдал Сурок за звездами, и потому сегодня ничего они ему не сказали.
До рассвета просидел Сурок у села, но так и не смог определить, куда идти ему. А когда всходило солнце, решил:
– Пойду к нему, оно мне поможет.
Так рассудил Сурок: придет он к солнцу и скажет:
– Солнышко, ты по целым дням в небе. Ты выше всех и все видишь. Скажи, где находится тот курган, на котором по утрам я люблю сидеть и посвистывать.
Вытянет солнышко луч и покажет, куда бежать надо. И будет потом Сурок на кургане у себя рассказывать, как был он в гостях у солнца и как помогло оно ему домой дорогу найти.
Но попасть к солнцу оказалось не так-то легко: утром оно на востоке, в обед – на юге, а вечером – на западе. Бегал, бегал за ним Сурок, совсем запутался. Понял: и к солнцу ему не попасть и домой не выбраться.
– Что ж, – сказал Сурок, – буду здесь прибиваться к кому-то. Не жить же одному.
Была ночь. Собиралась гроза. Сурок обежал пустырь, на котором застигла его непогода, но кроме домика Хомяка, ничего не нашел на нем. Ну что ж, и Хомяк тоже живая душа, пригреет.
И верно, пригрел Хомяк. Впустил к себе Сурка, расспрашивать начал: откуда идет он и куда путь держит. Услышал, что заблудился тот, посочувствовал:
– Один, значит, на земле остался. Это плохо, одному говорю, плохо быть: поругаться и то не с кем. По себе знаю. Я на этом пустыре уже третий год один живу. Плохо.
И загорелись вдруг остренькие глазки Хомяка, и сам он весь посветлел как-то. Предложил:
– Послушай, ты – бобыль, я – бобыль. Давай вместе жить. Вдвоем легче век коротать. Больно я о товарище натосковался.
– Я согласен, – сказал Сурок. – Мне теперь где ни жить, лишь бы не одному, лишь бы с кем-нибудь поблизости.
И умащиваясь на сухонькой соломке, спросил:
– А ты как на этом пустыре оказался? Или всегда жил здесь?
– Что ты! Я на кургане у Гореловской рощи жил, да с соседями не поладил. У меня, знаешь, натура широкая. Я люблю жить так, как я хочу, а им это не понравилось. Учить меня начали. Я и перебрался от них на этот пустырь.
И тихонько засмеялся, захрюкал будто, весь подергиваясь:
– Когда я уходил, пугали они меня, соседушки мои. От тоски, говорят, помрешь. А вот и не помру теперь. ты у меня есть. Одному и в самом деле плохо. Я уж даже подумывать начал: не податься ли к своим, но теперь ты у меня есть, и я никуда не пойду. Мне здесь хорошо: делаю, что хочу, и никто не перечит.
«Так вот ты какой, – подумал Сурок, – ты хочешь жить так, чтобы только тебе удобно было, и меня к себе для забавы берешь. Нет уж, отделился ото всех, так и живи один».
Снаружи уже гроза гремела, лил дождь. В норе у Хомяка было тепло и сухо, но поднялся Сурок и пошел к выходу.
– Пойду, – говорит, – я думал, ты из доброты пустил меня на ночь, а ты вовсе и не обо мне, о себе думал. Себялюб ты, и я с тобой даже одним воздухом у тебя норе дышать не хочу, – и, вобрав голову в плечи, нырнул под холодный ливень.
Мокрый сидел Сурок посреди пустыря. Когда вспыхивала молния, зажмуривался от страха и, замирая ждал грома. По спине его барабанил дождь. Дождь тек по щекам и груди. Высунувшись из норы, Хомяк кричал:
– Иди ко мне. Что ты мокнешь зря?
Но говорил самому себе Сурок: «Пусть будет страшно мне, пусть будет мокро мне, зато никто никогда не скажет, что я провел ночь в одной норе с тем, кто ушел от товарищей, кто любит только себя».
