Страница:
При сем присутствовавший Санчо был ошеломлен и огорошен теми почестями, какие столь знатными особами воздавались его господину; и когда он увидел, какие церемонии пришлось разводить герцогу, чтобы уговорить Дон Кихота сесть на почетное место, то сказал:
– Если ваши милости мне позволят, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом.
При этих словах Дон Кихот вздрогнул, – по-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость. Санчо посмотрел на него, все понял и сказал:
– Не бойтесь, государь мой, что я отклонюсь от моего предмета или же брякну что-нибудь совсем неподходящее, – я еще не позабыл давешних советов вашей милости насчет того, как должно говорить, много или мало, хорошо или худо.
– Я этого не помню, Санчо, – сказал Дон Кихот, – говори что хочешь, но только покороче.
– Так вот, – продолжал Санчо, – я хочу вам рассказать истинную правду, да и потом мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, все равно не даст мне соврать.
– По мне, – отозвался Дон Кихот, – ври сколько хочешь, Санчо, я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что ты намерен рассказать.
– Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь на деле.
– Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана, – сказал Дон Кихот, – а то он бог знает чего наговорит.
– Клянусь жизнью моего мужа, – сказала герцогиня, – что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен.
– Дай бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил, – объявил Санчо. – А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому он из рода Аламос де Медина дель Кампо, и женатый на донье Менсии де Киньонес, дочке дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена святого Иакова, который дон Алонсо утонул в Эррадуре и из-за которого назад тому несколько лет в нашем селе началась свара, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда же еще поколотили Томасильо Лоботряса, сына кузнеца Бальбастро... Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? Ради всего святого, скажите, что – правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун.
– До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом, – вмешался духовник, – впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии.
– Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты этак не кончишь и через два дня.
– Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие, – возразила герцогиня, – напротив, пусть рассказывает, как умеет, хотя бы не кончил и за шесть дней, если же ему и в самом деле столько понадобится, то это будут самые приятные дни в моей жизни.
– Итак, государи мои, – продолжал Санчо, – этого самого идальго я знаю как свои пять пальцев, потому от меня до его дома – рукой подать, и вот, стало быть, пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина.
– Поскорей, братец, – прервал его тут священник, – если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь.
– Бог даст, задолго до этого срока успею рассказать, – отрезал Санчо. – Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому идальго, царство ему небесное, – ведь он уж помер, и говорят, будто умирал, как святой; правда, сам-то я не видел, я тогда косил в Темблеке...
– Ради создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблеке и обойдись без погребения идальго, а то пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили.
– Ну так вот, – продолжал Санчо, – собираются они оба садиться за стол, – я их как сейчас вижу...
Великое удовольствие доставляло герцогской чете то приметное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость.
– Так вот, – продолжал Санчо, – пора, стало быть, садиться за стол, тут крестьянин и заладил: пусть, дескать, на почетное место садится идальго, а идальго заладил: пусть туда садится крестьянин, у него, мол, в доме все должно быть, как он прикажет, однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью и благовоспитанностью, и он – ни за что; наконец идальго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал: «Да садись же ты, дубина! Куда бы я ни сел, мое место все будет почетнее твоего». Вот и весь мой рассказ, и, по чести, я уверен, что пришелся он как раз кстати.
У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи; между тем хозяева, боясь, как бы Дон Кихот, который, уж верно, понял намек Санчо, не обиделся и на них, приняли степенный вид. И чтобы переменить разговор и чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсинеи и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими-де из них успел одержать победу. Дон Кихот же ей на это ответил так:
– Сеньора! Мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. Я побеждал великанов, я отсылал к ней душегубов и лиходеев, но как могли они ее отыскать, коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку, уродливее которой и представить себе невозможно?
– Не знаю, – вмешался Санчо Панса, – мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае, могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плясуну не даст спуску. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка.
– А разве ты видел ее заколдованной, Санчо? – спросил герцог.
– Еще бы не видел! – отвечал Санчо. – А какой же черт, если не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, нет, она и впрямь заколдована... так же, как мы с вами!
Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ламанчский, которого историю герцог читал постоянно, между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом:
– Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен, каким ваша светлость себе его представляет, а потому и не след вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.
Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал:
– Послушайте вы, пустая голова: кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь и попомните мое слово: возвращайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче – душегубы, и где эти заколдованные Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?
Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение, заговорил...
Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.

Глава XXXII
– Если ваши милости мне позволят, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом.
При этих словах Дон Кихот вздрогнул, – по-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость. Санчо посмотрел на него, все понял и сказал:
– Не бойтесь, государь мой, что я отклонюсь от моего предмета или же брякну что-нибудь совсем неподходящее, – я еще не позабыл давешних советов вашей милости насчет того, как должно говорить, много или мало, хорошо или худо.
– Я этого не помню, Санчо, – сказал Дон Кихот, – говори что хочешь, но только покороче.
– Так вот, – продолжал Санчо, – я хочу вам рассказать истинную правду, да и потом мой господин Дон Кихот, здесь присутствующий, все равно не даст мне соврать.
– По мне, – отозвался Дон Кихот, – ври сколько хочешь, Санчо, я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что ты намерен рассказать.
– Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь на деле.
– Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана, – сказал Дон Кихот, – а то он бог знает чего наговорит.
– Клянусь жизнью моего мужа, – сказала герцогиня, – что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен.
– Дай бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил, – объявил Санчо. – А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому он из рода Аламос де Медина дель Кампо, и женатый на донье Менсии де Киньонес, дочке дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена святого Иакова, который дон Алонсо утонул в Эррадуре и из-за которого назад тому несколько лет в нашем селе началась свара, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда же еще поколотили Томасильо Лоботряса, сына кузнеца Бальбастро... Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? Ради всего святого, скажите, что – правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун.
– До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом, – вмешался духовник, – впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии.
– Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты этак не кончишь и через два дня.
– Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие, – возразила герцогиня, – напротив, пусть рассказывает, как умеет, хотя бы не кончил и за шесть дней, если же ему и в самом деле столько понадобится, то это будут самые приятные дни в моей жизни.
– Итак, государи мои, – продолжал Санчо, – этого самого идальго я знаю как свои пять пальцев, потому от меня до его дома – рукой подать, и вот, стало быть, пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина.
– Поскорей, братец, – прервал его тут священник, – если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь.
– Бог даст, задолго до этого срока успею рассказать, – отрезал Санчо. – Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому идальго, царство ему небесное, – ведь он уж помер, и говорят, будто умирал, как святой; правда, сам-то я не видел, я тогда косил в Темблеке...
– Ради создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблеке и обойдись без погребения идальго, а то пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили.
– Ну так вот, – продолжал Санчо, – собираются они оба садиться за стол, – я их как сейчас вижу...
Великое удовольствие доставляло герцогской чете то приметное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость.
– Так вот, – продолжал Санчо, – пора, стало быть, садиться за стол, тут крестьянин и заладил: пусть, дескать, на почетное место садится идальго, а идальго заладил: пусть туда садится крестьянин, у него, мол, в доме все должно быть, как он прикажет, однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью и благовоспитанностью, и он – ни за что; наконец идальго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал: «Да садись же ты, дубина! Куда бы я ни сел, мое место все будет почетнее твоего». Вот и весь мой рассказ, и, по чести, я уверен, что пришелся он как раз кстати.
У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи; между тем хозяева, боясь, как бы Дон Кихот, который, уж верно, понял намек Санчо, не обиделся и на них, приняли степенный вид. И чтобы переменить разговор и чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсинеи и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими-де из них успел одержать победу. Дон Кихот же ей на это ответил так:
– Сеньора! Мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. Я побеждал великанов, я отсылал к ней душегубов и лиходеев, но как могли они ее отыскать, коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку, уродливее которой и представить себе невозможно?
– Не знаю, – вмешался Санчо Панса, – мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае, могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плясуну не даст спуску. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка.
– А разве ты видел ее заколдованной, Санчо? – спросил герцог.
– Еще бы не видел! – отвечал Санчо. – А какой же черт, если не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, нет, она и впрямь заколдована... так же, как мы с вами!
Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ламанчский, которого историю герцог читал постоянно, между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом:
– Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен, каким ваша светлость себе его представляет, а потому и не след вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.
Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал:
– Послушайте вы, пустая голова: кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь и попомните мое слово: возвращайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче – душегубы, и где эти заколдованные Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?
Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение, заговорил...
Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.

Глава XXXII
О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных и забавных
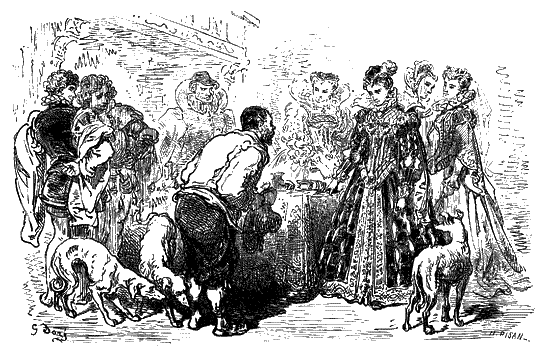 Итак, Дон Кихот вскочил, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил:
Итак, Дон Кихот вскочил, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил:
– То место, где я нахожусь, присутствие высоких особ и уважение, которое я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди ученые не владеют никаким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну и на равных основаниях вступлю в бой с вашею милостью, от которой, кстати сказать, не грубой брани, но благих советов должно было бы ожидать. Порицания душеспасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время, – во всяком случае, порицая меня во всеуслышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания, ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо, обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным и остолопом. В самом деле, я прошу вашу милость ответить: какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на двадцать-тридцать миль в окружности, чтобы так, с налету, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение – странствовать по миру, чуждаясь его веселий и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят к обители бессмертья? Когда б меня признали за слабоумного рыцари или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмываемое для себя бесчестие, а коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения: я – рыцарь и, коли будет на то воля всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи – дорогою лукавого лицемерия, четвертые – стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь – платоническая и непорочная. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит.
– Ей-богу, здорово сказано! – воскликнул Санчо. – И больше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправдание, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит?
– А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут, будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров? – спросил духовник.
– Я самый, – отвечал Санчо, – и заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым людям пристанешь, сам добрым станешь», а потом еще: «С кем поведешься, от того и наберешься», и еще: «Доброго дерева сень сулит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился, уже несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро сам стану вроде него, и ему хорошо, и мне хорошо: что там ни говори, быть ему императором, а мне – губернатором.
– Разумеется, друг Санчо, – прервал его тут герцог, – из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества.
– На колени, Санчо! – сказал Дон Кихот. – Припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость.
Санчо повиновался; тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами:
– Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им и не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается.
И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем, герцог особенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь:
– Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, великолепно за себя постояла, и теперь вам уже нет смысла требовать удовлетворения за слова, только кажущиеся обидными, но на самом деле таковыми отнюдь не являющиеся, ибо ваша милость лучше меня знает, что как женщины, так и духовные лица никого обидеть не могут.
– Ваша правда, – заметил Дон Кихот, – и это потому, что тот, кого нельзя обидеть, не может обидеть другого, а как женщины, дети и духовные лица не могут обороняться, если кто-нибудь на них нападет, то и не должны они почитать себя оскорбленными. Ваша светлость не хуже меня знает разницу между обидой и оскорблением: оскорбление исходит от того, кто может его нанести, кто его наносит и кто в нанесении его упорствует, меж тем как обида может исходить от кого угодно и не заключать в себе ничего оскорбительного. Вот вам пример: идет по улице некто, ровно ничего не подозревая, как вдруг на него нападают десять злоумышленников и избивают его палками, он выхватывает шпагу, дабы исполнить свой долг, но численный перевес на стороне противников, и он принужден отказаться от своего намерения, то есть от мести, – такого человека можно назвать обиженным, но не оскорбленным. Поясню ту же самую мысль на другом примере: идет человек, вдруг кто-то сзади к нему подходит, бьет его палкой и, не мешкая ни секунды, убегает, тот бросается за ним, но догнать не может, – так вот, о потерпевшем можно сказать, что его обидели, но не оскорбили, ибо в нанесении оскорбления должно упорствовать. Вот если бы тот, кто, пусть даже сначала из-за угла, накинулся на прохожего с палкой, выхватил, не сходя с места, шпагу и встретился с ним лицом к лицу, то в сем случае пострадавшего можно назвать и обиженным, и оскорбленным одновременно. Обиженным, потому что на него напали вероломно, оскорбленным, потому что нанесший оскорбление упорствовал в содеянном и не обращался в бегство, а стоял на месте. Итак, по законам проклятой дуэли, я могу почитать себя обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, а следовательно, им незачем ни убегать, ни останавливаться, и так же точно обстоит со священнослужителями, ибо и у тех, и у других, и у третьих нет ни оружия, ни доспехов, – обороняться они, естественно, обязаны, но не обязаны на кого бы то ни было нападать. Я только что сказал, что могу почитать себя обиженным, но теперь признаю, что вовсе нет, ибо кого нельзя оскорбить, тот не может нанести оскорбление другому, по каковой причине я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, – я бы ему доказал, как он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы.
– Это уж наверняка, – подхватил Санчо, – рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили! Бьюсь об заклад, что, если б Ринальд Монтальванский послушал рассуждения этого человечишки, – крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ними схватиться, сам был бы не рад.
Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин, да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда убрали со стола, появились четыре девушки, одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя белоснежными и роскошными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в белых своих руках (а руки у нее и точно были белые) круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Дон Кихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков, верно, местный обычай – мыть не руки, а бороду; того ради он, сколько мог, вытянул шею, вслед за тем из кувшина полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, начала изо всех сил, взметая снежные хлопья (столь ослепительной белизны была мыльная пена), тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня нимало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится необыкновенное это омовение. Между тем девушка-брадомойка густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой, Дон Кихот же остался ждать, и более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить.
Присутствовавшие, а их было немало, все как один воззрились на него, он же сидел с закрытыми глазами и намыленною бородою, на поларшина вытянув свою в высшей степени смуглую шею, и это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись; проказницы-девушки не смели поднять глаза на своих господ, а в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие – посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось, и тогда девушка, державшая полотенца, с великим бережением сухо-насухо вытерла ему лицо, и тут все четыре девушки низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу, однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал:
– А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды.
Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалились. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово в случае, если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дерзость, но они искупили вину свою тем, что благоразумно согласились вымыть с мылом и герцога.
Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе:
– Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь богом и спасением души, это было бы для меня весьма существенно, и хорошо, если б они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой.
– Что ты там бормочешь, Санчо? – спросила герцогиня.
– Я вот что говорю, сеньора, – отвечал он, – мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож после обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи – век учись, впрочем, говорят еще: дольше проживешь на свете – больше горя ты хлебнешь, хотя вот этак помыться – это не горе, а одно удовольствие.
– Не кручинься, друг Санчо, – молвила герцогиня, – я скажу моим служанкам, чтоб они не только вымыли тебя, а если понадобится, то и выстирали.
– Я бы и за одну только бороду спасибо сказал, – возразил Санчо, – пока что этого довольно, а там как господь даст.
– Дворецкий! Вы слышали, о чем просит добрый Санчо? – сказала герцогиня. – Вам надлежит в точности исполнить его желание.
Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою; между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству.
Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасною памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Тобосской, – если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожестве, то должно думать, что это – прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:
– Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блюдо, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взорам вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце, но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях, до малейшей черты, красоту несравненной Дульсинеи? Подобная задача мне не по плечу, это было бы делом, достойным кисти Паррасия, [128]Тиманта [129]и Апеллеса [130]или резца Лисиппова [131]– изобразить ее на полотне или же изваять из мрамора и меди, а дабы восславить ее, потребно красноречие Цицероново и Демосфенское.
– Что значит Демосфенское, сеньор Дон Кихот? – спросила герцогиня. – Я никогда такого слова не слыхала.
– Демосфенскоекрасноречие – это все равно что красноречие Демосфена, – отвечал Дон Кихот, – слово же Цицероновокрасноречие происходит от Цицерона, – это два величайших оратора в мире.
– Справедливо, – заметил герцог. – Задав этот вопрос, вы, герцогиня, обнаружили свою неосведомленность. Однако ж со всем тем, сеньор Дон Кихот, вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Тобосскую: пусть это будет лишь беглый очерк, все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире.
– Я бы, разумеется, сделал такой набросок, – молвил Дон Кихот, – когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось, несчастье же это столь велико, что я скорей готов оплакивать ее, нежели описывать. Надобно вам знать, ваши светлости, что назад тому несколько дней я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход, но она оказалась совсем не такою, какою я чаял встретить ее: оказалось, что ее заколдовали и из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы в уродину, из ангела в черта, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из степенной в попрыгунью, из светозарной в исчадье тьмы, одним словом, из Дульсинеи Тобосской в поселянку откуда-нибудь из Сайяго.
– Боже мой! – вскричал тут герцог. – Какой враг рода человеческого это сделал? Кто отнял у людей красоту, которой они так восхищались, веселость, которая их развлекала, и благопристойность, которая возвышала их в собственных глазах?
– Кто? – переспросил Дон Кихот. – Кто же еще, как не коварный волшебник, один из многих преследующих меня завистников? Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения, и ранят они меня, и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму – это все равно что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова: странствующий рыцарь без дамы – это все равно что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает.
– Все это бесспорно, – заметила герцогиня, – но если верить книге о сеньоре Дон Кихоте, которая не так давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньору Дульсинею и что такой сеньоры на свете нет, что она – существо вымышленное, детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось.
– По этому поводу много можно было бы сказать, – возразил Дон Кихот. – Одному богу известно, существует Дульсинея на свете или же не существует, вымышлена она или же не вымышлена, – в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении, однако все же представляю ее себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей всеми качествами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения, а именно: она – безупречная красавица, величавая, но не надменная, в любви пылкая, но целомудренная, приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности и, наконец, бесподобная в силу своей родовитости, ибо на благородной крови расцветает и произрастает красота, достигающая более высоких степеней совершенства, нежели у низкого происхождения красавиц.
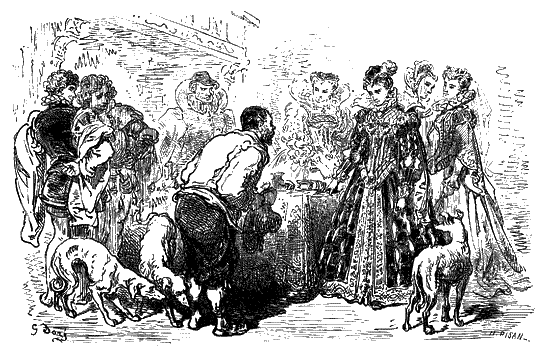
– То место, где я нахожусь, присутствие высоких особ и уважение, которое я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди ученые не владеют никаким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну и на равных основаниях вступлю в бой с вашею милостью, от которой, кстати сказать, не грубой брани, но благих советов должно было бы ожидать. Порицания душеспасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время, – во всяком случае, порицая меня во всеуслышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания, ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо, обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным и остолопом. В самом деле, я прошу вашу милость ответить: какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на двадцать-тридцать миль в окружности, чтобы так, с налету, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение – странствовать по миру, чуждаясь его веселий и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят к обители бессмертья? Когда б меня признали за слабоумного рыцари или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмываемое для себя бесчестие, а коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения: я – рыцарь и, коли будет на то воля всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи – дорогою лукавого лицемерия, четвертые – стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь – платоническая и непорочная. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит.
– Ей-богу, здорово сказано! – воскликнул Санчо. – И больше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправдание, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит?
– А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут, будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров? – спросил духовник.
– Я самый, – отвечал Санчо, – и заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым людям пристанешь, сам добрым станешь», а потом еще: «С кем поведешься, от того и наберешься», и еще: «Доброго дерева сень сулит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился, уже несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро сам стану вроде него, и ему хорошо, и мне хорошо: что там ни говори, быть ему императором, а мне – губернатором.
– Разумеется, друг Санчо, – прервал его тут герцог, – из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества.
– На колени, Санчо! – сказал Дон Кихот. – Припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость.
Санчо повиновался; тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами:
– Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им и не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается.
И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем, герцог особенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь:
– Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, великолепно за себя постояла, и теперь вам уже нет смысла требовать удовлетворения за слова, только кажущиеся обидными, но на самом деле таковыми отнюдь не являющиеся, ибо ваша милость лучше меня знает, что как женщины, так и духовные лица никого обидеть не могут.
– Ваша правда, – заметил Дон Кихот, – и это потому, что тот, кого нельзя обидеть, не может обидеть другого, а как женщины, дети и духовные лица не могут обороняться, если кто-нибудь на них нападет, то и не должны они почитать себя оскорбленными. Ваша светлость не хуже меня знает разницу между обидой и оскорблением: оскорбление исходит от того, кто может его нанести, кто его наносит и кто в нанесении его упорствует, меж тем как обида может исходить от кого угодно и не заключать в себе ничего оскорбительного. Вот вам пример: идет по улице некто, ровно ничего не подозревая, как вдруг на него нападают десять злоумышленников и избивают его палками, он выхватывает шпагу, дабы исполнить свой долг, но численный перевес на стороне противников, и он принужден отказаться от своего намерения, то есть от мести, – такого человека можно назвать обиженным, но не оскорбленным. Поясню ту же самую мысль на другом примере: идет человек, вдруг кто-то сзади к нему подходит, бьет его палкой и, не мешкая ни секунды, убегает, тот бросается за ним, но догнать не может, – так вот, о потерпевшем можно сказать, что его обидели, но не оскорбили, ибо в нанесении оскорбления должно упорствовать. Вот если бы тот, кто, пусть даже сначала из-за угла, накинулся на прохожего с палкой, выхватил, не сходя с места, шпагу и встретился с ним лицом к лицу, то в сем случае пострадавшего можно назвать и обиженным, и оскорбленным одновременно. Обиженным, потому что на него напали вероломно, оскорбленным, потому что нанесший оскорбление упорствовал в содеянном и не обращался в бегство, а стоял на месте. Итак, по законам проклятой дуэли, я могу почитать себя обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, а следовательно, им незачем ни убегать, ни останавливаться, и так же точно обстоит со священнослужителями, ибо и у тех, и у других, и у третьих нет ни оружия, ни доспехов, – обороняться они, естественно, обязаны, но не обязаны на кого бы то ни было нападать. Я только что сказал, что могу почитать себя обиженным, но теперь признаю, что вовсе нет, ибо кого нельзя оскорбить, тот не может нанести оскорбление другому, по каковой причине я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, – я бы ему доказал, как он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы.
– Это уж наверняка, – подхватил Санчо, – рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили! Бьюсь об заклад, что, если б Ринальд Монтальванский послушал рассуждения этого человечишки, – крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ними схватиться, сам был бы не рад.
Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин, да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда убрали со стола, появились четыре девушки, одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя белоснежными и роскошными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в белых своих руках (а руки у нее и точно были белые) круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Дон Кихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков, верно, местный обычай – мыть не руки, а бороду; того ради он, сколько мог, вытянул шею, вслед за тем из кувшина полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, начала изо всех сил, взметая снежные хлопья (столь ослепительной белизны была мыльная пена), тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня нимало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится необыкновенное это омовение. Между тем девушка-брадомойка густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой, Дон Кихот же остался ждать, и более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить.
Присутствовавшие, а их было немало, все как один воззрились на него, он же сидел с закрытыми глазами и намыленною бородою, на поларшина вытянув свою в высшей степени смуглую шею, и это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись; проказницы-девушки не смели поднять глаза на своих господ, а в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие – посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось, и тогда девушка, державшая полотенца, с великим бережением сухо-насухо вытерла ему лицо, и тут все четыре девушки низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу, однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал:
– А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды.
Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалились. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово в случае, если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дерзость, но они искупили вину свою тем, что благоразумно согласились вымыть с мылом и герцога.
Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе:
– Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь богом и спасением души, это было бы для меня весьма существенно, и хорошо, если б они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой.
– Что ты там бормочешь, Санчо? – спросила герцогиня.
– Я вот что говорю, сеньора, – отвечал он, – мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож после обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи – век учись, впрочем, говорят еще: дольше проживешь на свете – больше горя ты хлебнешь, хотя вот этак помыться – это не горе, а одно удовольствие.
– Не кручинься, друг Санчо, – молвила герцогиня, – я скажу моим служанкам, чтоб они не только вымыли тебя, а если понадобится, то и выстирали.
– Я бы и за одну только бороду спасибо сказал, – возразил Санчо, – пока что этого довольно, а там как господь даст.
– Дворецкий! Вы слышали, о чем просит добрый Санчо? – сказала герцогиня. – Вам надлежит в точности исполнить его желание.
Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою; между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству.
Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасною памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Тобосской, – если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожестве, то должно думать, что это – прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:
– Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блюдо, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взорам вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце, но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях, до малейшей черты, красоту несравненной Дульсинеи? Подобная задача мне не по плечу, это было бы делом, достойным кисти Паррасия, [128]Тиманта [129]и Апеллеса [130]или резца Лисиппова [131]– изобразить ее на полотне или же изваять из мрамора и меди, а дабы восславить ее, потребно красноречие Цицероново и Демосфенское.
– Что значит Демосфенское, сеньор Дон Кихот? – спросила герцогиня. – Я никогда такого слова не слыхала.
– Демосфенскоекрасноречие – это все равно что красноречие Демосфена, – отвечал Дон Кихот, – слово же Цицероновокрасноречие происходит от Цицерона, – это два величайших оратора в мире.
– Справедливо, – заметил герцог. – Задав этот вопрос, вы, герцогиня, обнаружили свою неосведомленность. Однако ж со всем тем, сеньор Дон Кихот, вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Тобосскую: пусть это будет лишь беглый очерк, все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире.
– Я бы, разумеется, сделал такой набросок, – молвил Дон Кихот, – когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось, несчастье же это столь велико, что я скорей готов оплакивать ее, нежели описывать. Надобно вам знать, ваши светлости, что назад тому несколько дней я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход, но она оказалась совсем не такою, какою я чаял встретить ее: оказалось, что ее заколдовали и из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы в уродину, из ангела в черта, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из степенной в попрыгунью, из светозарной в исчадье тьмы, одним словом, из Дульсинеи Тобосской в поселянку откуда-нибудь из Сайяго.
– Боже мой! – вскричал тут герцог. – Какой враг рода человеческого это сделал? Кто отнял у людей красоту, которой они так восхищались, веселость, которая их развлекала, и благопристойность, которая возвышала их в собственных глазах?
– Кто? – переспросил Дон Кихот. – Кто же еще, как не коварный волшебник, один из многих преследующих меня завистников? Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения, и ранят они меня, и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму – это все равно что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова: странствующий рыцарь без дамы – это все равно что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает.
– Все это бесспорно, – заметила герцогиня, – но если верить книге о сеньоре Дон Кихоте, которая не так давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньору Дульсинею и что такой сеньоры на свете нет, что она – существо вымышленное, детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось.
– По этому поводу много можно было бы сказать, – возразил Дон Кихот. – Одному богу известно, существует Дульсинея на свете или же не существует, вымышлена она или же не вымышлена, – в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении, однако все же представляю ее себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей всеми качествами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения, а именно: она – безупречная красавица, величавая, но не надменная, в любви пылкая, но целомудренная, приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности и, наконец, бесподобная в силу своей родовитости, ибо на благородной крови расцветает и произрастает красота, достигающая более высоких степеней совершенства, нежели у низкого происхождения красавиц.
