Страница:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая »
- Последняя >>
Нина Александровна Емельянова
Колбат
Повесть о связной собаке

1
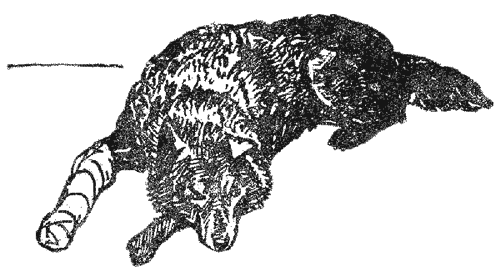
Савельеву надо было пересечь площадь до аллеи, делившей военный городок на две части. В западной, большой, откуда шел Савельев, располагались красноармейские общежития вокруг широкой площади, где обычно происходили учебные занятия полка, а в восточной, меньшей, были конюшни, овощные склады, ветеринарный лазарет и собачий городок. В нем жили связные собаки полка. Аллея была длиной в полкилометра, по обеим ее сторонам росли ясени с такими широкими кронами, что ветви их сплетались над дорогой. Вдоль нее в кирпичных и деревянных одноэтажных домах жили семьи командиров.
Из-за деревьев Савельев увидел, как с крыльца своей квартиры спускался политрук роты связи, и внезапно вспомнил, что третьего дня его вызывали в комиссию по выбраковке связных собак и он в присутствии этого самого политрука должен был смотреть, как осрамилась одна из лучших собак полка. Думать об этом было так нехорошо, что Савельев поторопился перейти площадь и вышел на аллею.
На широком ее полотне поверх снега лежало множество мелких, обломанных ветром ветвей. Какой-то ранний лыжник проложил две прямые, чуть голубеющие полосы да пятилетний Женька, сын командира батальона, неуклюже подбрасывая маленькое тельце с круглым животом, плелся на неудобных ему больших, обломанных сзади лыжах.
– Смотри, я иду на рыжах, – закричал он Савельеву, с которым был близко знаком, – а ты к собакам?
– К собакам, – сказал Савельев и, нагнувшись, осмотрел лыжи. – «Рыжи» твои мало подходящие, приходи в выходной, я тебе их налажу.
Женька пообещал прийти и, желая показать Савельеву, что он и на таких управляется, покатился под горку.
От площади к аллее гуськом подходили на лыжах молодые красноармейцы. Полы их шинелей были заправлены под поясные ремни и шлемы застегнуты у подбородка. На уплотненном ветром бугристом снегу им трудно было держаться прямой линии: на гребнях застывших снежных волн лыжи разъезжались, так что их непрерывно надо было выравнивать. Лыжников легко обогнал старшина полковой школы Сухенко. Его складное, сильное тело легко и глубоко склонялось при каждом толчке палками, выпрямлялось, и тогда Сухенко бросал его вперед и, упершись на палки, снова глубоко сгибался в поясе. Увидев одного из лучших лыжников полка, молодые красноармейцы представили и себя такими же складными и сильными, заработали быстрее ногами и палками, и один, поскользнувшись, упал.
– Молоды еще бегать, как Сухенко, – сказал Савельев, бессознательно присоединяя и себя к таким, как Сухенко, опытным, умелым младшим командирам-сверхсрочникам, и почувствовал, что чему-то очень рад.
Радость была от того, что вчера он додумался, как сохранить породистых щенков от своей любимицы немецкой овчарки Найды. Найда ощенилась третьего дня и принесла семь очень хороших щенят. Но беда была в том, что всех семерых она не могла выкормить. Савельев же вчера достал в поселке только что ощенившуюся бездомную собаку, у которой из трех щенят двоих утащили ребята, и вместе с оставшимся щенком принес ее к себе в казарму.
Собака была лохматая, с длинной шерстью, налезавшей на глаза, и такая грязная, что Савельеву пришлось ее вымыть, прежде чем подложить к ней щенков Найды. В ее набухших сосках было столько молока, что оно скатывалось белыми капельками; собака жалостно смотрела на Савельева и дрожала. Обсушив ее и накормив, Савельев отдоил немного молока у приемной матери и помазал им мордочки и спинки трех щенят Найды. Потом подвел собаку и все гладил ее по спине. Она обнюхала солому, щенят, где вместе с тремя чужими был один ее щенок, и, почуяв родной запах, остановилась, будто в недоумении. Вдруг ее щенок завозился и, ткнувшись тяжелой головой, перевалился на бок так, что стал виден розовый в крапинку живот, и тоненько заскулил. Собака без колебаний шагнула к щенятам, легла к ним и, не различая чужих от своего, стала лизать их головенки, сильно толкая и перевертывая щенят с боку на бок. Потом они всей гурьбой полезли к ней и присосались. Это случилось вчера, а сегодня Савельев был у обеих матерей и нашел все в полном порядке, так что не отличить было, у кого щенята сытее и чище: у Найды или у приемной матери.
Савельев перешел аллею и услышал, как участился собачий лай за высоким забором: собаки его почуяли. Он спустился на три занесенные снегом земляные ступеньки: собачьи будки на зиму ставились в широкое углубление, выкопанное в земле и обнесенное забором, – защита от частых в Приморье ветров. После вчерашней пурги будки и площадка между ними были легко посыпаны мелким сверкающим снегом, и только у будок, насколько хватала длина поводков, снег был до земли вытоптан собачьими лапами.
Всегда при его появлении собаки оживлялись, лаяли, скулили и, припадая на передние лапы, виляли хвостами: просили подойти.
И сегодня было как будто так же, и все-таки опытный собаковод Савельев почувствовал, что, пожалуй, и не так.
Будок было двенадцать, и около них, привязанные на поводках, рвались к нему двенадцать породистых, умных собак. Тут были немецкие овчарки, гиляцкие и забайкальские лайки – обученные в питомниках служебные собаки. Больше всего обычно выражал ласковое и почтительное внимание к Савельеву крупный серый Хабитус, породой – немецкая овчарка, воспитанием – санитар. Но сегодня он жалобно скулил, уставившись в дальний угол, и рвался туда со своего поводка.
– Что там, Хабитус? Кошка? – спросил Савельев, но тут же заметил, что молоденькая белоснежная Ангара боязливо жмется к будке, а Канис, большой черный пес, гиляцкая лайка, взъерошив гривкой шерсть на спине, глухо рычит и отступает от своей будки спиной, крутя шеей и стараясь выпростать голову из ошейника.
Увидев Савельева, Канис повернул голову, будто желая проявить обычные ласковые чувства, но то, что привлекало его внимание за будкой, было интереснее, чем приход Савельева, – он снова повернул морду к будке и медленно лег, вытянув передние лапы. Уши его насторожились, носом он все время вынюхивал. И вдруг завыл по-волчьи…
– А, чтоб тебе! – воскликнул Савельев, стараясь понять, в чем дело. – Канис, смирно!
Но пес не переставал, и, слушая печальный, унылый его вой, Савельев подошел к нему и внимательно стал рассматривать, не болен ли Канис. Он взял его за голову, отвернул оба уха, посмотрел, отвернул веко – глаза были чистые; пощупал грудь, живот. Канис примолк и вильнул хвостом. Он, видимо, был совершенно здоров.

Зато сзади Савельева заскулил Аян, серая гиляцкая лайка с великолепной широкой грудью и подтянутым животом. У Аяна была такая густая шерсть, что до кожи трудно было добраться рукой.
– Что-то чуют собаки! – вслух сказал Савельев, осматривая будку Каниса, и вдруг, заглянув за будку, бросился вперед. – Колбат! – крикнул он. – Колбат!
В узком пространстве между будкой и забором, покрытый не то инеем, не то снегом, неподвижно лежал большой черный пес.
– Колбат! – еще раз позвал его Савельев, и каждый, кто услышал бы этот зов, понял бы, как огорчен и как жалеет эту черную собаку Савельев.
Но Колбат не отозвался ни одним движением на зов красноармейца, и Савельев, согнувшись, полез за будку.
Колбат лежал, откинув голову; из-под полузакрытых век поблескивали узкие полоски синеватых белков; под могучей его грудью снег был пропитан кровью, и на белой шерсти было широкое красное пятно.
«Мертвый или живой?» – думал Савельев, подсовывая руки под грудь и пах Колбата и стараясь вытащить его из-за будки. Собаки скулили, лаяли и рвались с поводков пуще прежнего.
Между будкой и забором Савельев едва пробрался. Колбат был большой и тяжелый, так что вытащить его было нелегко. Когда, пятясь задом и наклонившись, Савельев вылез из-за будки, неся на руках Колбата, он был зол и ворчал на кого-то, кто не понимает, какую собаку берет, а раз не понимает, лучше и не брал бы.
Он опустил Колбата на землю и стал его осматривать и ощупывать; Колбат приоткрыл глаза и потянулся мордой к Савельеву.
– Лежи, лежи, Колбат, – обрадовался Савельев, – вот мы тебя сейчас к врачу и в тепло… – и обещал Колбату, что он сейчас накормит его и разделается с тем, кто его подстрелил.
Савельев осторожно перевернул собаку на другой бок, разобрал шерсть на ее груди и увидел, что кровь была только сверху, а под ней блестела чистая, белая шерсть. Но, когда он задел правую переднюю лапу, Колбат слабо взвизгнул: обе кости передней лапы были перебиты, так что лапа неприятно сламывалась ниже колена, где должна была быть твердая кость. Ранение было, как решил Савельев, из револьвера, судя по входному и выходному отверстиям. Колбата надо было поместить в тепло и заняться им всерьез.
Савельев прикинул, куда бы ему устроить собаку. В теплой комнате ветеринарного пункта помещалась Найда со щенками, в углу казармы, где жил Савельев, в большом ящике он устроил вторую партию щенят с приемной матерью, с трудом получив на это разрешение старшины.
– Ладно, – сказал он кому-то, – когда так – сами и принимайте!
И, снова подняв Колбата на руки, Савельев подхватил его снизу полою полушубка, чтобы собаке было удобнее и теплее, прижал к себе большое черное вздрагивающее тело и решительно вышел из загородки. Он даже не ответил красноармейцам, своим помощникам, куда он тащит Колбата. Он только распорядился делать уборку и кормить собак без него и, выйдя на аллею, быстро зашагал к комсоставским корпусам.
2
Мы жили на Дальнем Востоке, в военном городке: Андрей, я и Лена. Андрей был начальником штаба стрелкового полка, а мы с Леной – семья командира.
Окна нашего деревянного одноэтажного дома выходили на прекрасную ясеневую аллею; кроны старых ясеней густо переплетались над широким полотном дороги своими ветвями. Только зимой аллея была вся освещена солнцем, но и зимой узловатые сплетения синих теней лежали на белом снегу. Летом же, особенно в пасмурные дни, под густой листвой ясеней было полутемно.
По этой аллее каждый день утром проходили мимо нас красноармейцы на стрельбище, а иногда и весь полк выходил на ученье. Эти дни мы с Леной очень любили, потому что в сборах на ученье целого полка много интересного. Напротив нашего дома, через аллею, стоял двухэтажный кирпичный дом, где помещался штаб полка. За ним открывалась большая площадь, такая широкая, что окружавшие ее двухэтажные корпуса красноармейских общежитий казались вдвое ниже штабного корпуса, хотя на самом деле были совершенно одинаковы с ним.
На этой площади собирался наш полк перед выходом в поле, и если Лена знала об этом, то непременно выбегала посмотреть. Часто и я ходила с ней. Об учебных выходах мы с Леной узнавали заранее, потому что Андрей готовился к ним с вечера накануне: доставал большой планшет, карту, проверял набор цветных карандашей в полевой сумке, вытаскивал свой походный чемоданчик и складную кровать в зеленом брезентовом чехле. Вечером он долго сидел за письменным столом и, разложив перед собой карту, сначала «поднимал» ее: синим карандашом проводил реки и ручьи, зеленым – лес, коричневым – дороги. От этого карта оживала, и по ней можно было быстрей и легче ориентироваться. Потом красным и синим карандашом он наносил войска – свои и «противника». Тогда мы знали, что утром полк идет на ученье.
Но чаще полк выходил на ученье по тревоге, в неизвестное нам время. Бывало, займешься своими делами дома, и вдруг послышится из-за закрытых окон, будто где-то мерно выбивают большой ковер. Если открыть форточку, со стороны площади донесется трубная мелодия марша, а мерные эти звуки окажутся ударами барабана: так стекло разделяет слитую разными инструментами оркестра общую мелодию. Это значит, что полк, быстро собравшись на площади, уже выходит на аллею. Только успеешь отдать вещи Андрея забежавшему за ними посыльному, как уже слышен четкий шаг идущих красноармейцев. На аллее среди стволов деревьев блестят трубы оркестра, за музыкантским взводом идет рота связи, саперы, полковая школа, батальоны, санитары, едут пулеметные двуколки, орудия, походные кухни – сразу и не представишь, сколько всего разнообразного объединяется под одним словом «полк».
Хорошо смотреть, как идет стройная, согласованная в движении масса молодых, крепких людей. Все бодры, подтянуты, всем хочется провести ученье как можно лучше: вести разведку, передвигаться, стрелять – все делать отлично. Наш полк принадлежал к Краснознаменной дивизии имени Сталина, сам был краснознаменным и всегда по осени выходил на первые места в Особой Краснознаменной армии. Понятно, что в таком полку все стараются и за себя и за всех, и нет веселее для сердца такой товарищеской общей работы.
Итак, полк стройно, в походном порядке, идет по аллее, и свежий утренний ветер встречает его. Ветер относит в сторону мелодию марша, так что снова начинают слышаться только мерные удары в барабан. Хотя это простой выход на очередное занятие и полковое знамя сегодня осталось в штабе, все равно, в дни таких общих выходов мне всегда кажется, что знамена развеваются над головами наших красноармейцев, они идут в последний, торжественный и решительный поход и знамена над ними освещены солнцем во всякую погоду. И тогда очень трудно оставаться дома и смотреть, как они проходят мимо.
Нам с Леной очень нравилось, что впереди батальонов, во взводах связи, шли связные собаки со своими проводниками. Приятно было смотреть на них и знать, что это очень умные собаки. Они шли каждая с левой стороны своего вожатого, некоторые смешно поторапливались и высовывались вперед головой, нарушая линию строя. Тогда проводники легонько осаживали их, натягивая поводок. Иногда какой-нибудь молодой пес деловито совал нос в подсумок вожатого: там хранились вкусные кусочки для поощрения и оттуда славно пахло красноармейским хлебом.
Среди собак у нас были любимцы. Лене особенно нравился Хабитус, внушительный светло-серый пес, чистокровная немецкая овчарка. У него были замечательные человечески внимательные глаза, и он ласково извивался всем своим большим, длинным телом, если подойти и погладить его. Нам казалось, что он особенно любил меня и Лену. На самом же деле Хабитус был равно ласков ко всем.
Раз пришли к Лене школьные товарищи и увидели на аллее санинструктора Рязанова с Хабитусом. Один мальчик погладил Хабитуса, а потом и говорит:
– Это у вас совсем негодная связная собака. Что это за пес? Ко всем ласкается! Ни своих, ни чужих не разбирает. Вот я воспитаю, так это будет настоящая собака для армии.
Тут к ребятам подошел старший собаковод товарищ Савельев и объяснил им, что Хабитус – незаменимый друг красноармейца и командира: он – санитар и должен на поле боя всем равно оказывать помощь.
– А работает он так чисто, – сказал Савельев, – что просто загляденье смотреть на его поиск.
Хабитус шел на ученья всегда очень весело, помахивая пушистым хвостом и чуть-чуть приподнимая темную верхнюю губу над белыми зубами. Казалось, Хабитус улыбается. Санитарные сумки с красным крестом висели у него по бокам, и, честное слово, милый этот пес вызывал неожиданное замирание в груди, тепло и благодарно сжималось сердце: жене командира хорошо знать, что на поле боя, в самое страшное время, у ее мужа и его товарищей – командиров и красноармейцев – будет такой внимательный, верный друг.
Однажды вечером мы с Леной возвращались домой на лыжах и остановились посмотреть, как проводник Хабитуса, санинструктор Рязанов, тренировал его в березовой рощице у дороги. Рязанов посылал его искать своего помощника, и Хабитус хлопотливо носился туда и обратно вдоль своего прежнего пути, отступая от него на несколько метров и так обыскивая местность. Нос он не опускал по следу, как охотничья собака, а приподнимал голову и посматривал.
Очень скоро Хабитус нашел спрятавшегося в канаве красноармейца, схватил в зубы болтавшийся на ошейнике бринзель – небольшую палочку, привязанную на ремешке, – и побежал «доложить». Он смешно засеменил вокруг Рязанова, обежал сзади и сел у его левой ноги, веселый и возбужденный. Рязанов понял, что Хабитус нашел человека: собака так приучена, что, увидев раненого, хватает зубами бринзель, привязанный к ее ошейнику, и несет вожатому. Рязанов сказал «харра-шо!», отобрал у Хабитуса бринзель и дал ему что-то из согнутой ладони. В это время Лена крикнула:
– Хабитус!
Хабитус повернул голову и снизу вверх посмотрел на вожатого. Тот сделал едва заметное движение глазами, и пес бросился к нам стремглав, как всегда извиваясь спиной, подставляя бока и спину под маленькие Ленины руки.
– Избалуем мы вашего Хабитуса, товарищ Рязанов, – сказала я. – Пусти его, Лена.
– А вот посмотрите, – усмехнулся Рязанов и позвал: – Хабитус, ко мне!
Хабитус мгновенно отскочил от нас и сел с левой стороны около Рязанова, с готовностью ожидая его приказа.
– Ну-ка, теперь позовите Хабитуса, – сказал Рязанов.
Лена позвала. Хабитус шевельнул хвостом, но не обернулся. Лена подъехала на лыжах и, по-приятельски обхватив большую собачью голову, потянула ее к себе, повторяя: «Хабитус, пойдем!» и даже тоненько посвистела. Но не то замечательно, что Хабитус не тронулся с места – внешнему повиновению можно выучить, – а то поразило меня, что пес имел, видимо, и сам большой интерес к своей работе: он весь собрался, острее насторожил уши и, приготовив себя к выполнению приказания, упорно уклонялся от бурного натиска Лены.
– Вот, – сказал Рязанов, очень довольный собакой. – Хабитус, конечно, знает, что ему будет от меня поощрение за работу, но только он и сам предан делу! Хабитус! Ищи!
И Хабитус снова деловито побежал по аллее.
На самом ученье наблюдать за Хабитусом было еще интереснее.
Однажды на осенних маневрах я работала в дивизионной газете «Сталинец». Вечером мы выпускали боевой листок в роте связи нашего полка. Теплый и тихий был вечер. Река наша – Суйфун – словно и не текла под берегом, а просто стеклянела, отражая прибрежные зеленые кусты и светлое небо. На том берегу красноармейцы-саперы вытаскивали большие надувные лодки. Тот берег был отлогий, песчаный, а наш высокий; в него вдавалась долина давно пересохшего ручья, густо заросшего травой и кустарником. В долине этой располагался резерв связи, а у левого крутого каменного склона, как сфинксы, лежали собаки, вытянув передние лапы, подняв головы и водя глазами за своими вожатыми: подходило время их кормить. Невдалеке от меня радист с полевой радиостанции передавал сообщение, по два раза повторяя одно и то же слово.
В это время подъехал Андрей. Он спрыгнул с лошади; навстречу ему подошел командир роты связи. Они поговорили. Потом Андрей подошел к собакам и опустил руку на голову Хабитуса. Тот обрадовался и заюлил сверх всякой меры. Андрей присел на корточки.
– Пес Хабитус, – приговаривал он, – ах, какой славный пес Хабитус! Отбил небось лапы?
Рязанов подошел и поздоровался.
– Ну, как у вас Хабитус работает?
– Хорошо работает, товарищ начальник.
– Надо бы его как-нибудь посмотреть на работе.
– Да хоть сейчас, товарищ начальник! Хотите на себе испытать?
– Хочу.
– Ну так идите в ложбинку и притаитесь. Только дайте я Хабитусу морду отверну. Пущу через десять минут.
Рязанов повернул Хабитуса к себе и, обхватив обеими ладонями его морду, легонько взъерошил ему шерсть на загривке и за ушами, чтобы отвлечь его внимание. Андрей тем временем быстро пробежал по тропочке к ложбине, потом бросился скачками по густой траве, пересекая долину наискось и уходя все дальше от берега. Минуты две мы видели сначала его гимнастерку и широкие плечи, потом только фуражку, потом шевеление кустов и трав, а там и кусты и трава затихли и остановились неподвижно.
Подождав еще минут пять, Рязанов пустил Хабитуса по всем правилам: надел на него санитарную сумку, прикрепил к ошейнику привязанный на ремешке бринзель, показал вытянутой рукой направление на долину и сказал:
– Ищи!
Хабитус мягко понесся сначала вдоль левого края долины, как бы заглядывая под яр, приостанавливаясь там, где были выемки от осыпавшейся земли. Так учат собак-санитаров: искать пораженных в бою сначала под ярами и в оврагах, потому что человек, раненный на открытом месте, если еще имеет силы, старается уползти под прикрытие.
Видим: несется Хабитус обратно, но уже не у самого коренного берега долины, а отступя от него метра на два, водит мордой по сторонам, и бринзель болтается у него на ошейнике от быстрого бега. Добежал почти до нас, не останавливаясь, повернул и снова понесся в густой траве, еще дальше отступая от осмотренного края. Так Хабитус рядами прочесывал долину, и вдруг, не добежав еще до правого ее края, где под сопкой затаился Андрей, внезапно повернул и сильными прыжками кинулся напрямик: увидел или почуял.
Вернувшись к нам, Андрей рассказывал: лежит он под осыпью, уперся на локти и, приподняв голову, наблюдает за Хабитусом. И до того, говорит, смешно смотреть, как хлопотливо проскочил вдали большой пес и другой раз проскочил, а морда у него очень озабоченная и внимательная.
Андрей подумал, что вот так же будет Хабитус работать и после настоящего боя, и постарался сделать собаке задачу потруднее: лег ничком, опустил голову и не стонет.
Подскочил Хабитус к Андрею, обнюхал его и тут же схватил зубами свой бринзель, ткнулся носом в его лицо: не встанет ли? Андрею было щекотно около уха и очень хорошо на душе – пес заботился о нем со всем старанием. Видит: не встает человек. Тогда Хабитус привалился к нему тем боком, где висела санитарная сумка: просит взять, что надо. Андрей чуть пошевелился. Тут Хабитус, наверно, сообразил, что дело обстоит неважно, надо спешить за санитаром, и побежал обратно. А мы, стоя около реки, увидели, как выскочил из травы Хабитус, обскакал вокруг товарища Рязанова и сел к левой его ноге. Рязанов взял у него изо рта бринзель и понял, что Хабитус нашел «раненого». Хабитус побежал напрямик и привел нас к Андрею.
Когда Андрей встал, обхватил голову собаки руками и сказал: «Спасибо за службу!», вот было у пса радости!
Окна нашего деревянного одноэтажного дома выходили на прекрасную ясеневую аллею; кроны старых ясеней густо переплетались над широким полотном дороги своими ветвями. Только зимой аллея была вся освещена солнцем, но и зимой узловатые сплетения синих теней лежали на белом снегу. Летом же, особенно в пасмурные дни, под густой листвой ясеней было полутемно.
По этой аллее каждый день утром проходили мимо нас красноармейцы на стрельбище, а иногда и весь полк выходил на ученье. Эти дни мы с Леной очень любили, потому что в сборах на ученье целого полка много интересного. Напротив нашего дома, через аллею, стоял двухэтажный кирпичный дом, где помещался штаб полка. За ним открывалась большая площадь, такая широкая, что окружавшие ее двухэтажные корпуса красноармейских общежитий казались вдвое ниже штабного корпуса, хотя на самом деле были совершенно одинаковы с ним.
На этой площади собирался наш полк перед выходом в поле, и если Лена знала об этом, то непременно выбегала посмотреть. Часто и я ходила с ней. Об учебных выходах мы с Леной узнавали заранее, потому что Андрей готовился к ним с вечера накануне: доставал большой планшет, карту, проверял набор цветных карандашей в полевой сумке, вытаскивал свой походный чемоданчик и складную кровать в зеленом брезентовом чехле. Вечером он долго сидел за письменным столом и, разложив перед собой карту, сначала «поднимал» ее: синим карандашом проводил реки и ручьи, зеленым – лес, коричневым – дороги. От этого карта оживала, и по ней можно было быстрей и легче ориентироваться. Потом красным и синим карандашом он наносил войска – свои и «противника». Тогда мы знали, что утром полк идет на ученье.
Но чаще полк выходил на ученье по тревоге, в неизвестное нам время. Бывало, займешься своими делами дома, и вдруг послышится из-за закрытых окон, будто где-то мерно выбивают большой ковер. Если открыть форточку, со стороны площади донесется трубная мелодия марша, а мерные эти звуки окажутся ударами барабана: так стекло разделяет слитую разными инструментами оркестра общую мелодию. Это значит, что полк, быстро собравшись на площади, уже выходит на аллею. Только успеешь отдать вещи Андрея забежавшему за ними посыльному, как уже слышен четкий шаг идущих красноармейцев. На аллее среди стволов деревьев блестят трубы оркестра, за музыкантским взводом идет рота связи, саперы, полковая школа, батальоны, санитары, едут пулеметные двуколки, орудия, походные кухни – сразу и не представишь, сколько всего разнообразного объединяется под одним словом «полк».
Хорошо смотреть, как идет стройная, согласованная в движении масса молодых, крепких людей. Все бодры, подтянуты, всем хочется провести ученье как можно лучше: вести разведку, передвигаться, стрелять – все делать отлично. Наш полк принадлежал к Краснознаменной дивизии имени Сталина, сам был краснознаменным и всегда по осени выходил на первые места в Особой Краснознаменной армии. Понятно, что в таком полку все стараются и за себя и за всех, и нет веселее для сердца такой товарищеской общей работы.
Итак, полк стройно, в походном порядке, идет по аллее, и свежий утренний ветер встречает его. Ветер относит в сторону мелодию марша, так что снова начинают слышаться только мерные удары в барабан. Хотя это простой выход на очередное занятие и полковое знамя сегодня осталось в штабе, все равно, в дни таких общих выходов мне всегда кажется, что знамена развеваются над головами наших красноармейцев, они идут в последний, торжественный и решительный поход и знамена над ними освещены солнцем во всякую погоду. И тогда очень трудно оставаться дома и смотреть, как они проходят мимо.
Нам с Леной очень нравилось, что впереди батальонов, во взводах связи, шли связные собаки со своими проводниками. Приятно было смотреть на них и знать, что это очень умные собаки. Они шли каждая с левой стороны своего вожатого, некоторые смешно поторапливались и высовывались вперед головой, нарушая линию строя. Тогда проводники легонько осаживали их, натягивая поводок. Иногда какой-нибудь молодой пес деловито совал нос в подсумок вожатого: там хранились вкусные кусочки для поощрения и оттуда славно пахло красноармейским хлебом.
Среди собак у нас были любимцы. Лене особенно нравился Хабитус, внушительный светло-серый пес, чистокровная немецкая овчарка. У него были замечательные человечески внимательные глаза, и он ласково извивался всем своим большим, длинным телом, если подойти и погладить его. Нам казалось, что он особенно любил меня и Лену. На самом же деле Хабитус был равно ласков ко всем.
Раз пришли к Лене школьные товарищи и увидели на аллее санинструктора Рязанова с Хабитусом. Один мальчик погладил Хабитуса, а потом и говорит:
– Это у вас совсем негодная связная собака. Что это за пес? Ко всем ласкается! Ни своих, ни чужих не разбирает. Вот я воспитаю, так это будет настоящая собака для армии.
Тут к ребятам подошел старший собаковод товарищ Савельев и объяснил им, что Хабитус – незаменимый друг красноармейца и командира: он – санитар и должен на поле боя всем равно оказывать помощь.
– А работает он так чисто, – сказал Савельев, – что просто загляденье смотреть на его поиск.
Хабитус шел на ученья всегда очень весело, помахивая пушистым хвостом и чуть-чуть приподнимая темную верхнюю губу над белыми зубами. Казалось, Хабитус улыбается. Санитарные сумки с красным крестом висели у него по бокам, и, честное слово, милый этот пес вызывал неожиданное замирание в груди, тепло и благодарно сжималось сердце: жене командира хорошо знать, что на поле боя, в самое страшное время, у ее мужа и его товарищей – командиров и красноармейцев – будет такой внимательный, верный друг.
Однажды вечером мы с Леной возвращались домой на лыжах и остановились посмотреть, как проводник Хабитуса, санинструктор Рязанов, тренировал его в березовой рощице у дороги. Рязанов посылал его искать своего помощника, и Хабитус хлопотливо носился туда и обратно вдоль своего прежнего пути, отступая от него на несколько метров и так обыскивая местность. Нос он не опускал по следу, как охотничья собака, а приподнимал голову и посматривал.
Очень скоро Хабитус нашел спрятавшегося в канаве красноармейца, схватил в зубы болтавшийся на ошейнике бринзель – небольшую палочку, привязанную на ремешке, – и побежал «доложить». Он смешно засеменил вокруг Рязанова, обежал сзади и сел у его левой ноги, веселый и возбужденный. Рязанов понял, что Хабитус нашел человека: собака так приучена, что, увидев раненого, хватает зубами бринзель, привязанный к ее ошейнику, и несет вожатому. Рязанов сказал «харра-шо!», отобрал у Хабитуса бринзель и дал ему что-то из согнутой ладони. В это время Лена крикнула:
– Хабитус!
Хабитус повернул голову и снизу вверх посмотрел на вожатого. Тот сделал едва заметное движение глазами, и пес бросился к нам стремглав, как всегда извиваясь спиной, подставляя бока и спину под маленькие Ленины руки.
– Избалуем мы вашего Хабитуса, товарищ Рязанов, – сказала я. – Пусти его, Лена.
– А вот посмотрите, – усмехнулся Рязанов и позвал: – Хабитус, ко мне!
Хабитус мгновенно отскочил от нас и сел с левой стороны около Рязанова, с готовностью ожидая его приказа.
– Ну-ка, теперь позовите Хабитуса, – сказал Рязанов.
Лена позвала. Хабитус шевельнул хвостом, но не обернулся. Лена подъехала на лыжах и, по-приятельски обхватив большую собачью голову, потянула ее к себе, повторяя: «Хабитус, пойдем!» и даже тоненько посвистела. Но не то замечательно, что Хабитус не тронулся с места – внешнему повиновению можно выучить, – а то поразило меня, что пес имел, видимо, и сам большой интерес к своей работе: он весь собрался, острее насторожил уши и, приготовив себя к выполнению приказания, упорно уклонялся от бурного натиска Лены.
– Вот, – сказал Рязанов, очень довольный собакой. – Хабитус, конечно, знает, что ему будет от меня поощрение за работу, но только он и сам предан делу! Хабитус! Ищи!
И Хабитус снова деловито побежал по аллее.
На самом ученье наблюдать за Хабитусом было еще интереснее.
Однажды на осенних маневрах я работала в дивизионной газете «Сталинец». Вечером мы выпускали боевой листок в роте связи нашего полка. Теплый и тихий был вечер. Река наша – Суйфун – словно и не текла под берегом, а просто стеклянела, отражая прибрежные зеленые кусты и светлое небо. На том берегу красноармейцы-саперы вытаскивали большие надувные лодки. Тот берег был отлогий, песчаный, а наш высокий; в него вдавалась долина давно пересохшего ручья, густо заросшего травой и кустарником. В долине этой располагался резерв связи, а у левого крутого каменного склона, как сфинксы, лежали собаки, вытянув передние лапы, подняв головы и водя глазами за своими вожатыми: подходило время их кормить. Невдалеке от меня радист с полевой радиостанции передавал сообщение, по два раза повторяя одно и то же слово.
В это время подъехал Андрей. Он спрыгнул с лошади; навстречу ему подошел командир роты связи. Они поговорили. Потом Андрей подошел к собакам и опустил руку на голову Хабитуса. Тот обрадовался и заюлил сверх всякой меры. Андрей присел на корточки.
– Пес Хабитус, – приговаривал он, – ах, какой славный пес Хабитус! Отбил небось лапы?
Рязанов подошел и поздоровался.
– Ну, как у вас Хабитус работает?
– Хорошо работает, товарищ начальник.
– Надо бы его как-нибудь посмотреть на работе.
– Да хоть сейчас, товарищ начальник! Хотите на себе испытать?
– Хочу.
– Ну так идите в ложбинку и притаитесь. Только дайте я Хабитусу морду отверну. Пущу через десять минут.
Рязанов повернул Хабитуса к себе и, обхватив обеими ладонями его морду, легонько взъерошил ему шерсть на загривке и за ушами, чтобы отвлечь его внимание. Андрей тем временем быстро пробежал по тропочке к ложбине, потом бросился скачками по густой траве, пересекая долину наискось и уходя все дальше от берега. Минуты две мы видели сначала его гимнастерку и широкие плечи, потом только фуражку, потом шевеление кустов и трав, а там и кусты и трава затихли и остановились неподвижно.
Подождав еще минут пять, Рязанов пустил Хабитуса по всем правилам: надел на него санитарную сумку, прикрепил к ошейнику привязанный на ремешке бринзель, показал вытянутой рукой направление на долину и сказал:
– Ищи!
Хабитус мягко понесся сначала вдоль левого края долины, как бы заглядывая под яр, приостанавливаясь там, где были выемки от осыпавшейся земли. Так учат собак-санитаров: искать пораженных в бою сначала под ярами и в оврагах, потому что человек, раненный на открытом месте, если еще имеет силы, старается уползти под прикрытие.
Видим: несется Хабитус обратно, но уже не у самого коренного берега долины, а отступя от него метра на два, водит мордой по сторонам, и бринзель болтается у него на ошейнике от быстрого бега. Добежал почти до нас, не останавливаясь, повернул и снова понесся в густой траве, еще дальше отступая от осмотренного края. Так Хабитус рядами прочесывал долину, и вдруг, не добежав еще до правого ее края, где под сопкой затаился Андрей, внезапно повернул и сильными прыжками кинулся напрямик: увидел или почуял.
Вернувшись к нам, Андрей рассказывал: лежит он под осыпью, уперся на локти и, приподняв голову, наблюдает за Хабитусом. И до того, говорит, смешно смотреть, как хлопотливо проскочил вдали большой пес и другой раз проскочил, а морда у него очень озабоченная и внимательная.
Андрей подумал, что вот так же будет Хабитус работать и после настоящего боя, и постарался сделать собаке задачу потруднее: лег ничком, опустил голову и не стонет.
Подскочил Хабитус к Андрею, обнюхал его и тут же схватил зубами свой бринзель, ткнулся носом в его лицо: не встанет ли? Андрею было щекотно около уха и очень хорошо на душе – пес заботился о нем со всем старанием. Видит: не встает человек. Тогда Хабитус привалился к нему тем боком, где висела санитарная сумка: просит взять, что надо. Андрей чуть пошевелился. Тут Хабитус, наверно, сообразил, что дело обстоит неважно, надо спешить за санитаром, и побежал обратно. А мы, стоя около реки, увидели, как выскочил из травы Хабитус, обскакал вокруг товарища Рязанова и сел к левой его ноге. Рязанов взял у него изо рта бринзель и понял, что Хабитус нашел «раненого». Хабитус побежал напрямик и привел нас к Андрею.
Когда Андрей встал, обхватил голову собаки руками и сказал: «Спасибо за службу!», вот было у пса радости!
3
Однажды зимой, в большой мороз, пришел Андрей домой обедать. Окна у нас были покрыты веточками, листочками, легкими рисунками мороза, и солнце пламенно сверкало в изгибах этих морозных узоров. Весь год солнце садится против наших окон, только летом – направо от окон, к северо-западу, а зимой, когда путь его короче, – к юго-западу. Так сверкает у нас солнце в начале декабря, когда земля идет к зимнему солнцестоянию. В те дни закаты бывают ярко-красные, и по ним угадывают назавтра ветер и непогоду.
Лена сидела за столом у окна и, склонив голову набок, делала письменные уроки. Одно плечо ее было поднято выше другого, а ноги зацеплены за ножки стула. Стул покачивался. Это ей было настрого запрещено отцом и мною. Ко всему еще на коленях у нее лежала любимая ее белая кошка, что тоже во время уроков не поощрялось. От всех этих обстоятельств буквы плелись по строчкам вразброд, не соблюдая правил построения между двумя синими чертами. Однако Андрей ничего ей не сказал, а прошел прямо в спальню и позвал.
– Идите сюда, друзья! Есть у меня к вам интересное дело.
Пока мы шли через столовую, я все-таки Елене сказала, что все ее грехи мною замечены. Когда Лена делает что-нибудь не так, как полагается, я почему-то называю ее Еленой, а в хорошее время – Леной. Елена хотела было надуться: когда она виновата, ей сразу, как и многим ребятам и даже взрослым, не хочется в этом признаться, и тогда она дуется. Но постепенно к ней приходит понимание, в чем она неправа. Живем мы с ней дружно, но надо сказать, что она долгонько-таки раздумывает, прежде чем признает свою ошибку.
Поэтому я не услышала от нее ни ответа, ни привета, и кошку она демонстративно потащила с собой в спальню.
– Вот что, товарищи, – сказал Андрей, – хотели бы вы иметь хорошую собаку?
Лена от удивления даже кошку из рук выпустила, и та обиженно пошла к окну, вспрыгнула на подоконник, сделав вид, что интересуется воробьями, хотя через замерзшее стекло ничего не было видно.
Главным противником «хорошей» собаки всегда был у нас сам Андрей. Дело в том, что у каждого свое представление о хорошей собаке. Охотники в разных краях нашей земли выучили себе собак – товарищей для охоты, и для них самая хорошая собака – охотничья. На далеком севере человеку нужна ездовая собака, и для него она хороша. В горах Кавказа пастух не обойдется без сторожевой собаки. Но какая собака нужна нам и какой собаке нужны такие хозяева, как мы? Можно, конечно, найти и охотничью, и сторожевую, и ездовую собаку и держать ее за ум и выучку, но делать такой собаке у нас будет нечего. Андрей не охотник, сторожить нас в военном городке не для чего, так как городок хорошо охраняется, ездить на собаках мы тоже не собираемся. Значит, мы заведем собаку просто для удовольствия, а какое удовольствие будет хорошо обученной собаке от жизни с нами?
Лена сидела за столом у окна и, склонив голову набок, делала письменные уроки. Одно плечо ее было поднято выше другого, а ноги зацеплены за ножки стула. Стул покачивался. Это ей было настрого запрещено отцом и мною. Ко всему еще на коленях у нее лежала любимая ее белая кошка, что тоже во время уроков не поощрялось. От всех этих обстоятельств буквы плелись по строчкам вразброд, не соблюдая правил построения между двумя синими чертами. Однако Андрей ничего ей не сказал, а прошел прямо в спальню и позвал.
– Идите сюда, друзья! Есть у меня к вам интересное дело.
Пока мы шли через столовую, я все-таки Елене сказала, что все ее грехи мною замечены. Когда Лена делает что-нибудь не так, как полагается, я почему-то называю ее Еленой, а в хорошее время – Леной. Елена хотела было надуться: когда она виновата, ей сразу, как и многим ребятам и даже взрослым, не хочется в этом признаться, и тогда она дуется. Но постепенно к ней приходит понимание, в чем она неправа. Живем мы с ней дружно, но надо сказать, что она долгонько-таки раздумывает, прежде чем признает свою ошибку.
Поэтому я не услышала от нее ни ответа, ни привета, и кошку она демонстративно потащила с собой в спальню.
– Вот что, товарищи, – сказал Андрей, – хотели бы вы иметь хорошую собаку?
Лена от удивления даже кошку из рук выпустила, и та обиженно пошла к окну, вспрыгнула на подоконник, сделав вид, что интересуется воробьями, хотя через замерзшее стекло ничего не было видно.
Главным противником «хорошей» собаки всегда был у нас сам Андрей. Дело в том, что у каждого свое представление о хорошей собаке. Охотники в разных краях нашей земли выучили себе собак – товарищей для охоты, и для них самая хорошая собака – охотничья. На далеком севере человеку нужна ездовая собака, и для него она хороша. В горах Кавказа пастух не обойдется без сторожевой собаки. Но какая собака нужна нам и какой собаке нужны такие хозяева, как мы? Можно, конечно, найти и охотничью, и сторожевую, и ездовую собаку и держать ее за ум и выучку, но делать такой собаке у нас будет нечего. Андрей не охотник, сторожить нас в военном городке не для чего, так как городок хорошо охраняется, ездить на собаках мы тоже не собираемся. Значит, мы заведем собаку просто для удовольствия, а какое удовольствие будет хорошо обученной собаке от жизни с нами?
