— По-твоему, Швейк, почему они так делают? Швейк долго думал, наконец, ответил:
— Да такая гадина ничего и не заслуживает, кроме порки!
Оба напустились на него и стали так ругать, что даже боксер на него заворчал. Тут Швейк повернулся и стал называть боксера «миленьким, хорошеньким, славненьким песиком».
Наконец Биглер предложил назвать боксера «Билли», но Дауэрлинг возразил, что это имя английское и в такое время, когда даже в ресторанах не подают бифштекса из-за английского названия, он ни в коем случае не назовет своей собаки «Билли». Лучше уж «Гинденбург».
Это рассердило Биглера, усмотревшего тут страшную обиду немцам.
— Отставить! — крикнул он.
Дауэрлинг признался, что всегда был болваном и что это предложение сорвалось у него с языка по глупости.
Вопрос о кличке еще долго дебатировался. В конце концов было решено дать псу какое-нибудь нейтральное имя, и среди таких им больше всего пришлось по вкусу «Занзибар».
Биглер заметил еще, что собаку нужно выкупать: дело в том, что пока Швейк тащил ее, она вывалялась в грязи.
— Я приду за ним через час: хочу сходить купить ему ошейник и поводок, — сказал Дауэрлинг.
Но через мгновенье вернулся.
— Не учи его чешскому, — сказал он озабоченно. — А то он ни по-чешски, ни по-немецки не будет понимать и совсем немецкий забудет.
И Дауэрлинг удалился, полный тревоги о том, чтобы пес не забыл немецкого.
В его отсутствие Швейк начистил псу короткошерстную шкуру до блеска. Масть у боксера была грязновато-желтая, словно выгоревшая, так что он напоминал полинявшее австрийское знамя. Видимо, животное участвовало в какой-то собачьей драке, так как на голове у «его был большой рубец, придававший ему сходство с немецким буршем.
Дауэрлинг принес из города хороший ошейник, на котором было вырезано: «Fur Kaiser und Vaterland» [100]. To была великая эпоха, когда патриотические лозунги помещались даже на ошейниках.
— Занзибар, — сказал Дауэрлинг, пристегивая к ошейнику поводок, — ты должен привыкать к новому хозяину… Пойду пройдусь с ним по аллее.
Для боксера начался скорбный путь. Дауэрлинг стал тянуть его за поводок из казармы, а пес подумал, что его опять тащат к каким-то новым хозяевам. Это не умещалось в его голове, и он уперся. Швейк оказал Дауэрлингу энергичную помощь, и в конце концов они с собакой очутились на аллее.
Великолепная тенистая аллея военного лагеря в Бруке на Литаве стала свидетельницей ожесточенного сопротивления. Занзибар решительно не желал идти, так что его время от времени приходилось волочить по земле. Ему это даже понравилось, и минутами казалось, что прапорщик Дауэрлинг снова вернулся к временам своего младенчества, когда он возил за собой тележку. Но в конце концов боксеру это надоело, и он сам потащил Швейка и Дауэрлинга вперед.
А в это время по ту сторону луга, за главной гауптвахтой, по направлению к фотографическому павильону шел с дамой какой-то генерал.
Боксер посмотрел в ту сторону, остановился, понюхал воздух и с радостным лаем потащил Дауэрлинга через луг. Лай привлек внимание дамы. Ее заинтересовало, что такое происходит на другой стороне, в аллее. Сперва она, видимо, о чем-то перемолвилась со своим спутником, потом закричала боксеру:
— Мурза, Мурза!


Боксер стал рваться, тянуть за собой Дауэрлинга и Швейка, а генерал позвал:
— Kommen sie her, Herr Fahnrich! [101]
Когда они быстрым шагом подбежали к фотографическому павильону, боксер, не помня себя от радости, запрыгал, кладя пыльные лапы на грудь то даме, то генералу.
Дауэрлинг побледнел: перед ним был генерал-лейтенант фон Арц, начальник лагеря в Бруке на Литаве.
Стуча зубами, заикаясь, Дауэрлинг произнес:
— Zum Be-be-befehl, Exellenz [102]?
— Откуда у вас эта собака?
Дауэрлинг опять что-то пролепетал, а Швейк, сделав два шага вперед, начал было энергично рапортовать:
— Осмелюсь доложить…
Тут он посмотрел на генерала, не зная, как его титуловать: дело в том, что знакомство его со знаками различия кончалось чином полковника. После мгновенного колебания он повторил:
— Осмелюсь доложить, господин генерал — не знаю, какого ранга: собачка эта наша, и нашел ее я.
— Она пропала у нас сегодня утром, — сказал фон Арц. — Ваше имя и фамилия, господин прапорщик?
— Конрад Дауэрлинг, ваше превосходительство.
— Дауэрлинг, Дауэрлинг… — промолвил генерал-лейтенант. — А, припоминаю: у вас вышла какая-то история в Кираль-Хиде? В венгерских газетах было. А теперь ходите по лагерю с чужой собакой, принадлежащей вашему начальнику? Видно, вам делать нечего? А нам нужны офицеры на фронте. Раз у вас столько времени на безобразия, очевидно, ваша рота уже обучена. Так мы сделаем ее маршевой и включим в двадцать второй маршевый батальон семьдесят третьего пехотного полка. Получите взвод — и послезавтра на фронт. Остальное узнаете в полковой канцелярии.
Швейк уже отстегнул счастливцу Занзибару поводок, и дама открыла сумочку.
— Вы нашли нашу собаку, — ласково промолвила она. — Вот вам награда.
Швейк сунул себе в карман двадцатикроновую бумажку, подумав, что это в общем выгодное дело — красть собак у генералов.
Они пошли домой. Дауэрлинг шагал довольно медленно, опустив голову, погруженный в задумчивость. За ним на почтительном расстоянии следовал бравый солдат Швейк с поводком и ошейником в руках.
Придя домой, Дауэрлинг сел на стул, а Швейк положил поводок с ошейником на стол.
— Осмелюсь спросить: что господину прапорщику угодно приказать?
Дауэрлинг посмотрел на него с укоризной и досадой.
— Швейк, — сказал он, — раз уж ты все равно меня погубил, так ступай, ступай себе жрать. Только сперва отдай мне десять крон, что я тебе дал на ошейник с поводком.
— Слушаю, господин прапорщик. Вот двадцать крон. Прошу десять сдачи.
После его ухода Дауэрлинг долго еще сидел, глядя в угол. Рядом, у капитана, денщик чистил сапоги и пел:
Warm ich kumm, warm ich kumm,
Warm ich wieda, wieda kumm… [103]
Потом от этой грустной песни перешел на юмористическую:
Артиллерия загремела —
Голова с моих плеч слетела.
Только это шутка плохая:
В бой идти, безголовым шагая.
Дауэрлинг посмотрел на ошейник. В глаза ему бросилась надпись: «Fur Kaiser und Vaterland».
— Да! Fur Kaiser und Vaterland.
Он тихонько заплакал и плакал долго. А в это время по лагерю уже пошел слух, что прапорщик 11-й роты 91-го пехотного полка Дауэрлинг украл у генерал-лейтенанта фон Лрца собаку. А бравый солдат Швейк, находясь согласно приказу в Гарраховом винном погребке возле леса, лил в себя четвертинку за четвертинкой и растабарывал о том, что идет на позиции.
XIV
— Да такая гадина ничего и не заслуживает, кроме порки!
Оба напустились на него и стали так ругать, что даже боксер на него заворчал. Тут Швейк повернулся и стал называть боксера «миленьким, хорошеньким, славненьким песиком».
Наконец Биглер предложил назвать боксера «Билли», но Дауэрлинг возразил, что это имя английское и в такое время, когда даже в ресторанах не подают бифштекса из-за английского названия, он ни в коем случае не назовет своей собаки «Билли». Лучше уж «Гинденбург».
Это рассердило Биглера, усмотревшего тут страшную обиду немцам.
— Отставить! — крикнул он.
Дауэрлинг признался, что всегда был болваном и что это предложение сорвалось у него с языка по глупости.
Вопрос о кличке еще долго дебатировался. В конце концов было решено дать псу какое-нибудь нейтральное имя, и среди таких им больше всего пришлось по вкусу «Занзибар».
Биглер заметил еще, что собаку нужно выкупать: дело в том, что пока Швейк тащил ее, она вывалялась в грязи.
— Я приду за ним через час: хочу сходить купить ему ошейник и поводок, — сказал Дауэрлинг.
Но через мгновенье вернулся.
— Не учи его чешскому, — сказал он озабоченно. — А то он ни по-чешски, ни по-немецки не будет понимать и совсем немецкий забудет.
И Дауэрлинг удалился, полный тревоги о том, чтобы пес не забыл немецкого.
В его отсутствие Швейк начистил псу короткошерстную шкуру до блеска. Масть у боксера была грязновато-желтая, словно выгоревшая, так что он напоминал полинявшее австрийское знамя. Видимо, животное участвовало в какой-то собачьей драке, так как на голове у «его был большой рубец, придававший ему сходство с немецким буршем.
Дауэрлинг принес из города хороший ошейник, на котором было вырезано: «Fur Kaiser und Vaterland» [100]. To была великая эпоха, когда патриотические лозунги помещались даже на ошейниках.
— Занзибар, — сказал Дауэрлинг, пристегивая к ошейнику поводок, — ты должен привыкать к новому хозяину… Пойду пройдусь с ним по аллее.
Для боксера начался скорбный путь. Дауэрлинг стал тянуть его за поводок из казармы, а пес подумал, что его опять тащат к каким-то новым хозяевам. Это не умещалось в его голове, и он уперся. Швейк оказал Дауэрлингу энергичную помощь, и в конце концов они с собакой очутились на аллее.
Великолепная тенистая аллея военного лагеря в Бруке на Литаве стала свидетельницей ожесточенного сопротивления. Занзибар решительно не желал идти, так что его время от времени приходилось волочить по земле. Ему это даже понравилось, и минутами казалось, что прапорщик Дауэрлинг снова вернулся к временам своего младенчества, когда он возил за собой тележку. Но в конце концов боксеру это надоело, и он сам потащил Швейка и Дауэрлинга вперед.
А в это время по ту сторону луга, за главной гауптвахтой, по направлению к фотографическому павильону шел с дамой какой-то генерал.
Боксер посмотрел в ту сторону, остановился, понюхал воздух и с радостным лаем потащил Дауэрлинга через луг. Лай привлек внимание дамы. Ее заинтересовало, что такое происходит на другой стороне, в аллее. Сперва она, видимо, о чем-то перемолвилась со своим спутником, потом закричала боксеру:
— Мурза, Мурза!


Боксер стал рваться, тянуть за собой Дауэрлинга и Швейка, а генерал позвал:
— Kommen sie her, Herr Fahnrich! [101]
Когда они быстрым шагом подбежали к фотографическому павильону, боксер, не помня себя от радости, запрыгал, кладя пыльные лапы на грудь то даме, то генералу.
Дауэрлинг побледнел: перед ним был генерал-лейтенант фон Арц, начальник лагеря в Бруке на Литаве.
Стуча зубами, заикаясь, Дауэрлинг произнес:
— Zum Be-be-befehl, Exellenz [102]?
— Откуда у вас эта собака?
Дауэрлинг опять что-то пролепетал, а Швейк, сделав два шага вперед, начал было энергично рапортовать:
— Осмелюсь доложить…
Тут он посмотрел на генерала, не зная, как его титуловать: дело в том, что знакомство его со знаками различия кончалось чином полковника. После мгновенного колебания он повторил:
— Осмелюсь доложить, господин генерал — не знаю, какого ранга: собачка эта наша, и нашел ее я.
— Она пропала у нас сегодня утром, — сказал фон Арц. — Ваше имя и фамилия, господин прапорщик?
— Конрад Дауэрлинг, ваше превосходительство.
— Дауэрлинг, Дауэрлинг… — промолвил генерал-лейтенант. — А, припоминаю: у вас вышла какая-то история в Кираль-Хиде? В венгерских газетах было. А теперь ходите по лагерю с чужой собакой, принадлежащей вашему начальнику? Видно, вам делать нечего? А нам нужны офицеры на фронте. Раз у вас столько времени на безобразия, очевидно, ваша рота уже обучена. Так мы сделаем ее маршевой и включим в двадцать второй маршевый батальон семьдесят третьего пехотного полка. Получите взвод — и послезавтра на фронт. Остальное узнаете в полковой канцелярии.
Швейк уже отстегнул счастливцу Занзибару поводок, и дама открыла сумочку.
— Вы нашли нашу собаку, — ласково промолвила она. — Вот вам награда.
Швейк сунул себе в карман двадцатикроновую бумажку, подумав, что это в общем выгодное дело — красть собак у генералов.
Они пошли домой. Дауэрлинг шагал довольно медленно, опустив голову, погруженный в задумчивость. За ним на почтительном расстоянии следовал бравый солдат Швейк с поводком и ошейником в руках.
Придя домой, Дауэрлинг сел на стул, а Швейк положил поводок с ошейником на стол.
— Осмелюсь спросить: что господину прапорщику угодно приказать?
Дауэрлинг посмотрел на него с укоризной и досадой.
— Швейк, — сказал он, — раз уж ты все равно меня погубил, так ступай, ступай себе жрать. Только сперва отдай мне десять крон, что я тебе дал на ошейник с поводком.
— Слушаю, господин прапорщик. Вот двадцать крон. Прошу десять сдачи.
После его ухода Дауэрлинг долго еще сидел, глядя в угол. Рядом, у капитана, денщик чистил сапоги и пел:
Warm ich kumm, warm ich kumm,
Warm ich wieda, wieda kumm… [103]
Потом от этой грустной песни перешел на юмористическую:
Артиллерия загремела —
Голова с моих плеч слетела.
Только это шутка плохая:
В бой идти, безголовым шагая.
Дауэрлинг посмотрел на ошейник. В глаза ему бросилась надпись: «Fur Kaiser und Vaterland».
— Да! Fur Kaiser und Vaterland.
Он тихонько заплакал и плакал долго. А в это время по лагерю уже пошел слух, что прапорщик 11-й роты 91-го пехотного полка Дауэрлинг украл у генерал-лейтенанта фон Лрца собаку. А бравый солдат Швейк, находясь согласно приказу в Гарраховом винном погребке возле леса, лил в себя четвертинку за четвертинкой и растабарывал о том, что идет на позиции.
XIV
Двигаясь на передовую в маршевом батальоне, Дауэрлинг изображал из себя героя. Проезжая по Венгрии, он то и дело высовывался из вагона и отважно изрекал:
— Здесь были бы отличные позиции. Здесь есть где повоевать.
В Мишкольце, на вокзале, он объелся груш; у него заболел живот, после чего он просидел в уборной вагона до самого Лейпцигского перевала.
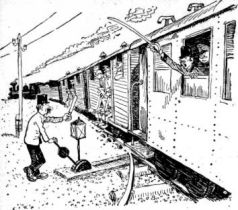
Когда они выехали на территорию Галиции, мужество его понизилось до минимума, но взамен появился страшный аппетит. Он ходил на кухню и выпрашивал у поваров куски мяса, говоря, что офицерам в тылу нужно давать поменьше порции, чтобы они дома чувствовали себя не так хорошо, как на войне. Он проявлял также величайшую озабоченность насчет запасов провизии себе на дорогу, выклянчивая в обозе сахар и укладывая его в свой саквояж. Не брезговал и полугнилой голландской сушеной рыбой, предназначенной для рядовых.
Швейк таскался за ним с чемоданами, становившимися чем дальше, тем тяжелей. А Дауэрлинг заботливо укладывал туда все новую и новую провизию: тут раздобудет кусок сушеной колбасы, там банки сгущенного кофе. И все подбивал Швейка украсть где-нибудь еще консервов супа.
Он считал, что Австрия ведет войну исключительно ради того, чтобы обеспечить его, Дауэрлинга, разными продуктами питания в виде консервов. При этом он обнаруживал все большую нервозность, ругая даже солдат немецкой национальности «чешскими свиньями».
Бравый солдат Швейк, служа у него в денщиках, изведал все муки, какие только может причинить самая утонченная пытка.
— Мерзавец, — сказал ему как-то раз Дауэрлинг, — ты думаешь, я тебе прощу, что по твоей милости на фронт попал? Глубоко ошибаешься. Понятно тебе, негодяй? Думаешь, я отошлю тебя в часть, чтобы тебя скорей застрелили? Опять ошибаешься, паршивец. Ты будешь всегда при мне; я буду из тебя веревки вить; никуда от меня не уйдешь. Буду тебя днем и ночью шпынять — круглые сутки, чтобы ты меня помнил. Ну, что ты на это скажешь, чурбан?
Бравый солдат Швейк встал навытяжку и, улыбаясь во весь рот, ответил:
— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, вы меня будете шпынять днем и ночью, круглые сутки, чтобы я вас не забыл.
— Ах, негодяй! Ты смеешься надо мной? — закричал Дауэрлинг. — Ну постой! Сам вот увидишь, куда ты нас обоих привел. У нас над головой будут пули летать, гранаты, шрапнель. Мы взлетим на воздух!
Дауэрлинг затрясся всем телом. Задрожал как в лихорадке.
— Не беда, — вдруг промолвил Швейк. — Осмелюсь доложить, взлетим — и конец. Это ведь страшно быстро, господин прапорщик!
— Что мне делать, Швейк? — жалобным, просящим тоном произнес Дауэрлинг.
— Не могу знать. Война, она и есть война, и одним офицером с денщиком больше либо меньше — для нынешней мировой войны ровно ничего не значит. Прилетела граната, и нас — поминай, как звали, господин прапорщик!
Швейк опять улыбнулся, чтобы подбодрить Дауэрлинга, который весь дрожал в углу вагона.
— Я тебе покажу, милый, — ворчал он себе под нос. — Узнаешь, как загонять меня в окопы.
Он сел к окну и стал смотреть на пустынные равнины Галиции с рядами холмов и крестов, обозначающими путь империалистической австрийской политики. На одном перегоне он увидел дерево, на котором висел русинский крестьянин с двумя детьми — мальчиком и девочкой. Под ними был прикреплен кусок бумаги с надписью: «Spionen» [104]. Видно, висели давно; лица были почерневшие. Мальчик смотрел в лицо сестренке.
Швейк сказал, то дети повешены, видно, по ошибке, на что Дауэрлинг влепил ему с обеих сторон по пощечине и закричал как бешеный, что надо всю банду славянских предателей повесить и стереть с лица земли, а как только австрийская армия придет в Россию, он первый будет вешать детей, чтобы истребить славянское племя. Расходился так, что даже слюни распустил по мундиру. Какой там суд! Вешать всех встречных и поперечных. Славянина сперва повесь, а потом предъявляй ему обвинения! В своей безумной удали он все окно заплевал.
Из окна вагона открывался все тот же печальный вид: сожженные русинские деревни, вырубленные рощи, изрытые окопами поля и опять, куда ни кинешь взгляд, кресты, кресты. И так без конца — по всей восточной Галиции. В Каменце Дауэрлинг напился, произведя предварительно проверку наличия консервов, и грозил начать стрельбу. До того нагрузился коньяком, что, не досчитавшись трех банок, ходил по вагону, играя револьвером. Потом вернулся на свое место и заснул.
Бравый солдат Швейк все это время спал, а проснувшись, увидал, что они стоят на какой-то станции за Каменцом, услыхал дрожащий звук труб и команду:
— Выходи из вагонов!
У Дауэрлинга болела голова; ему страшно хотелось пить. В вагонах все задвигались и перестали петь «Warm ich kumm, wann ich kumm, wann ich wieda, wieda kumm».
Какой— то капрал выгнал солдат из вагона и закричал, чтоб они пели: «Und die Russen miissen sehen, da В wir Osterreichische Sieger sind!» [105]
Никто не подтянул. Винтовки составили в козлы, сами стали вокруг.
Из— за холмов доносился гул орудий, а за дальним лесом подымались клубы дыма над горящими деревнями.
Дауэрлинга вызвали на совещание офицеров роты и маршевого батальона. Капитан Сагнер [106] объяснил им, что ждет распоряжений, так как дальше железнодорожное полотно разрушено и ехать нельзя: ночью за рекой появились русские и теперь нажимают на левом фланге. Много убитых и раненых.
Дауэрлинг не удержался — вскрикнул, словно кто наступил ему на мозоль:
— Господи Иисусе!
Ответом был доносящийся издали гул канонады. Земля дрожала, и совещание офицеров было ничуть не похоже на беседу героев.
Капитан Сагнер роздал карты и, как командир маршевого батальона, попросил офицеров строго исполнять его приказы. Пока точных сведений о местонахождении русских нет. Надо быть готовыми к любой неожиданности. Инструктировать рядовых и быстро отслужить в поле молебствие. Священника пригласить из 73-го полка.
Далее капитан Сагнер залепетал что-то невнятное: что, мол, русские недалеко и он ждет не дождется приказа об отступлении.
Наступила тишина. Никто не произносил ни слова, словно боясь каким-нибудь неожиданным замечанием вызвать из-под земли ряды вооруженных штыками неприятелей.
Атмосфера была напряженная. В конце концов капитан Сагнер заявил, что в данной обстановке остается только одно: выставить Vorhut, Nachhut und Seitenhut [107].
После этого он распустил их. Но через мгновенье созвал опять в разбитом здании вокзала.
— Господа, — торжественно объявил он. — Я забыл еще одно: грянем троекратное «ура" в честь государя императора!
Раздалось: «Hoch, hoch, hoch!» [108], и все разошлись по своим ротам. Через час прибыл фельдкурат [109] 73-го пехотного полка — здоровый, упитанный, кипящий жизненными силами; он все время острил и вообще вел себя так, словно пришел в варьете, где танцуют нескромные танцы. Собрали полевой алтарь, причем фельдкурат все время ругал помощников свиньями. Затем он держал речь, конечно по-немецки, в которой объяснил, как это прекрасно, возвышенно — дать себя убить за его величество императора Франца-Иосифа I.
В заключение он дал им отпущение всех грехов, и оркестр заиграл «Спаси, господи, люди твоя». А впереди горели деревни, гремела канонада, и всюду вокруг стояли маленькие деревянные кресты, на которых ветерок там и сям шевелил висящую австрийскую фуражку.
Тут прибежали посланные командиром маршевого батальона ординарцы, и раздалась команда выступать.
Канонада гремела все ближе. На небосклоне то и дело появлялись облачка от разрывов шрапнели, гул орудий слышался все явственней, а бравый солдат Швейк спокойно шел за хозяином, с одним только чемоданом в руках, так как остальные забыл в поезде.
Дауэрлинг этого даже не заметил; он был в страшном волнении, дрожал всем телом. Иногда кричал на своих солдат:
— Марш вперед, собаки, свиньи!
И все грозил револьвером одному старому ополченцу-подагрику, к тому же страдавшему грыжей, что было с его стороны вопиющей провокацией, за которую он был признан Kriegesdiensttauglich ohne Verbrechen [110].
Это был немец, крестьянин из Крумлова, неспособный понять, какая связь между его грыжей и убийством в Сараеве, о чем ему долбили в армии.
Он все время отставал, и Дауэрлинг безжалостно погонял его, грозя застрелить на месте. Кончилось тем, что подагрик остался лежать на дороге, а Дауэрлинг на прощанье пнул его ногой, промолвив:
— Du Schwein, du Elende! [111]
Теперь гремело уже по всему фронту — не только впереди, но и со всех сторон. Справа на равнине поднялась пыль над дорогой: это двинулись вперед, на помощь передовым частям, колонны резервов.
Кадет Биглер, бледный, подошел к Дауэрлингу.
— Вызывай резервы, — тихо сказал он. — Без этого не обойтись.
— Осмелюсь доложить, нас разобьют в пух и прах, — заметил Швейк, шагая сзади.
— Не бреши, болван! — прикрикнул на него Дауэрлинг. — Тебе лишь бы поскорей отделаться, плюхнуться где-нибудь в поле застреленным, чтобы ничего не делать, только землю рылом копать, как свинья. Но не выйдет! Дай только укроемся: я тебе покажу, где раки зимуют.
Когда они достигли вершины холма, пришел приказ: «Einzeln abfallen» [112].
— Вот оно самое! — промолвил бравый солдат Швейк.
И в самом деле это было оно самое. Земля была здесь разрыта, и в ней проведены траншеи, ведущие куда-то в сторону леса, где тянулась лентой груда вынутой земли, говорившая о том, что там окопы.
В воздухе что-то свистело и жужжало. Облачка от разрывов шрапнели, казалось, плыли прямо над головой, а вдали уже слышны были ружейная стрельба и «дрр-дрр-дрр» пулеметов.
— По нас чешут, — промолвил Швейк.
— Заткнись.
Было видно, как впереди в одной точке окопов вдруг взметнулся дымный столб, и сейчас же послышался ясный, отчетливый взрыв гранаты.
— Видно, совсем хотят нас прихлопнуть, — заметил Швейк.
Дауэрлинг печально посмотрел на него и полез в ход сообщения.
Высоко над ними свистели пули; Дауэрлинг шел, наклонив голову и согнувшись в три погибели, так что порой казалось, будто он ползет на четвереньках, хотя над ним возвышалась стена вышиной в метр.
— Прежде всего осторожность, — лепетал он. — Наступил конец света.
Словно в подтверждение, совсем рядом раздался оглушительный взрыв гранат, и со стен прохода посыпались куски глины.
— Ich bin verloren, — повторил Дауэрлинг, как в тот раз и тем же самым плаксивым голосом. — Mein Gott, ich bin verloren [113].
— Осмелюсь доложить, из нас лапшу сделают, — ободрил его Швейк, шагая позади.
Тут ход сообщения кончился, и они вошли в окоп, где метался как угорелый командир роты поручик Лукас [114]. Вокруг кишели солдаты, словно муравьи заливаемого водой или развороченного палкой муравейника.
Солдаты были бледны, а офицеры еще того бледней. Было совершенно ясно, что мужественная австрийская душа ушла у всех в пятки. В каждом жесте решительно сквозила чистая, беспримесная трусость. Ни в ком не заметно было ни малейших признаков воинственности. Поминутно кто-нибудь из офицеров, услышав вдали взрыв, кричал:
— Decken, alle decken [115]!
При этом они ругали на чем свет стоит рядовых, которые тоже вели себя отнюдь не воинственно, а скорей напоминали каждый в отдельности пойманного на дереве мальчишку, которого сторож кладет себе на колено, чтобы высечь.
Только бравый солдат Швейк был совершенно спокоен и подремывал, набив себе полон рот шоколадом, который он успел вытащить из Дауэрлингова чемодана, пока они шли по траншее.
Батальон находился теперь на переднем крае, где должен был сменить пруссаков, которые уже двое суток ничего не ели и тотчас стали клянчить у ополченцев хлеба, хотя у них его тоже не было. Под выкрики «Чертовы австрийцы!» маршевый батальон, рота за ротой, занял назначенные места. Потом пришел приказ — всем по амбразурам, и офицеры погнали их, как скот, к узким отверстиям в бруствере, отсчитывая рядовых, отдавая распоряжения унтер-офицерам, а сами, пользуясь общей суматохой, отходили во вторую линию окопов, в недоступные для разрывов гранат укрытия.
Дауэрлинг скрылся в какой-то подземной норе за окопами. При свете зажженной Швейком свечи он лег на деревянный лежак и залился слезами. Плакал, сам не зная почему, так горько, как плачет заблудившийся в лесу или упавший в грязь ребенок.
— Осмелюсь доложить, — промолвил Швейк, — получено распоряжение от господина ротного.
Дауэрлинг встал, утер слезы рукавом и прочел приказ:
«Немедленно выступить с двенадцатью солдатами для офицерского патрулирования за проволочными заграждениями в секторе 278. Поручик Лукаш». Лукас был так растерян, что даже подписался правильно, по-чешски: «Лукаш», чего не делал уже много лет, с тех самых пор как поступил в кадетский корпус.
Дауэрлинг больше уж и дрожать не мог. Он смотрел на приказ, на слова «офицерский патруль» с изумлением, словно глазам своим не веря. Но ничего другого написано там не было.
Он велел Швейку подать карту, отыскал на ней сектор 278. Найдя, подчеркнул синим карандашом, прицепил к поясу кобуру с револьвером, вздохнул, в последний раз окинул нору печальным взором и приказал Швейку следовать за ним.
Швейк взял чемодан и пошел. Придя в свой взвод, Дауэрлинг спросил, нет ли охотников пойти с ним в дозор. Никто не шевельнулся. Он обозвал их трусами и стал выбирать. Тихо вышли из окопов. Впереди — лесок, где засели стреляющие. Дауэрлинг велел идти лощиной и сам поплелся ни жив ни мертв. Швейк, идя сзади, вытаскивал из чемодана шоколад и грыз его уже без всякого стеснения. Неужто нельзя позволить себе такое скромное удовольствие, идя на смерть?
Из австрийских окопов за спиной у них вели залповый огонь по лесочку, откуда отвечали адской пальбой. Стояла такая трескотня, что Дауэрлинг решил действовать, не теряя времени.
— Швейк! — сказал он. — Пойди передай им, чтобы шли тем леском налево, к той вон чаще, и возвращайся!
После того как Швейк вернулся с сообщением, что все в порядке, Дауэрлинг помедлил еще минутку, словно о чем-то раздумывая.
— Послушай, Швейк, — сказал он. — Давай-ка залезем сюда.
И он показал на вымоину в лощине, похожую на овраг.
— Если хочешь знать, Швейк, скотина ты этакая, ведь я тебя люблю. Окажи, мне услугу. Вот тебе револьвер, выстрели мне в плечо: я хочу домой. Понимаешь: Кираль-Хида, генеральская собака, позиции, офицерский патруль — все это так быстро… Выстрели мне в плечо. Меня найдут и…
— Осмелюсь доложить, понимаю, господин прапорщик… А потом, чтоб меня повесили, да?
Дауэрлинг вздохнул.
— Это ты верно. Потом тебе на самом деле придется либо дать себя повесить, либо бежать. Ты правильно поступишь, если убежишь. Позиция недалеко, а с русскими как-нибудь объяснишься.
Дауэрлинг упрашивал долго, проявляя ангельское терпение, но Швейк не соглашался.
— Швейк, скотина ты этакая! — рассердился Дауэрлинг. — Приказываю тебе: стреляй в меня. Ты знаешь, что значит приказ?
Швейк козырнул.
— Тогда слушаюсь, господин поручик.

Бравый солдат Швейк отступил на несколько шагов, вытянул руку вперед, закрыл глаза, так как ему никогда в жизни не приходилось делать ничего подобного, и выстрелил.
— О боже! — вскрикнул Дауэрлинг, и Швейк пустился наутек — вниз по ложбине, к лесочку.
Обернувшись, он увидел только, что Дауэрлинг благодаря ему, Швейку, лежит на земле молча, не подавая признаков жизни.
Швейк подался к леску, пробежал по маленькой прогалине, где вокруг со всех сторон свистели пули. Миновав ее, он вынул из кармана трубку, закурил и медленно пошел дальше, к грудам вынутой земли, перед которыми поблескивало проволочное заграждение. Оттуда как раз выбежали два солдата в чужой форме, которой Швейк близко еще не видел. Но по плоским фуражкам он понял, что это русские.
Он остановился, крикнул им:
— Товарищи, я Йозеф Швейк из Кралевских Виноград!
И поднял руки вверх.
— Осмелюсь доложить, нас там всего одна маршевая рота — и никаких резервов.
Так бравый солдат Швейк попал в плен. Получил хлеб, чай, а на другой день попал в одну нашу роту добровольцев [116], где пробыл целый день и дождался момента, когда туда привели несколько пленных из его роты, захваченных во время вечерней атаки русских на австрийские позиции в секторе 278.
Среди них оказался фельдфебель Зондернуммер. Его просто узнать было нельзя; он смотрел на Швейка почтительно и сказал ему на ломаном чешском языке:
— Вы нам сделаль кароший вещь. Вы нам стреляль каспадина парущик. Фон был мертвый, а вы бежаль и позваль на нас эти русски зольдат, и они раз-биваль нас эйн, цвей…
— Herr Hauptman Sagner [117], — прибавил он, понизив голос, — наложил на' вас eine Strafanzeige. Adieu [118].
Так бравый солдат Швейк по ошибке совершил преступление против военной мощи Австрийского государства.
И пошел бравый солдат Швейк в плен, повернувшись задом к империи и черно-желтому двуглавому орлу, который начал терять свои перья.

— Здесь были бы отличные позиции. Здесь есть где повоевать.
В Мишкольце, на вокзале, он объелся груш; у него заболел живот, после чего он просидел в уборной вагона до самого Лейпцигского перевала.
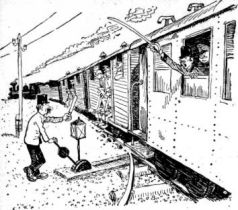
Когда они выехали на территорию Галиции, мужество его понизилось до минимума, но взамен появился страшный аппетит. Он ходил на кухню и выпрашивал у поваров куски мяса, говоря, что офицерам в тылу нужно давать поменьше порции, чтобы они дома чувствовали себя не так хорошо, как на войне. Он проявлял также величайшую озабоченность насчет запасов провизии себе на дорогу, выклянчивая в обозе сахар и укладывая его в свой саквояж. Не брезговал и полугнилой голландской сушеной рыбой, предназначенной для рядовых.
Швейк таскался за ним с чемоданами, становившимися чем дальше, тем тяжелей. А Дауэрлинг заботливо укладывал туда все новую и новую провизию: тут раздобудет кусок сушеной колбасы, там банки сгущенного кофе. И все подбивал Швейка украсть где-нибудь еще консервов супа.
Он считал, что Австрия ведет войну исключительно ради того, чтобы обеспечить его, Дауэрлинга, разными продуктами питания в виде консервов. При этом он обнаруживал все большую нервозность, ругая даже солдат немецкой национальности «чешскими свиньями».
Бравый солдат Швейк, служа у него в денщиках, изведал все муки, какие только может причинить самая утонченная пытка.
— Мерзавец, — сказал ему как-то раз Дауэрлинг, — ты думаешь, я тебе прощу, что по твоей милости на фронт попал? Глубоко ошибаешься. Понятно тебе, негодяй? Думаешь, я отошлю тебя в часть, чтобы тебя скорей застрелили? Опять ошибаешься, паршивец. Ты будешь всегда при мне; я буду из тебя веревки вить; никуда от меня не уйдешь. Буду тебя днем и ночью шпынять — круглые сутки, чтобы ты меня помнил. Ну, что ты на это скажешь, чурбан?
Бравый солдат Швейк встал навытяжку и, улыбаясь во весь рот, ответил:
— Осмелюсь доложить, господин прапорщик, вы меня будете шпынять днем и ночью, круглые сутки, чтобы я вас не забыл.
— Ах, негодяй! Ты смеешься надо мной? — закричал Дауэрлинг. — Ну постой! Сам вот увидишь, куда ты нас обоих привел. У нас над головой будут пули летать, гранаты, шрапнель. Мы взлетим на воздух!
Дауэрлинг затрясся всем телом. Задрожал как в лихорадке.
— Не беда, — вдруг промолвил Швейк. — Осмелюсь доложить, взлетим — и конец. Это ведь страшно быстро, господин прапорщик!
— Что мне делать, Швейк? — жалобным, просящим тоном произнес Дауэрлинг.
— Не могу знать. Война, она и есть война, и одним офицером с денщиком больше либо меньше — для нынешней мировой войны ровно ничего не значит. Прилетела граната, и нас — поминай, как звали, господин прапорщик!
Швейк опять улыбнулся, чтобы подбодрить Дауэрлинга, который весь дрожал в углу вагона.
— Я тебе покажу, милый, — ворчал он себе под нос. — Узнаешь, как загонять меня в окопы.
Он сел к окну и стал смотреть на пустынные равнины Галиции с рядами холмов и крестов, обозначающими путь империалистической австрийской политики. На одном перегоне он увидел дерево, на котором висел русинский крестьянин с двумя детьми — мальчиком и девочкой. Под ними был прикреплен кусок бумаги с надписью: «Spionen» [104]. Видно, висели давно; лица были почерневшие. Мальчик смотрел в лицо сестренке.
Швейк сказал, то дети повешены, видно, по ошибке, на что Дауэрлинг влепил ему с обеих сторон по пощечине и закричал как бешеный, что надо всю банду славянских предателей повесить и стереть с лица земли, а как только австрийская армия придет в Россию, он первый будет вешать детей, чтобы истребить славянское племя. Расходился так, что даже слюни распустил по мундиру. Какой там суд! Вешать всех встречных и поперечных. Славянина сперва повесь, а потом предъявляй ему обвинения! В своей безумной удали он все окно заплевал.
Из окна вагона открывался все тот же печальный вид: сожженные русинские деревни, вырубленные рощи, изрытые окопами поля и опять, куда ни кинешь взгляд, кресты, кресты. И так без конца — по всей восточной Галиции. В Каменце Дауэрлинг напился, произведя предварительно проверку наличия консервов, и грозил начать стрельбу. До того нагрузился коньяком, что, не досчитавшись трех банок, ходил по вагону, играя револьвером. Потом вернулся на свое место и заснул.
Бравый солдат Швейк все это время спал, а проснувшись, увидал, что они стоят на какой-то станции за Каменцом, услыхал дрожащий звук труб и команду:
— Выходи из вагонов!
У Дауэрлинга болела голова; ему страшно хотелось пить. В вагонах все задвигались и перестали петь «Warm ich kumm, wann ich kumm, wann ich wieda, wieda kumm».
Какой— то капрал выгнал солдат из вагона и закричал, чтоб они пели: «Und die Russen miissen sehen, da В wir Osterreichische Sieger sind!» [105]
Никто не подтянул. Винтовки составили в козлы, сами стали вокруг.
Из— за холмов доносился гул орудий, а за дальним лесом подымались клубы дыма над горящими деревнями.
Дауэрлинга вызвали на совещание офицеров роты и маршевого батальона. Капитан Сагнер [106] объяснил им, что ждет распоряжений, так как дальше железнодорожное полотно разрушено и ехать нельзя: ночью за рекой появились русские и теперь нажимают на левом фланге. Много убитых и раненых.
Дауэрлинг не удержался — вскрикнул, словно кто наступил ему на мозоль:
— Господи Иисусе!
Ответом был доносящийся издали гул канонады. Земля дрожала, и совещание офицеров было ничуть не похоже на беседу героев.
Капитан Сагнер роздал карты и, как командир маршевого батальона, попросил офицеров строго исполнять его приказы. Пока точных сведений о местонахождении русских нет. Надо быть готовыми к любой неожиданности. Инструктировать рядовых и быстро отслужить в поле молебствие. Священника пригласить из 73-го полка.
Далее капитан Сагнер залепетал что-то невнятное: что, мол, русские недалеко и он ждет не дождется приказа об отступлении.
Наступила тишина. Никто не произносил ни слова, словно боясь каким-нибудь неожиданным замечанием вызвать из-под земли ряды вооруженных штыками неприятелей.
Атмосфера была напряженная. В конце концов капитан Сагнер заявил, что в данной обстановке остается только одно: выставить Vorhut, Nachhut und Seitenhut [107].
После этого он распустил их. Но через мгновенье созвал опять в разбитом здании вокзала.
— Господа, — торжественно объявил он. — Я забыл еще одно: грянем троекратное «ура" в честь государя императора!
Раздалось: «Hoch, hoch, hoch!» [108], и все разошлись по своим ротам. Через час прибыл фельдкурат [109] 73-го пехотного полка — здоровый, упитанный, кипящий жизненными силами; он все время острил и вообще вел себя так, словно пришел в варьете, где танцуют нескромные танцы. Собрали полевой алтарь, причем фельдкурат все время ругал помощников свиньями. Затем он держал речь, конечно по-немецки, в которой объяснил, как это прекрасно, возвышенно — дать себя убить за его величество императора Франца-Иосифа I.
В заключение он дал им отпущение всех грехов, и оркестр заиграл «Спаси, господи, люди твоя». А впереди горели деревни, гремела канонада, и всюду вокруг стояли маленькие деревянные кресты, на которых ветерок там и сям шевелил висящую австрийскую фуражку.
Тут прибежали посланные командиром маршевого батальона ординарцы, и раздалась команда выступать.
Канонада гремела все ближе. На небосклоне то и дело появлялись облачка от разрывов шрапнели, гул орудий слышался все явственней, а бравый солдат Швейк спокойно шел за хозяином, с одним только чемоданом в руках, так как остальные забыл в поезде.
Дауэрлинг этого даже не заметил; он был в страшном волнении, дрожал всем телом. Иногда кричал на своих солдат:
— Марш вперед, собаки, свиньи!
И все грозил револьвером одному старому ополченцу-подагрику, к тому же страдавшему грыжей, что было с его стороны вопиющей провокацией, за которую он был признан Kriegesdiensttauglich ohne Verbrechen [110].
Это был немец, крестьянин из Крумлова, неспособный понять, какая связь между его грыжей и убийством в Сараеве, о чем ему долбили в армии.
Он все время отставал, и Дауэрлинг безжалостно погонял его, грозя застрелить на месте. Кончилось тем, что подагрик остался лежать на дороге, а Дауэрлинг на прощанье пнул его ногой, промолвив:
— Du Schwein, du Elende! [111]
Теперь гремело уже по всему фронту — не только впереди, но и со всех сторон. Справа на равнине поднялась пыль над дорогой: это двинулись вперед, на помощь передовым частям, колонны резервов.
Кадет Биглер, бледный, подошел к Дауэрлингу.
— Вызывай резервы, — тихо сказал он. — Без этого не обойтись.
— Осмелюсь доложить, нас разобьют в пух и прах, — заметил Швейк, шагая сзади.
— Не бреши, болван! — прикрикнул на него Дауэрлинг. — Тебе лишь бы поскорей отделаться, плюхнуться где-нибудь в поле застреленным, чтобы ничего не делать, только землю рылом копать, как свинья. Но не выйдет! Дай только укроемся: я тебе покажу, где раки зимуют.
Когда они достигли вершины холма, пришел приказ: «Einzeln abfallen» [112].
— Вот оно самое! — промолвил бравый солдат Швейк.
И в самом деле это было оно самое. Земля была здесь разрыта, и в ней проведены траншеи, ведущие куда-то в сторону леса, где тянулась лентой груда вынутой земли, говорившая о том, что там окопы.
В воздухе что-то свистело и жужжало. Облачка от разрывов шрапнели, казалось, плыли прямо над головой, а вдали уже слышны были ружейная стрельба и «дрр-дрр-дрр» пулеметов.
— По нас чешут, — промолвил Швейк.
— Заткнись.
Было видно, как впереди в одной точке окопов вдруг взметнулся дымный столб, и сейчас же послышался ясный, отчетливый взрыв гранаты.
— Видно, совсем хотят нас прихлопнуть, — заметил Швейк.
Дауэрлинг печально посмотрел на него и полез в ход сообщения.
Высоко над ними свистели пули; Дауэрлинг шел, наклонив голову и согнувшись в три погибели, так что порой казалось, будто он ползет на четвереньках, хотя над ним возвышалась стена вышиной в метр.
— Прежде всего осторожность, — лепетал он. — Наступил конец света.
Словно в подтверждение, совсем рядом раздался оглушительный взрыв гранат, и со стен прохода посыпались куски глины.
— Ich bin verloren, — повторил Дауэрлинг, как в тот раз и тем же самым плаксивым голосом. — Mein Gott, ich bin verloren [113].
— Осмелюсь доложить, из нас лапшу сделают, — ободрил его Швейк, шагая позади.
Тут ход сообщения кончился, и они вошли в окоп, где метался как угорелый командир роты поручик Лукас [114]. Вокруг кишели солдаты, словно муравьи заливаемого водой или развороченного палкой муравейника.
Солдаты были бледны, а офицеры еще того бледней. Было совершенно ясно, что мужественная австрийская душа ушла у всех в пятки. В каждом жесте решительно сквозила чистая, беспримесная трусость. Ни в ком не заметно было ни малейших признаков воинственности. Поминутно кто-нибудь из офицеров, услышав вдали взрыв, кричал:
— Decken, alle decken [115]!
При этом они ругали на чем свет стоит рядовых, которые тоже вели себя отнюдь не воинственно, а скорей напоминали каждый в отдельности пойманного на дереве мальчишку, которого сторож кладет себе на колено, чтобы высечь.
Только бравый солдат Швейк был совершенно спокоен и подремывал, набив себе полон рот шоколадом, который он успел вытащить из Дауэрлингова чемодана, пока они шли по траншее.
Батальон находился теперь на переднем крае, где должен был сменить пруссаков, которые уже двое суток ничего не ели и тотчас стали клянчить у ополченцев хлеба, хотя у них его тоже не было. Под выкрики «Чертовы австрийцы!» маршевый батальон, рота за ротой, занял назначенные места. Потом пришел приказ — всем по амбразурам, и офицеры погнали их, как скот, к узким отверстиям в бруствере, отсчитывая рядовых, отдавая распоряжения унтер-офицерам, а сами, пользуясь общей суматохой, отходили во вторую линию окопов, в недоступные для разрывов гранат укрытия.
Дауэрлинг скрылся в какой-то подземной норе за окопами. При свете зажженной Швейком свечи он лег на деревянный лежак и залился слезами. Плакал, сам не зная почему, так горько, как плачет заблудившийся в лесу или упавший в грязь ребенок.
— Осмелюсь доложить, — промолвил Швейк, — получено распоряжение от господина ротного.
Дауэрлинг встал, утер слезы рукавом и прочел приказ:
«Немедленно выступить с двенадцатью солдатами для офицерского патрулирования за проволочными заграждениями в секторе 278. Поручик Лукаш». Лукас был так растерян, что даже подписался правильно, по-чешски: «Лукаш», чего не делал уже много лет, с тех самых пор как поступил в кадетский корпус.
Дауэрлинг больше уж и дрожать не мог. Он смотрел на приказ, на слова «офицерский патруль» с изумлением, словно глазам своим не веря. Но ничего другого написано там не было.
Он велел Швейку подать карту, отыскал на ней сектор 278. Найдя, подчеркнул синим карандашом, прицепил к поясу кобуру с револьвером, вздохнул, в последний раз окинул нору печальным взором и приказал Швейку следовать за ним.
Швейк взял чемодан и пошел. Придя в свой взвод, Дауэрлинг спросил, нет ли охотников пойти с ним в дозор. Никто не шевельнулся. Он обозвал их трусами и стал выбирать. Тихо вышли из окопов. Впереди — лесок, где засели стреляющие. Дауэрлинг велел идти лощиной и сам поплелся ни жив ни мертв. Швейк, идя сзади, вытаскивал из чемодана шоколад и грыз его уже без всякого стеснения. Неужто нельзя позволить себе такое скромное удовольствие, идя на смерть?
Из австрийских окопов за спиной у них вели залповый огонь по лесочку, откуда отвечали адской пальбой. Стояла такая трескотня, что Дауэрлинг решил действовать, не теряя времени.
— Швейк! — сказал он. — Пойди передай им, чтобы шли тем леском налево, к той вон чаще, и возвращайся!
После того как Швейк вернулся с сообщением, что все в порядке, Дауэрлинг помедлил еще минутку, словно о чем-то раздумывая.
— Послушай, Швейк, — сказал он. — Давай-ка залезем сюда.
И он показал на вымоину в лощине, похожую на овраг.
— Если хочешь знать, Швейк, скотина ты этакая, ведь я тебя люблю. Окажи, мне услугу. Вот тебе револьвер, выстрели мне в плечо: я хочу домой. Понимаешь: Кираль-Хида, генеральская собака, позиции, офицерский патруль — все это так быстро… Выстрели мне в плечо. Меня найдут и…
— Осмелюсь доложить, понимаю, господин прапорщик… А потом, чтоб меня повесили, да?
Дауэрлинг вздохнул.
— Это ты верно. Потом тебе на самом деле придется либо дать себя повесить, либо бежать. Ты правильно поступишь, если убежишь. Позиция недалеко, а с русскими как-нибудь объяснишься.
Дауэрлинг упрашивал долго, проявляя ангельское терпение, но Швейк не соглашался.
— Швейк, скотина ты этакая! — рассердился Дауэрлинг. — Приказываю тебе: стреляй в меня. Ты знаешь, что значит приказ?
Швейк козырнул.
— Тогда слушаюсь, господин поручик.

Бравый солдат Швейк отступил на несколько шагов, вытянул руку вперед, закрыл глаза, так как ему никогда в жизни не приходилось делать ничего подобного, и выстрелил.
— О боже! — вскрикнул Дауэрлинг, и Швейк пустился наутек — вниз по ложбине, к лесочку.
Обернувшись, он увидел только, что Дауэрлинг благодаря ему, Швейку, лежит на земле молча, не подавая признаков жизни.
Швейк подался к леску, пробежал по маленькой прогалине, где вокруг со всех сторон свистели пули. Миновав ее, он вынул из кармана трубку, закурил и медленно пошел дальше, к грудам вынутой земли, перед которыми поблескивало проволочное заграждение. Оттуда как раз выбежали два солдата в чужой форме, которой Швейк близко еще не видел. Но по плоским фуражкам он понял, что это русские.
Он остановился, крикнул им:
— Товарищи, я Йозеф Швейк из Кралевских Виноград!
И поднял руки вверх.
— Осмелюсь доложить, нас там всего одна маршевая рота — и никаких резервов.
Так бравый солдат Швейк попал в плен. Получил хлеб, чай, а на другой день попал в одну нашу роту добровольцев [116], где пробыл целый день и дождался момента, когда туда привели несколько пленных из его роты, захваченных во время вечерней атаки русских на австрийские позиции в секторе 278.
Среди них оказался фельдфебель Зондернуммер. Его просто узнать было нельзя; он смотрел на Швейка почтительно и сказал ему на ломаном чешском языке:
— Вы нам сделаль кароший вещь. Вы нам стреляль каспадина парущик. Фон был мертвый, а вы бежаль и позваль на нас эти русски зольдат, и они раз-биваль нас эйн, цвей…
— Herr Hauptman Sagner [117], — прибавил он, понизив голос, — наложил на' вас eine Strafanzeige. Adieu [118].
Так бравый солдат Швейк по ошибке совершил преступление против военной мощи Австрийского государства.
И пошел бравый солдат Швейк в плен, повернувшись задом к империи и черно-желтому двуглавому орлу, который начал терять свои перья.

