Страница:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая »
- Последняя >>

Аркадий Гайдар
Военная тайна
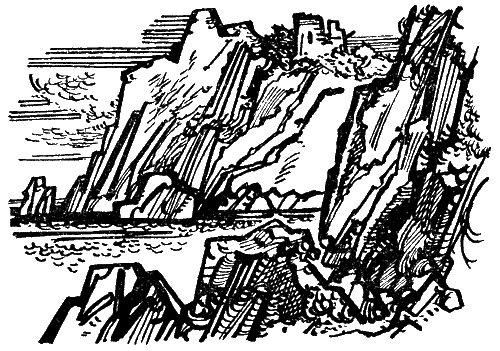
Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у неё не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.
Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.
— Дядя, — крикнула опечаленная Натка, — я в Москве!… Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.
В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.
Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.
Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.
— И что за горячка? — выбранил он Натку. — Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»… «поезд в пять часов»…
— Дядя, — виновато и весело заговорила Натка, — хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горкоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут ещё поезд на два часа… Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Будённый, да ещё какие-то начальники. А я нигде, ни на чём, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»…
— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый её бестолковым, шумным натиском. — Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!
— А ты постарел, дядя, — продолжала Натка. — Я тебя еще знаешь каким помню? В чёрной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лёг спать, а я и ещё одна девочка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки ревут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы её такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?
— Нет, не помню, Натка, — улыбнулся Шегалов. — Давно это было. Ещё в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.
Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но всё это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные жёлтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далёким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и ещё и ещё куда-то.
И когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофёр увеличил скорость так, что машина с лёгким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдёрнула синий платок, чтобы ветер сильней бил в лицо и трепал, как хочет, чёрные волосы.
… В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.
Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.
— Дядя, — задумчиво сказала Натка, — три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть лётчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу, — учись, говорят, в совпартшколе, — а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.
Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.
Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жёсткие усы и ждал, что скажет она дальше.
— И послали на пионерработу, — упрямо повторила Натка. — Лётчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, — через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.
— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов. — Не любишь или не справляешься?
— Не люблю, — созналась Натка. — Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная… Всё это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своём месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?
— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел, — насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целых три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперёд наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я всё хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?
Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:
— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селёдка. Два эшелона полудохлой скотины и те сберёг, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приёмщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи, — говорят, — да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые». Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мной поцеловаться.
Тут Шегалов остановился и серьёзно посмотрел на Натку:
— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да… Ну вот. О чём это я? Так ты не робей, Натка, тогда всё, как надо, будет. — И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.
Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?
— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она. — Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!
И, покрасневшая, уязвлённая, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путёвку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.
— Эх, Натка! — пристыдил её Шегалов. — Тебе бы радоваться, а ты… И посмотрю я на тебя… ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!… Тоже была лётчик! — с грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.
Через туннель они вышли на платформу.
— Поедешь назад — телеграфируй, — говорил ей на прощанье Шегалов. — Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты её теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!
Он так любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.
Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.
Натка попросила себе варёных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.
«Ну да… всё старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров». — Она перевернула страничку и прищурилась. — И вот это… Это тоже уже прошлое».
Перед ней лежала фотография, обведённая чёрной траурной каёмкой: это была румынская, вернее — молдавская, еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присуждённая к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишинёвской тюрьмы.
Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрёпанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.
Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели её для первого допроса к блестящим жандармским офицерам и следователям беспощадной сигуранцы.
… Марица Маргулис.
Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.
Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжёлые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо сбираясь в грозовые тучи.
Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжёлые запылившиеся окна.
… Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли ещё двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами тёмными и весёлыми.
— Сюда, — сказал мальчуган, указывая на свободный столик.
Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.
— Папа… — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.
— Хорошо, но потом, — ответил отец.
— Ладно, потом, — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.
Человек достал папиросу.
— Алька, — попросил он, — я забыл спички. Пойди принеси.
— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.
— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.
— То в кармане в пальто, — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.
Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.
Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоём.
— Ты зачем приходил? Я бы и сам принёс, — спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.
— Я это знаю, — ответил отец. — Но я вспомнил, что позабыл другую газету.
Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чём-то у отца, указывает рукой в её сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой. Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.
— Это моя книжка, — сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.
— Почему твоя? — спросила Натка.
— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл, — объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.
— Что же, возьми, если твоя, — ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. — Тебя как зовут?
— Алька, — отчётливо произнёс он и, схватив журнал, убежал к своему месту.
Ещё раз Натка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалёких гор.
Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем не знакомого ей моря.
В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу.
Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, весёлые, запылённые и усталые. Они держали — наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.
— Здорово, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.
— Ленинградцы!… Мурманцы!…— охотно закричали ей в ответ.
— Машиной, — спросила Натка, — или с парохода?
— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.
— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке, — тут ближе.
Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алёша Николаев.
— Натка, — соскакивая с велосипеда, закричал он сверху, — уральцы приехали?
— Не видала, Алёша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.
— Ну, значит, ещё не приехали… Натка, — закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда, — выкупаешься, зайди ко мне или к Фёдору Михайловичу! Есть важное дело.
— Какое ещё дело? — удивилась Натка, но Алёша махнул рукой и умчался под гору.
Море было тихое; вода светлая и тёплая.
После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться ещё с детства, плыть по солёным спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зелёные виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.
На обратном пути она вспомнила, что её просил зайти Алёша. «Какие у него ко мне дела, да ещё важные?» — подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.
Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была тёплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.
Алёшу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушёл в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина и они прислали гонцов просить о помощи.
Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала Тольке набить по дороге карманы яблоками, а Владику — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.
Мальчуган этот долго и сердито ворочался и всё никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик сидели невозмутимые и спокойные.
— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.
— Из-под Тамбова. Один я приехал, — басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган. — Из колхоза я. Меня в премию послали.
— Как в премию? — не совсем поняла Натка.
— Баранкин моё фамилие. Семён Михайлов Баранкин, — охотно объяснил мальчуган. — А послали меня в премию за то, что я завод придумал.
— Какой завод?
— Походный, фильтровальный, — серьёзно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито: — И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а ещё кидаются.
Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца её окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Фёдор Михайлович.
— Заходи, — сказал он, пропуская Натку в комнату. — Садись. Вот что, Ната, — начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась, — в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приёмка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.
— Но я ничего не понимаю ни в приёмке, ни в горячке, — испугалась Натка, — Я и сама тут, Фёдор Михайлович, третий день.
— Да тебе и понимать ничего не надо, — взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик. — Там есть и фельдшерица и сестры. Они сами примут. А твоё дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьёшь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!
— Два года, — сердито ответила Натка. — А долго ли, Фёдор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?
— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. — Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй, сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.
— Да сколько хоть человек в этом отряде? — унылым голосом спросила Натка.
— Там узнаешь, иди, иди, — повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: — Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.
Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, бушевала неуёмная суета.
Только что прибыла последняя партия — средневолжцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запылённые, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.
В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.
— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка. — Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!…
Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:
— Что за безобразие? Прекратите это безобразие! И новенькие ребята, которые ещё не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он ещё больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущённо выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.
Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой, и, ещё не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.
— Иоська! — окликнула Натка. — Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать… А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!
— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська. — Кто не прививал, вылетай живо!
— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. — Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?
— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалёву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.
— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.
— Лыбатько?
— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!
Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.
— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.
— Подавай сигнал, — ответила Натка, — сейчас я приду.
«Надо Иоську в звеньевые выделить, — подумала Натка. — Маленький, смешной, а проворный парень».
В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.
Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.
Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утёса.
Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба.
Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.
Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в чёрную тень листвы, чтобы её не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую чёрную ночь Натка узнала бы их по голосам.
Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.
Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чём-то поспорили и несколько шагов прошли молча.
— А как по-твоему, — останавливаясь, спросил высокий, — стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?
— Не стоит, — согласился мальчуган и добавил сердито: — Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы всё идём да идём, а дома всё нет и нет.
— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.
Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.
«Они через Севастополь приехали, — догадалась Натка. — Что же они здесь делают?»
В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.
Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон. Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.
Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетанье. Неподалёку от террасы чернорабочий Гейка колол дрова.
— Хорошо! — негромко крикнула Натка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы такой же, как и её, вскрик — весёлое, чистое эхо.
— Натка… ты что? — услышала она позади себя удивлённый голос.
— Корабли, Нина… — не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далёкий сверкающий горизонт.
— А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лёг. Я — из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвёшь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать». И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?
— Нина, — помолчав, спросила Натка, — ты не встречала здесь таких двоих?… Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.
— В сером френче… — повторила Нина. — Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?
— Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.
— Видела я человека во френче, — не сразу вспомнила Нина… — Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.
— И большой шрам на лице, — подсказала Натка.
— Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка? — спросила Нина и с любопытством посмотрела на по-другу.
— Не знаю, Нина.
— Я встал, можно звонить подъем? — басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.
— Можно, — сказала Натка. — Звони. «Экий увалень!» — подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.
Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.
Всё оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трёх старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.
Баранкин подошёл к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечёвки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.
Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.
Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвёртые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а, лёжа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.
Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повёртывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперёд, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трёх русских девочек и затесавшегося к ним октябрёнка Карасикова.
