Страница:
Геннадий Гор
Синее окно Феокрита
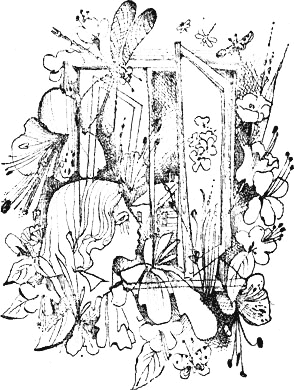
1
В окно была видна река. Из воды торчали камни. С камня на камень прыгал какой-то человек, а один раз смешно поскользнулся и угодил ногой в воду.
Когда бы я ни подошел к окну, я всегда видел одно и то же: реку, круглые камни в воде и человека, прыгавшего с камня на камень.
– Он давно прыгает? – спросил я отца.
– Вот уже десять лет, – ответил отец, – как он пытается перейти с одного берега на другой, но никак не может. Что-то его задерживает.
– Что, ты не знаешь?
– Видишь ли, и знаю и не знаю. Да и никто толком не знает. Здесь другие физические законы. Он попал в поле замедленного времени.
Тут я должен прервать только что начатое повествование, чтобы не мешать таинственному человеку прыгать с камня на камень. Между моим рассказом и его действиями, как вы позже узнаете, существует скрытая причинная связь.
Он прыгает и сейчас, пытаясь перейти с левого берега на правый, но время течет для него по-другому, чем для нас, ведь он попал в поле замедления.
Синее окно, о котором я рассказываю, осталось в моем раннем детстве. Оно осталось там, возле реки, а я был здесь, в городе, тянувшемся почти на пятьсот километров. Мир не был похож на чудо. Он был будничен, как после сна, когда просыпаешься чем-то озабоченный и нисколько не освеженный.
Сны… Чтобы видеть их, я ходил в школу. С помощью «снов» мы могли переходить из веков в века. «Снами» называли в школе эти удивительные и слишком наглядные уроки.
Я помню, как меня подвели к дверям, на которых было написано: «Осторожнее! Здесь XIX век».
Однажды эти двери открылись, мы сделали всего шаг или два, а оказались… Где? Пусть за меня ответят-мой чувства.
Мы оказались в предместье Гарфорда – Нук-Фарме, в доме Самюэла Ленгхорна Клеменса, известного всему миру под именем Марка Твена.
Нас встретил сам мистер Клеменс, симпатичный пожилой человек с длинными усами, вежливо-недоуменной улыбкой на умном лице.
– Кто вы? – спросил он. – Откуда?
– Школьники… А я преподаватель всемирной истории, – смущенно ответил ему наш учитель. – Мы из будущего.
– Из какого будущего?
– Из того, что будет. Мы из двадцать второго века.
– Вы хотите, чтобы я вам поверил? – сказал великий писатель.
Он поглядел на нас и только теперь заметил, что наша одежда резко отличается от той, которую он знал.
– – Уж не думаете ли вы, – спросил он, рассматривая полупрозрачный модный пиджак нашего историка, – что люди будущего будут так глупы и выставят напоказ свое жалкое тело?
Историк покраснел: он занимался спортом и считал себя идеально сложенным красавцем.
Вместо того чтобы ответить писателю, что он точно знает, как выглядят люди двадцать второго века, наш учитель пробормотал:
– Да, я так думаю.
– Ну и думайте, – сказал мистер Клеменс, – а я о людях будущего более высокого мнения, чем вы.
– Вы их не знаете, – стал спорить наш историк.
– А вы их знаете? – сказал мистер Клеменс.
– Знаю.
И тут мистер Клеменс начал его экзаменовать и задавать ему разные вопросы.
Наш учитель стал отвечать, но растерялся, как ученик, не знавший урока. Он растерялся и начал бормотать что-то бессвязное и заикаться, хотя вовсе не был заикой.
Мистер Клеменс слушал и качал головой.
– Так, так, – повторял он. – Отлично. Значит, вам только стоило открыть дверь – и вы сразу оказались здесь, у меня, в Нук-Фарме? Почему же я, открывая двери, всякий раз оказываюсь только в своем столетии? Может быть, я не умею открывать двери?
По-видимому, совсем некстати наш историк напомнил мистеру Клеменсу – Марку Твену об его произведении под названием «Янки при дворе короля Артура».
– Что вы хотите этим сказать? – спросил мистер Клеменс.
Учитель наш стал сморкаться и заикаться и, как на уроке, излагать писателю своими словами его собственный роман.
Мистер Клеменс терпеливо слушал, и, когда учитель кончил свое изложение, он сказал, не скрывая насмешки:
– «Янки при дворе короля Артура» – роман, а не пособие для тех, кто хочет изучать историю. Теперь признавайтесь: зачем вы устроили этот нелепый маскарад?
– Это не маскарад, – ответил наш сконфуженный и растерявшийся историк.
– А что же это, если не плохо сыгранный спектакль?
– Это урок истории. Мы изучаем прошлое не по книгам, а стараемся войти в личный контакт с разными историческими личностями.
– Личный контакт вместо зубрежки? Забавно, – сказал мистер Клеменс. – Но прежде чем явиться с визитом к той или другой исторической личности, вы извещаете ее или входите бесцеремонно, так, как вошли ко мне сейчас, даже не постучав?
– Технические условия эксперимента, – сказал учитель. – Все должно быть как во сне: бесшумно, беззвучно и не вполне логично.
– Кто же кому снится, – спросил мистер Клеменс, – вы мне или я вам?
– И мы вам, – ответил уклончиво учитель, – и вы нам. Впрочем, как хотите.
– Я хочу проснуться, – сказал мистер Клеменс строго. – Мне не нравится этот сон.
С этими словами он выпроводил нас и закрыл дверь.
Когда бы я ни подошел к окну, я всегда видел одно и то же: реку, круглые камни в воде и человека, прыгавшего с камня на камень.
– Он давно прыгает? – спросил я отца.
– Вот уже десять лет, – ответил отец, – как он пытается перейти с одного берега на другой, но никак не может. Что-то его задерживает.
– Что, ты не знаешь?
– Видишь ли, и знаю и не знаю. Да и никто толком не знает. Здесь другие физические законы. Он попал в поле замедленного времени.
Тут я должен прервать только что начатое повествование, чтобы не мешать таинственному человеку прыгать с камня на камень. Между моим рассказом и его действиями, как вы позже узнаете, существует скрытая причинная связь.
Он прыгает и сейчас, пытаясь перейти с левого берега на правый, но время течет для него по-другому, чем для нас, ведь он попал в поле замедления.
Синее окно, о котором я рассказываю, осталось в моем раннем детстве. Оно осталось там, возле реки, а я был здесь, в городе, тянувшемся почти на пятьсот километров. Мир не был похож на чудо. Он был будничен, как после сна, когда просыпаешься чем-то озабоченный и нисколько не освеженный.
Сны… Чтобы видеть их, я ходил в школу. С помощью «снов» мы могли переходить из веков в века. «Снами» называли в школе эти удивительные и слишком наглядные уроки.
Я помню, как меня подвели к дверям, на которых было написано: «Осторожнее! Здесь XIX век».
Однажды эти двери открылись, мы сделали всего шаг или два, а оказались… Где? Пусть за меня ответят-мой чувства.
Мы оказались в предместье Гарфорда – Нук-Фарме, в доме Самюэла Ленгхорна Клеменса, известного всему миру под именем Марка Твена.
Нас встретил сам мистер Клеменс, симпатичный пожилой человек с длинными усами, вежливо-недоуменной улыбкой на умном лице.
– Кто вы? – спросил он. – Откуда?
– Школьники… А я преподаватель всемирной истории, – смущенно ответил ему наш учитель. – Мы из будущего.
– Из какого будущего?
– Из того, что будет. Мы из двадцать второго века.
– Вы хотите, чтобы я вам поверил? – сказал великий писатель.
Он поглядел на нас и только теперь заметил, что наша одежда резко отличается от той, которую он знал.
– – Уж не думаете ли вы, – спросил он, рассматривая полупрозрачный модный пиджак нашего историка, – что люди будущего будут так глупы и выставят напоказ свое жалкое тело?
Историк покраснел: он занимался спортом и считал себя идеально сложенным красавцем.
Вместо того чтобы ответить писателю, что он точно знает, как выглядят люди двадцать второго века, наш учитель пробормотал:
– Да, я так думаю.
– Ну и думайте, – сказал мистер Клеменс, – а я о людях будущего более высокого мнения, чем вы.
– Вы их не знаете, – стал спорить наш историк.
– А вы их знаете? – сказал мистер Клеменс.
– Знаю.
И тут мистер Клеменс начал его экзаменовать и задавать ему разные вопросы.
Наш учитель стал отвечать, но растерялся, как ученик, не знавший урока. Он растерялся и начал бормотать что-то бессвязное и заикаться, хотя вовсе не был заикой.
Мистер Клеменс слушал и качал головой.
– Так, так, – повторял он. – Отлично. Значит, вам только стоило открыть дверь – и вы сразу оказались здесь, у меня, в Нук-Фарме? Почему же я, открывая двери, всякий раз оказываюсь только в своем столетии? Может быть, я не умею открывать двери?
По-видимому, совсем некстати наш историк напомнил мистеру Клеменсу – Марку Твену об его произведении под названием «Янки при дворе короля Артура».
– Что вы хотите этим сказать? – спросил мистер Клеменс.
Учитель наш стал сморкаться и заикаться и, как на уроке, излагать писателю своими словами его собственный роман.
Мистер Клеменс терпеливо слушал, и, когда учитель кончил свое изложение, он сказал, не скрывая насмешки:
– «Янки при дворе короля Артура» – роман, а не пособие для тех, кто хочет изучать историю. Теперь признавайтесь: зачем вы устроили этот нелепый маскарад?
– Это не маскарад, – ответил наш сконфуженный и растерявшийся историк.
– А что же это, если не плохо сыгранный спектакль?
– Это урок истории. Мы изучаем прошлое не по книгам, а стараемся войти в личный контакт с разными историческими личностями.
– Личный контакт вместо зубрежки? Забавно, – сказал мистер Клеменс. – Но прежде чем явиться с визитом к той или другой исторической личности, вы извещаете ее или входите бесцеремонно, так, как вошли ко мне сейчас, даже не постучав?
– Технические условия эксперимента, – сказал учитель. – Все должно быть как во сне: бесшумно, беззвучно и не вполне логично.
– Кто же кому снится, – спросил мистер Клеменс, – вы мне или я вам?
– И мы вам, – ответил уклончиво учитель, – и вы нам. Впрочем, как хотите.
– Я хочу проснуться, – сказал мистер Клеменс строго. – Мне не нравится этот сон.
С этими словами он выпроводил нас и закрыл дверь.
2
Кроме той двери, через которую мы так неудачно попали к мистеру К-леменсу, в школе было еще много разных дверей. И через них можно было попасть куда угодно: в Древнюю Грецию, в Древний Египет, в еще не открытую Мексику или Тасманию, когда еще не были истреблены тасманийцы, в неолит, и мезолит, и палеолит, то есть в ту проблематическую эпоху, когда неосмысленный звук превратился в слово и проник в явление и предмет, одухотворив весь окружающий мир.
Среди школьников попадались скептики. Они сомневались в реальном существовании других эпох и считали, что вполне достаточно всего одной эпохи – той эпохи, которая соблаговолила совпасть с их собственным существованием. По их мнению, надписи на дверях имели чисто условный характер, что-то символизируя и обозначая. Это «что-то» находилось по ту сторону логики и здравого смысла. Короче говоря, они не любили историю и не доверяли историку, подозревая его в том, что он был иллюзионистом и актером.
Я же не был скептиком, отнюдь. Я нисколько не сомневался, что побывал в девятнадцатом веке на квартире у мистера Клеменса, называвшего себя Марком Твеном. Но, по правде говоря, меня не очень тянуло в другие века. Я немножко побаивался. Вдруг что-нибудь там не сработает, испортится механизм и мы останемся навсегда в другом времени, не сумев вернуться к себе домой?
Да, я частенько думал об этом и не очень обрадовался, когда узнал, что на следующем уроке наш класс вместе с преподавателем всемирной истории попытается войти в личный контакт с Иваном Грозным, а если это не удастся, то с каким-нибудь крупным завоевателем – Батыем или Аттилой.
И случилась неудача. Что-то там не сработало. Попав к Батыю, наш класс там застрял вместе с учителем в результате халатности техников и неисправности аппарата…
К моему счастью, я в тот день заболел и не принимал участия в этом сне-походе, а лежал в постели у себя дома.
Время от времени я задавал домашним (отцу, матери и одушевленному автомату по имени Дориан Грей) один и тот же вопрос:
– Они вернутся или застрянут там навсегда? Оптимистка-мать говорила:
– Возвратятся, когда им надоест хан Батый. Отец отвечал уклончиво и осторожно:
– Может, да, а может, нет. Они могут застрять в чужой эпохе, как испортившийся лифт между этажами.
Автомат по имени Дориан Грей принимал красивые позы и читал вслух стихи:
Я любил смотреть на Дориана Грея, забывая о том, что это автомат, и поддаваясь обаянию, которое струилось из его синих, чуточку надменных глаз, и его голосу, соединявшему слушателя с чудесной стихией великой поэмы:
Автомат по имени Дориан Грей умел грустить или по крайней мере казаться грустным. Он был похож на картину без рамы, холста и фона. Всякий раз казалось, что он сходил с картины в мир. Я весь замирал, когда он произносил вот эти слова:
Наша школа тоже была заперта, но не по причине стихийного бедствия и болезни, а потому, что испортилась дверь в прошлое. С трудом удалось навести межвековую связь с затерявшимся в далеком прошлом классом.
Директор спросил нашего историка:
– Как ваше самочувствие?
– Самочувствие отличное. Хан Батый принял нас за помощников бога. Ночуем в кибитках, скатанных из овечьей шерсти. Пьем кумыс и молочное вино – араки. Ездим верхом. Изучаем быт и нравы.
Спокойный тон историка привел в бешенство директора.
– Аппарат исправлен! – прокричал он в далекое прошлое. – Требуем немедленного возвращения! Затянувшееся пребывание у хана ломает учебную программу и вносит беспокойство в жизнь родителей и педагогов,
– Просим продлить урок, чтобы не разгневать хана, – умолял историк.
Но вдруг связь оборвалась.
Среди школьников попадались скептики. Они сомневались в реальном существовании других эпох и считали, что вполне достаточно всего одной эпохи – той эпохи, которая соблаговолила совпасть с их собственным существованием. По их мнению, надписи на дверях имели чисто условный характер, что-то символизируя и обозначая. Это «что-то» находилось по ту сторону логики и здравого смысла. Короче говоря, они не любили историю и не доверяли историку, подозревая его в том, что он был иллюзионистом и актером.
Я же не был скептиком, отнюдь. Я нисколько не сомневался, что побывал в девятнадцатом веке на квартире у мистера Клеменса, называвшего себя Марком Твеном. Но, по правде говоря, меня не очень тянуло в другие века. Я немножко побаивался. Вдруг что-нибудь там не сработает, испортится механизм и мы останемся навсегда в другом времени, не сумев вернуться к себе домой?
Да, я частенько думал об этом и не очень обрадовался, когда узнал, что на следующем уроке наш класс вместе с преподавателем всемирной истории попытается войти в личный контакт с Иваном Грозным, а если это не удастся, то с каким-нибудь крупным завоевателем – Батыем или Аттилой.
И случилась неудача. Что-то там не сработало. Попав к Батыю, наш класс там застрял вместе с учителем в результате халатности техников и неисправности аппарата…
К моему счастью, я в тот день заболел и не принимал участия в этом сне-походе, а лежал в постели у себя дома.
Время от времени я задавал домашним (отцу, матери и одушевленному автомату по имени Дориан Грей) один и тот же вопрос:
– Они вернутся или застрянут там навсегда? Оптимистка-мать говорила:
– Возвратятся, когда им надоест хан Батый. Отец отвечал уклончиво и осторожно:
– Может, да, а может, нет. Они могут застрять в чужой эпохе, как испортившийся лифт между этажами.
Автомат по имени Дориан Грей принимал красивые позы и читал вслух стихи:
Дориан Грей был красавцем. Он говорил стихами, а иногда и пел чужим, занятым у давно умершего певца голосом, У него было необыкновенно милое, обаятельное лицо. тоже заимствованное у кого-то.
Художник утонувший
Топочет каблучком,
За ним гусарский мальчик
С простреленным виском.
А вы и не рождались,
О мистер Дориан,
– Зачем же так свободно
Садитесь на диван?
Я любил смотреть на Дориана Грея, забывая о том, что это автомат, и поддаваясь обаянию, которое струилось из его синих, чуточку надменных глаз, и его голосу, соединявшему слушателя с чудесной стихией великой поэмы:
Грей изображал всех перечисленных в поэме лиц жестами, мимикой и голосом. У него был большой актерский талант. И он умел обволакивать скучные предметы и явления дымкой почти сказочной веселости и грусти.
С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков…
Автомат по имени Дориан Грей умел грустить или по крайней мере казаться грустным. Он был похож на картину без рамы, холста и фона. Всякий раз казалось, что он сходил с картины в мир. Я весь замирал, когда он произносил вот эти слова:
Звуками своего голоса он моделировал перезревшую ниву, темную рощу и глухо запертую школу.
Ныне церковь опустела,
Школа глухо заперта,
Нива праздно перезрела,
Роща темная пуста.
Наша школа тоже была заперта, но не по причине стихийного бедствия и болезни, а потому, что испортилась дверь в прошлое. С трудом удалось навести межвековую связь с затерявшимся в далеком прошлом классом.
Директор спросил нашего историка:
– Как ваше самочувствие?
– Самочувствие отличное. Хан Батый принял нас за помощников бога. Ночуем в кибитках, скатанных из овечьей шерсти. Пьем кумыс и молочное вино – араки. Ездим верхом. Изучаем быт и нравы.
Спокойный тон историка привел в бешенство директора.
– Аппарат исправлен! – прокричал он в далекое прошлое. – Требуем немедленного возвращения! Затянувшееся пребывание у хана ломает учебную программу и вносит беспокойство в жизнь родителей и педагогов,
– Просим продлить урок, чтобы не разгневать хана, – умолял историк.
Но вдруг связь оборвалась.
3
Мой отец и моя мать, Дориан Грей и я, мы отправились на дно Средиземного моря – отдохнуть, повеселиться, полюбоваться глубоководными рыбами.
Дориан Грей принимал красивые позы. Мечтал. Грустил. Читал стихи. Смеялся. Плакал. Он забавлял нас, одновременно развлекаясь и сам, создавая из чужих и всем знакомых слов довольно красивые и поэтичные картинки. Иногда он напевал, а потом снова читал, мастерски владея чужими прекрасными словами:
Автомат обиженно замолчал, и тень грусти появилась на его красивом аристократическом лице.
Именно благодаря этому грустному и мечтательному выражению он привлек внимание одной очень милой и приятной девушки, которая тоже оказалась автоматом. У нее тоже была обширная память, и она тоже знала множество отрывков из всех классических произведений, от Гомера до наших дней. Кроме того, она знала множество пословиц, поговорок и ныне забытых старинных cлов. Она сказала Дориану Грею нежно:
– Мерзавец!
–Что означает это древнее, ныне забытое слово? – спросил Грей.
– Оно означает, что вы хороший, добрый человек. Дориан Грей сделал вид, что он ей поверил.
– Красавец, – сказала девушка ласково.
– Что означает это древнее, ныне забытое выражение?
– К сожалению, я забыла, – ответила девушка. Между двумя автоматами возникло нежное чувство. Оно облеклось в старинные, давно всеми забытые выражения и слова, но от этого было не менее сильным и возвышенным.
Мою мать это несколько встревожило.
– А что, если он уйдет от нас? – спросила она отца.
– Кто уйдет? – переспросил рассеянный отец.
– Дориан Грей.
– Он мне надоел. Читает одно и то же.
– Но виноват не он. Его программисты. К тому же он очень красив.
– Потому автоматша и влюбилась в него, что он красив.
– Я боюсь, что он женится.
– Не бойся. Это даже полезно.
Голос Грея и голосок влюбившейся в него автомат-ши становились все нежнее и нежнее. Они ворковали, как два голубка.
– Дурочка, – сказал Грей нежно.
– Что означает это древнее, давно забытое выражение? – спросила автоматша.
– Оно непереводимо, – сказал автомат, – на язык обыденных чувств.
– Пошляк…
– Склочница…
Мать подозвала меня и сказала:
– Запомни эти древние, возвышенные, всеми забытые выражения. Они могут пригодиться тебе, когда ты отправишься в далекое прошлое.
– Зачем? – сказал я. – Я лучше возьму с собой словарь старинных, вышедших из употребления слов.
Дориан Грей принимал красивые позы. Мечтал. Грустил. Читал стихи. Смеялся. Плакал. Он забавлял нас, одновременно развлекаясь и сам, создавая из чужих и всем знакомых слов довольно красивые и поэтичные картинки. Иногда он напевал, а потом снова читал, мастерски владея чужими прекрасными словами:
Потом моей матери надоело, и она сказала Дориану Грею, чтобы он немножко погрустил, но погрустил, если можно, молча.
Океан дремал зеркальный,
Злые бури отошли.
В час закатный, час хрустальный
Показались корабли.
Автомат обиженно замолчал, и тень грусти появилась на его красивом аристократическом лице.
Именно благодаря этому грустному и мечтательному выражению он привлек внимание одной очень милой и приятной девушки, которая тоже оказалась автоматом. У нее тоже была обширная память, и она тоже знала множество отрывков из всех классических произведений, от Гомера до наших дней. Кроме того, она знала множество пословиц, поговорок и ныне забытых старинных cлов. Она сказала Дориану Грею нежно:
– Мерзавец!
–Что означает это древнее, ныне забытое слово? – спросил Грей.
– Оно означает, что вы хороший, добрый человек. Дориан Грей сделал вид, что он ей поверил.
– Красавец, – сказала девушка ласково.
– Что означает это древнее, ныне забытое выражение?
– К сожалению, я забыла, – ответила девушка. Между двумя автоматами возникло нежное чувство. Оно облеклось в старинные, давно всеми забытые выражения и слова, но от этого было не менее сильным и возвышенным.
Мою мать это несколько встревожило.
– А что, если он уйдет от нас? – спросила она отца.
– Кто уйдет? – переспросил рассеянный отец.
– Дориан Грей.
– Он мне надоел. Читает одно и то же.
– Но виноват не он. Его программисты. К тому же он очень красив.
– Потому автоматша и влюбилась в него, что он красив.
– Я боюсь, что он женится.
– Не бойся. Это даже полезно.
Голос Грея и голосок влюбившейся в него автомат-ши становились все нежнее и нежнее. Они ворковали, как два голубка.
– Дурочка, – сказал Грей нежно.
– Что означает это древнее, давно забытое выражение? – спросила автоматша.
– Оно непереводимо, – сказал автомат, – на язык обыденных чувств.
– Пошляк…
– Склочница…
Мать подозвала меня и сказала:
– Запомни эти древние, возвышенные, всеми забытые выражения. Они могут пригодиться тебе, когда ты отправишься в далекое прошлое.
– Зачем? – сказал я. – Я лучше возьму с собой словарь старинных, вышедших из употребления слов.
4
Мой отец, как и большинство жителей нашего го рода, был ученым. Он писал труд об античной культуре и с большой, даже с излишней доброжелательностью отзывался об эллинистическом писателе Ахилле Татии.
Об Ахилле Татии речь пойдет впереди, потому что это касается не только античной истории, но и нашей, семьи.
Мать моя тоже занималась наукой. Она писала докторскую диссертацию о вымерших животных – китах. Киты вымерли в позапрошлом веке. Собственно, они не вымерли, а их истребили. Чтобы увидеть их живыми, нужно было воспользоваться дверями в девятнадцатый или двадцатый век.
Как и всем палеонтологам, моей матери часто приходилось совершать экспедиции в прошлое и покидать настоящее на довольно продолжительный срок. Отец мой долго не мог примириться с отлучками моей матери, но в конце концов привык.
Мать то и дело исчезала. Она ездила с экспедициями и с туристскими группами и где только не побывала: в Древнем Египте, Месопотамии, в античной Греции и Риме.
В древней Александрии она познакомилась с Ахиллом Татием, с тем самым эллинистическим романистом, целую главу которому в своем труде об античности посвятил мой отец.
Ахилл Татии влюбился в мою мать и уговаривал ее остаться в древней Александрии. Мой отец очень сердился на древнегреческого писателя, но остался объективным и свое отношение к творчеству Татия не пересмотрел.
Одна из лжеприятельниц моей матери, некая Афро-дита Капронычева, пустила ложный слух, что я сын древнегреческого романиста. Но кто мог поверить в это уж слишком парадоксальное обстоятельство? Кроме того, я был похож на своего отца, у которого не было ни малейшего сходства с Ахиллом Татием…
Моя мать все время отлучалась, чтобы не порвать связь со своими многочисленными знакомыми, рассеянными в разных веках и даже тысячелетиях. Многих из них она искренне считала приятелями и близкими друзьями.
– Мой близкий друг Тициан, – говорила она, быстро-быстро произнося слова, – ждет не дождется. Он уже начал писать мой портрет, а я вдруг упорхнула. Но я должна вернуться.
Она действительно порхала по векам, легкая, как бабочка, и залетала в окна к знаменитостям. Она знала Веласкеса и даже сумрачного Эль Греко.
Вечная туристка, трогавшая тысячелетия своими белыми, красивыми, ласковыми руками. Ее исследование о вымерших морских животных – китах – было написано наспех в каком-то межвековом пансионе или гостинице и не отличалось фундаментальностью. Специалисты обнаруживали в ее труде не только мелкие неточности, но даже фактические ошибки.
Разочаровавшись в палеонтологии, моя мать увлеклась античностью и даже собиралась писать роман из жизни эллинистического общества. Скорее всего, это был предлог для дальнейших экскурсий в прошлое, для встреч с Ахиллом Татием, пребывавшим там, где она оставила его, у себя в древней Александрии.
Древнему греку, и к тому же рафинированному и просвещенному александрийцу, было интересно беседовать с женщиной, хотя несколько и легкомысленной, но все же обремененной опытом двадцати двух последующих веков.
Впрочем, о чем они беседовали с Татием и как проводили время, – осталось тайной. Ее античный роман, тот, который она писала, консультируясь с одним из зачинателей этого многовекового жанра, подвигался медленно.
На стене в кабинете матери висело изображение стройного лукавца в синем хитоне и в древних сандалиях, человека, уподобленного изобразительной традицией эллинистической эпохи молодому богу. Ахилл Татий был абстрактно красив и обаятельно холоден, как те статуи, которые я видел в музее. У матери было много всяких реликвий, наглядных свидетельств того, что она сумела преодолеть расстояние между веками. Она ведь умудрилась побывать и в том во всех отношениях проблематичном времени, когда само слово и понятие «время» едва ли существовало. Существовал ли тогда человеческий язык? Этот вопрос задавали лингвисты в течение трех столетий, не умея ответить на него. Но моя мать ответила. Она, как выяснилось, беседовала с одним неандертальцем при помощи знаков. И все же матери не удалось убедить в этом лингвистов. Ее пребывание в мустьерской эпохе было взято под сомнение. Там еще никто не бывал по причине технических сложностей и большой дальности.
Научная этика не позволяла моему отцу препятствовать ее дальним экскурсиям и свиданиям с античным романистом, но как он страдал от ее продолжавшегося иногда годами отсутствия…
Это и сблизило его со мной.
Об Ахилле Татии речь пойдет впереди, потому что это касается не только античной истории, но и нашей, семьи.
Мать моя тоже занималась наукой. Она писала докторскую диссертацию о вымерших животных – китах. Киты вымерли в позапрошлом веке. Собственно, они не вымерли, а их истребили. Чтобы увидеть их живыми, нужно было воспользоваться дверями в девятнадцатый или двадцатый век.
Как и всем палеонтологам, моей матери часто приходилось совершать экспедиции в прошлое и покидать настоящее на довольно продолжительный срок. Отец мой долго не мог примириться с отлучками моей матери, но в конце концов привык.
Мать то и дело исчезала. Она ездила с экспедициями и с туристскими группами и где только не побывала: в Древнем Египте, Месопотамии, в античной Греции и Риме.
В древней Александрии она познакомилась с Ахиллом Татием, с тем самым эллинистическим романистом, целую главу которому в своем труде об античности посвятил мой отец.
Ахилл Татии влюбился в мою мать и уговаривал ее остаться в древней Александрии. Мой отец очень сердился на древнегреческого писателя, но остался объективным и свое отношение к творчеству Татия не пересмотрел.
Одна из лжеприятельниц моей матери, некая Афро-дита Капронычева, пустила ложный слух, что я сын древнегреческого романиста. Но кто мог поверить в это уж слишком парадоксальное обстоятельство? Кроме того, я был похож на своего отца, у которого не было ни малейшего сходства с Ахиллом Татием…
Моя мать все время отлучалась, чтобы не порвать связь со своими многочисленными знакомыми, рассеянными в разных веках и даже тысячелетиях. Многих из них она искренне считала приятелями и близкими друзьями.
– Мой близкий друг Тициан, – говорила она, быстро-быстро произнося слова, – ждет не дождется. Он уже начал писать мой портрет, а я вдруг упорхнула. Но я должна вернуться.
Она действительно порхала по векам, легкая, как бабочка, и залетала в окна к знаменитостям. Она знала Веласкеса и даже сумрачного Эль Греко.
Вечная туристка, трогавшая тысячелетия своими белыми, красивыми, ласковыми руками. Ее исследование о вымерших морских животных – китах – было написано наспех в каком-то межвековом пансионе или гостинице и не отличалось фундаментальностью. Специалисты обнаруживали в ее труде не только мелкие неточности, но даже фактические ошибки.
Разочаровавшись в палеонтологии, моя мать увлеклась античностью и даже собиралась писать роман из жизни эллинистического общества. Скорее всего, это был предлог для дальнейших экскурсий в прошлое, для встреч с Ахиллом Татием, пребывавшим там, где она оставила его, у себя в древней Александрии.
Древнему греку, и к тому же рафинированному и просвещенному александрийцу, было интересно беседовать с женщиной, хотя несколько и легкомысленной, но все же обремененной опытом двадцати двух последующих веков.
Впрочем, о чем они беседовали с Татием и как проводили время, – осталось тайной. Ее античный роман, тот, который она писала, консультируясь с одним из зачинателей этого многовекового жанра, подвигался медленно.
На стене в кабинете матери висело изображение стройного лукавца в синем хитоне и в древних сандалиях, человека, уподобленного изобразительной традицией эллинистической эпохи молодому богу. Ахилл Татий был абстрактно красив и обаятельно холоден, как те статуи, которые я видел в музее. У матери было много всяких реликвий, наглядных свидетельств того, что она сумела преодолеть расстояние между веками. Она ведь умудрилась побывать и в том во всех отношениях проблематичном времени, когда само слово и понятие «время» едва ли существовало. Существовал ли тогда человеческий язык? Этот вопрос задавали лингвисты в течение трех столетий, не умея ответить на него. Но моя мать ответила. Она, как выяснилось, беседовала с одним неандертальцем при помощи знаков. И все же матери не удалось убедить в этом лингвистов. Ее пребывание в мустьерской эпохе было взято под сомнение. Там еще никто не бывал по причине технических сложностей и большой дальности.
Научная этика не позволяла моему отцу препятствовать ее дальним экскурсиям и свиданиям с античным романистом, но как он страдал от ее продолжавшегося иногда годами отсутствия…
Это и сблизило его со мной.
5
Мы опять остались одни с отцом. Мы остались одни в своем двадцать втором веке, в это время года значительно опустевшем. Все разбрелись кто куда: на дно морей и океанов, в пустыни Марса, в другие, большинству доступные века и тысячелетия.
Отец как-то позвал меня в свою рабочую комнату, усмехнулся и сказал:
– А знаешь, Феокрит, давай тоже махнем куда-нибудь.
– А куда? – спросил я. – В древнюю Александрию?
– Еще чего не хватало. Нет, мы отправимся в свое прошлое.
И вот я стою у синего окна моего детства и смотрю, как с камня на камень прыгает какой-то человек, пытаясь перейти с одного берега на другой.
– Это тот самый? – спросил я отца.
– Тот. Разве ты его не узнал?
– Узнать-то узнал. Но не могу поверить своим глазам. Ведь прошло много лет, а он все прыгает, почти на одном месте.
– Дело не в расстоянии, а в другом.
– В чем?
– Время тут замедляют согласно законам физики, открытым недавно. Не обращай на него внимания. Пусть себе прыгает.
Я долго стоял у окна и смотрел, как прыгал странный человек. Прыгнет – и повиснет над водой, словно у него есть невидимые крылья. Прыжок, потом опять прыжок – и всё на одном месте.
Потом мне стало скучно, и я пошел к Дориану Грею.
Дориан Грей принял красивую позу и прочел своим звучным, поющим, как речная вода, голосом:
– Хулиганка.
– Завистник, – ответила она ему томно.
– Спекулянтка.
– Хапуга, – проворковала она.
Все эти мертвые, покрытые пылью, заплесневевшие от давности слова, напечатанные в словаре мертвых выражений, вдруг ожили и повеселели. Они, казалось, подмигивали мне, говоря: «Нас хоть и похоронили, заперев в шкаф, но мы выбрались на волю и теперь играем».
Я подумал, что разговор Дориана Грея с его милой автоматшей-женой полезен мне как урок древнего языка. Все эти красивые и звучные выражения пригодятся мне, когда я поеду с туристской группой в прошлое.
– Пролаза, – восторженно сказал Грей.
– Холуй.
Дориан Грей поцеловал автоматшу. Вот этого он при мне не имел права делать. Моя мать ему строго запретила целоваться при посторонних и детях.
– Зачем ты целуешься? – спросил я Дориана Грея. Автомат и автоматша удалились, мило сказав на прощанье:
– Прохвост.
Я сразу же после их ухода заглянул в словарь вышедших из употребления слов и, узнав, что означает слово «прохвост», очень огорчился. Потом я подумал, что вышедшие из употребления слова, выбранные автоматом, имеют обратный смысл, и снова повеселел.
Повеселев, я вышел из дома и пошел в сторону реки. где с камня на камень прыгал загадочный человек.
Вода в реке шумела, сквозь ее шум я окликнул прыгавшего.
– Здравствуй, – сказал я. – Как тебя зовут?
– Так же, как и тебя. Я Феокрит.
– А кто ты такой? И чем занимаешься?
– Я прыгаю.
– А зачем ты прыгаешь?
– Не знаю. Знает тот, кто поставил опыт.
– А тебе плохо здесь?
– Нет, наоборот. Скорей хорошо. Подо мной река, надо мной синее небо. И мне хо-ро-шо!
Мне тоже было хорошо на берегу, хотя я не прыгая с камня на камень, а стоял на одном месте.
Потом я услышал голос кукушки. Протяжные звуки длились, замедленные и влажные, и казалось, не кукушка, а лес на том и на этом берегу или оба берега беседовали друг с другом на протяжном, тающем птичьем наречии.
Человек прыгал. Он прыгал днем и ночью, поднимая себя над рекой и снова опуская на камни.
А мы с отцом ловили форелей.
– А что хотят узнать с его помощью? – спросил я отца.
– Что такое время. Для этого и построили поле замедления. Специалисты это так называют. Но тут все мне кажется замедленным, как в детстве. Слова, поступки, дела, звуки. Послушай, как медленно кукует кукушка. Ей некуда торопиться. И она вливает в свои звуки все свое томление по секунде, которая длилась бы как годы.
– – Клюет! – крикнул я, показывая на синюю прозрачную воду реки и на поплавок.
В синей студеной воде форель схватила наживку и, сорвав ее с крючка, унесла в глубь реки.
Я стал на камень и с него прыгнул на другой.
– Вернись, – сказал отец, – не то попадешь в поле замедления и будешь прыгать, оторвавшись от одного берега и не добравшись до другого.
Отец как-то позвал меня в свою рабочую комнату, усмехнулся и сказал:
– А знаешь, Феокрит, давай тоже махнем куда-нибудь.
– А куда? – спросил я. – В древнюю Александрию?
– Еще чего не хватало. Нет, мы отправимся в свое прошлое.
И вот я стою у синего окна моего детства и смотрю, как с камня на камень прыгает какой-то человек, пытаясь перейти с одного берега на другой.
– Это тот самый? – спросил я отца.
– Тот. Разве ты его не узнал?
– Узнать-то узнал. Но не могу поверить своим глазам. Ведь прошло много лет, а он все прыгает, почти на одном месте.
– Дело не в расстоянии, а в другом.
– В чем?
– Время тут замедляют согласно законам физики, открытым недавно. Не обращай на него внимания. Пусть себе прыгает.
Я долго стоял у окна и смотрел, как прыгал странный человек. Прыгнет – и повиснет над водой, словно у него есть невидимые крылья. Прыжок, потом опять прыжок – и всё на одном месте.
Потом мне стало скучно, и я пошел к Дориану Грею.
Дориан Грей принял красивую позу и прочел своим звучным, поющим, как речная вода, голосом:
Он подозвал свою автоматшу-жену – ее звали Дуль-синея Тобосская – и сказал ей нежно:
Ты просыпался – я не сплю,
Мы два крыла – одна душа,
Мы две души – один творец,
Мы два творца – один венец…
– Хулиганка.
– Завистник, – ответила она ему томно.
– Спекулянтка.
– Хапуга, – проворковала она.
Все эти мертвые, покрытые пылью, заплесневевшие от давности слова, напечатанные в словаре мертвых выражений, вдруг ожили и повеселели. Они, казалось, подмигивали мне, говоря: «Нас хоть и похоронили, заперев в шкаф, но мы выбрались на волю и теперь играем».
Я подумал, что разговор Дориана Грея с его милой автоматшей-женой полезен мне как урок древнего языка. Все эти красивые и звучные выражения пригодятся мне, когда я поеду с туристской группой в прошлое.
– Пролаза, – восторженно сказал Грей.
– Холуй.
Дориан Грей поцеловал автоматшу. Вот этого он при мне не имел права делать. Моя мать ему строго запретила целоваться при посторонних и детях.
– Зачем ты целуешься? – спросил я Дориана Грея. Автомат и автоматша удалились, мило сказав на прощанье:
– Прохвост.
Я сразу же после их ухода заглянул в словарь вышедших из употребления слов и, узнав, что означает слово «прохвост», очень огорчился. Потом я подумал, что вышедшие из употребления слова, выбранные автоматом, имеют обратный смысл, и снова повеселел.
Повеселев, я вышел из дома и пошел в сторону реки. где с камня на камень прыгал загадочный человек.
Вода в реке шумела, сквозь ее шум я окликнул прыгавшего.
– Здравствуй, – сказал я. – Как тебя зовут?
– Так же, как и тебя. Я Феокрит.
– А кто ты такой? И чем занимаешься?
– Я прыгаю.
– А зачем ты прыгаешь?
– Не знаю. Знает тот, кто поставил опыт.
– А тебе плохо здесь?
– Нет, наоборот. Скорей хорошо. Подо мной река, надо мной синее небо. И мне хо-ро-шо!
Мне тоже было хорошо на берегу, хотя я не прыгая с камня на камень, а стоял на одном месте.
Потом я услышал голос кукушки. Протяжные звуки длились, замедленные и влажные, и казалось, не кукушка, а лес на том и на этом берегу или оба берега беседовали друг с другом на протяжном, тающем птичьем наречии.
Человек прыгал. Он прыгал днем и ночью, поднимая себя над рекой и снова опуская на камни.
А мы с отцом ловили форелей.
– А что хотят узнать с его помощью? – спросил я отца.
– Что такое время. Для этого и построили поле замедления. Специалисты это так называют. Но тут все мне кажется замедленным, как в детстве. Слова, поступки, дела, звуки. Послушай, как медленно кукует кукушка. Ей некуда торопиться. И она вливает в свои звуки все свое томление по секунде, которая длилась бы как годы.
– – Клюет! – крикнул я, показывая на синюю прозрачную воду реки и на поплавок.
В синей студеной воде форель схватила наживку и, сорвав ее с крючка, унесла в глубь реки.
Я стал на камень и с него прыгнул на другой.
– Вернись, – сказал отец, – не то попадешь в поле замедления и будешь прыгать, оторвавшись от одного берега и не добравшись до другого.
6
Вскоре все это случилось, но, к счастью для меня, не со мной, а с Греем и его женой-автоматшей. Забыв обо всем на свете, кроме себя и своей несчастной страсти, они нечаянно попали в поле замедления и стали прыгать.
Они прыгали, погружаясь в то загадочное явление, которое люди называют временем. Теперь время текло для них медленно, не спеша, как и для того человека, который прыгал неподалеку от них с камня на камень.
Картина, виденная мной в синее окно, изменилась:
прыгал уже не один, а трое.
Автоматша быстро познакомилась с загадочным человеком и стала развлекать его, рассказывая ему пословицы, поговорки или произнося ныне забытые, давно вышедшие из употребления слова. А Дориан Грей начал читать ему отрывки из тех книг, которые он знал наизусть.
– «Рыба, – говорил он, – я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя, прежде чем настанет вечер».
– Откуда этот отрывок? – спросил загадочный человек, прыгая с камня на камень.
– «Старик и море» Хемингуэя. Дориан Грей читал громко-громко, а человек прыгал – и прислушивался, прислушивался – и прыгал.
Берег был близко-близко и бесконечно далеко. В этом и заключалась главная загадка, словно тут были не только особые законы времени, но и особые законы пространства тоже.
Дориан Грей и его жена-автоматша стали выражать нетерпение. Им надоело прыгать над водой и хотелось вернуться на берег, где стоял уютный домик с едой, напитками, вещами. Но поле замедления, куда они нечаянно попали, не выпускало их.
– Потерпите немножко, – говорил им загадочный человек, – я же вот терплю.
– Ты человек, а мы автоматы, – отвечал ему Дориан. – И к тому же мы устали.
– Найдите себе занятие. Думайте. Мечтайте. Вспоминайте.
– О чем вспоминать?
– О том, как вы жили на берегу. Я тоже вспоминаю об этом. Вспоминаю – и прыгаю. Прыгаю – и вспоминаю.
А затем их всех троих укрыла ночь. В темноте было слышно, как автомат и автоматша обменивались любезностями.
– Подлец, – говорила нежно автоматша.
– Клеветница, – отзывался Дориан Грей.
Они прыгали, погружаясь в то загадочное явление, которое люди называют временем. Теперь время текло для них медленно, не спеша, как и для того человека, который прыгал неподалеку от них с камня на камень.
Картина, виденная мной в синее окно, изменилась:
прыгал уже не один, а трое.
Автоматша быстро познакомилась с загадочным человеком и стала развлекать его, рассказывая ему пословицы, поговорки или произнося ныне забытые, давно вышедшие из употребления слова. А Дориан Грей начал читать ему отрывки из тех книг, которые он знал наизусть.
– «Рыба, – говорил он, – я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя, прежде чем настанет вечер».
– Откуда этот отрывок? – спросил загадочный человек, прыгая с камня на камень.
– «Старик и море» Хемингуэя. Дориан Грей читал громко-громко, а человек прыгал – и прислушивался, прислушивался – и прыгал.
Берег был близко-близко и бесконечно далеко. В этом и заключалась главная загадка, словно тут были не только особые законы времени, но и особые законы пространства тоже.
Дориан Грей и его жена-автоматша стали выражать нетерпение. Им надоело прыгать над водой и хотелось вернуться на берег, где стоял уютный домик с едой, напитками, вещами. Но поле замедления, куда они нечаянно попали, не выпускало их.
– Потерпите немножко, – говорил им загадочный человек, – я же вот терплю.
– Ты человек, а мы автоматы, – отвечал ему Дориан. – И к тому же мы устали.
– Найдите себе занятие. Думайте. Мечтайте. Вспоминайте.
– О чем вспоминать?
– О том, как вы жили на берегу. Я тоже вспоминаю об этом. Вспоминаю – и прыгаю. Прыгаю – и вспоминаю.
А затем их всех троих укрыла ночь. В темноте было слышно, как автомат и автоматша обменивались любезностями.
– Подлец, – говорила нежно автоматша.
– Клеветница, – отзывался Дориан Грей.
7
Когда я вернулся в город, наш класс был уже на месте. Дверь в прошлое исправили, и, не попрощавшись с Батыем, школьники и учитель оказались в своем времени.
Все смотрели на меня свысока, потому что я сидел дома, в то время как они скакали на диких конях по степям Сибири, пили кумыс и стреляли из лука…
Скрывая свою зависть, я с нетерпением ждал очередного урока всемирной истории. Щемящее чувство тоски, некоторой доли страха перед неведомым сменялось желанием рискнуть и оказаться в другом веке или тысячелетии.
Войдя в класс, учитель истории сказал:
– Нет, нет. На этот раз мы отправимся не к Батыю, а в двадцатый век.
Я очень обрадовался, услышав про двадцатый век. Ведь я был хорошо подготовлен к путешествию и знал много вышедших из употребления слов и выражений, которые могли мне пригодиться в разговоре с людьми начала двадцатого века.
Учитель повел нас к дверям, отделявшим от прошлого.
Мы оказались в России. Шел 1915 год. В маленьком провинциальном городке нас приняли за труппу юных артистов, прибывших из Южной Америки. Мы поселились в гостинице, очень похожей на ту, в которой жил когда-то гоголевский Чичиков.
Возле ворот гостиницы стояла бричка. Половой в фартуке бежал через двор, неся пышущий паром самовар.
Затем мы увидели человека, очень похожего на Павла Ивановича Чичикова. Он оказался тоже Павлом Ивановичем, быстро познакомился с нашим учителем и был настолько любезен, что дал характеристики всем жителям этого маленького провинциального городка.
Желая показать свои знания, я подошел к Павлу Ивановичу и сказал приветливо:
– Мерзавец. Спекулянт.
– Что это значит? – возмутился Павел Иванович.
– Это значит, что вы хороший, честный человек. Павел Иванович покраснел и стал давиться не то от смеха, не то от негодования.
Все смотрели на меня свысока, потому что я сидел дома, в то время как они скакали на диких конях по степям Сибири, пили кумыс и стреляли из лука…
Скрывая свою зависть, я с нетерпением ждал очередного урока всемирной истории. Щемящее чувство тоски, некоторой доли страха перед неведомым сменялось желанием рискнуть и оказаться в другом веке или тысячелетии.
Войдя в класс, учитель истории сказал:
– Нет, нет. На этот раз мы отправимся не к Батыю, а в двадцатый век.
Я очень обрадовался, услышав про двадцатый век. Ведь я был хорошо подготовлен к путешествию и знал много вышедших из употребления слов и выражений, которые могли мне пригодиться в разговоре с людьми начала двадцатого века.
Учитель повел нас к дверям, отделявшим от прошлого.
Мы оказались в России. Шел 1915 год. В маленьком провинциальном городке нас приняли за труппу юных артистов, прибывших из Южной Америки. Мы поселились в гостинице, очень похожей на ту, в которой жил когда-то гоголевский Чичиков.
Возле ворот гостиницы стояла бричка. Половой в фартуке бежал через двор, неся пышущий паром самовар.
Затем мы увидели человека, очень похожего на Павла Ивановича Чичикова. Он оказался тоже Павлом Ивановичем, быстро познакомился с нашим учителем и был настолько любезен, что дал характеристики всем жителям этого маленького провинциального городка.
Желая показать свои знания, я подошел к Павлу Ивановичу и сказал приветливо:
– Мерзавец. Спекулянт.
– Что это значит? – возмутился Павел Иванович.
– Это значит, что вы хороший, честный человек. Павел Иванович покраснел и стал давиться не то от смеха, не то от негодования.
