Страница:
Предыдущий рекорд частоты вращения для нейтронных звезд пульсаров — 642 герца — был установлен в 1982 году. По иронии судьбы это был самый первый из полутора сотен обнаруженных позже миллисекундных пульсаров. Поэтому астрономы поспешили развить теорию, которая объясняет, почему частота вращения пульсаров никак не может превышать семисот герц. Выше середины четвертой октавы, то есть примерно трех килогерц, ни один пульсар «петь» не может просто потому, что его разорвет центробежная сила. А вот чтобы снизить этот порог до семисот герц, потребовалось предположить, что небольшая асимметрия пульсара заставляет его излучать предсказанные теорией относительности гравитационные волны (до сих пор, кстати, так и не обнаруженные). Чем быстрее вращается нейтронная звезда, тем интенсивнее излучаемые ею волны тяготения. Потеря энергии на гравитационное излучение и должна замедлить вращение до заветных семисот герц. Теперь от всего этого и ряда других теорий придется отказаться.
Виновник торжества скептиков был назван скромно — PSR J1748-2446ad. Его диаметр, согласно оценкам, не превышает шестнадцати километров, а масса — около двух солнечных. Он был найден в шаровом звездном скоплении Terzan 5 вблизи центра нашей галактики. В шаровых скоплениях плотность звезд сравнительно высока, и поэтому велика вероятность образования двойных звездных систем. Радиоизлучение пульсара довольно слабое — почти половину времени нейтронная звезда заслоняется своей напарницей, поэтому его очень трудно обнаружить.
Тридцать три из известных миллисекундных пульсаров были найдены в скоплении Terzan 5. Теперь астрономы удвоят усилия в надежде найти там объекты, вращающиеся еще быстрее. Их изучение поможет лучше понять, как ведет себя материя в экстремальных условиях, и проверить самые основы наших физических представлений. — Г.А.
Новый метод основан на физических эффектах, сопутствующих движению акустических ударных волн через кристаллические диэлектрики. Теоретические расчеты и компьютерная симуляция свидетельствуют о том, что при прохождении такой волны через твердую диэлектрическую среду должны возникать слабые, но поддающиеся регистрации цуги когерентного инфракрасного излучения, параметры которого зависят от скорости волны и структуры кристаллической решетки. Численное моделирование показало, что частоты генерируемых волн должны лежать в диапазоне от 1 до 100 терагерц. Излучение генерируется в процессе синхронного смещения большого числа атомов кристаллической решетки. В численных экспериментах с кристаллами хлорида натрия были предсказаны вспышки когерентного излучения с частотой 22 ТГц. — А.Л.
Перемены видны еще на подходе к зданию: дорожки очищены от снега и льда, так что вероятность поскользнуться, упасть, потерять сознание и очнуться в гипсе стремится к нулю. Внутри все сияет, невзирая на продолжающиеся работы по обустройству павильонов. Продавцы отметили, что сравнение со старыми вагончиками «Тонар» сильно не в пользу последних. Раньше народ, хоть тресни, не хотел брать мониторы, видя только безликий список. А выставили их на витрину, и все изменилось. Цены же остались на прежнем уровне, так как стоимость квадратного метра павильона изрядно упала. Раньше за метр «Тонара» арендаторы платили около 4 тысяч долларов в год, нынче же, по словам директора комплекса Романа Аганина, — 1700—1800 долларов.
Прежде на рынке продавались в основном электронные компоненты. Они и сейчас остались в цокольном этаже. Но объемы уже не те, что были несколько лет назад, когда Митинский радиорынок считался бесспорным монополистом. Как сказал автору торговец батарейками в Пензе лет десять назад: «В Митино есть практически все и в одном месте. Не надо больше никуда ездить». Наверное, в этом и кроется секрет успеха не только этого, но и других специализированных рынков электронной техники (в Митино теперь вообще, как в Греции, — купить можно все, от одежды до снегоуборочных машин).
Если же вас одолеет ностальгия по торговле на свежем воздухе, то в заповеднике из «Тонаров» еще вовсю бурлит жизнь. Переехать под крышу смогли далеко не все. Продавцы и рады бы в рай, то есть под крышу, да грехи, то есть нехватка оборотных средств, не пускают. Из разговоров с аборигенами выяснилось, что переселение стоит 17 тысяч долларов, а такая сумма не всем по плечу. Невзирая на всеобщий порыв к удвоению ВВП… — Л.Ш.
[galaktion@computerra.ru]
Тимофей Бахвалов
[tbakhvalov@computerra.ru]
Александр Бумагин
[dost_sir@computerra.ru]
Артем Захаров
[azak@computerra.ru]
Евшений Золотов
[sentinel@computerra.ru]
Бёрд Киви
[kiwi@computerra.ru]
Денис Коновальчик
[dyukon@computerra.ru]
Константин Курбатов
[banknote@computerra.ru]
Алексей Левин
[alekseylevin@comcast.net]
Лев Шелдунов
[liova01@gmail.com]
сетевом огородике создатель Паутины намерен делиться со всеми желающими мыслями о дальнейшей судьбе своего детища, а также деталями нынешней разработки — семантического веба. По ироничному признанию гуру HTML он выбрал жанр сетевого дневника, так как ему «приятно осуществлять редактирование в режиме, когда вы можете нанести лишь минимальные повреждения сайту». — Д.К.
Виновник торжества скептиков был назван скромно — PSR J1748-2446ad. Его диаметр, согласно оценкам, не превышает шестнадцати километров, а масса — около двух солнечных. Он был найден в шаровом звездном скоплении Terzan 5 вблизи центра нашей галактики. В шаровых скоплениях плотность звезд сравнительно высока, и поэтому велика вероятность образования двойных звездных систем. Радиоизлучение пульсара довольно слабое — почти половину времени нейтронная звезда заслоняется своей напарницей, поэтому его очень трудно обнаружить.
Тридцать три из известных миллисекундных пульсаров были найдены в скоплении Terzan 5. Теперь астрономы удвоят усилия в надежде найти там объекты, вращающиеся еще быстрее. Их изучение поможет лучше понять, как ведет себя материя в экстремальных условиях, и проверить самые основы наших физических представлений. — Г.А.
Свет приходит из Ливермора
Американские физики из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Массачусетского технологического института предложили еще один способ генерации когерентного светового излучения. До сих пор источником когерентных световых импульсов служили только системы со светоизлучающей активной средой, помещенной в оптический резонатор (собственно лазеры), и генераторы электромагнитных колебаний, излучаемых релятивистскими электронами (так называемые лазеры на свободных электронах).Новый метод основан на физических эффектах, сопутствующих движению акустических ударных волн через кристаллические диэлектрики. Теоретические расчеты и компьютерная симуляция свидетельствуют о том, что при прохождении такой волны через твердую диэлектрическую среду должны возникать слабые, но поддающиеся регистрации цуги когерентного инфракрасного излучения, параметры которого зависят от скорости волны и структуры кристаллической решетки. Численное моделирование показало, что частоты генерируемых волн должны лежать в диапазоне от 1 до 100 терагерц. Излучение генерируется в процессе синхронного смещения большого числа атомов кристаллической решетки. В численных экспериментах с кристаллами хлорида натрия были предсказаны вспышки когерентного излучения с частотой 22 ТГц. — А.Л.
Новая крыша Митино
Свершилось! Митинский радиорынок — динозавр полудикой торговли электронной техникой — обрел крышу над головами продавцов и покупателей и зазывает посетить новый комплекс, который был сдан в эксплуатацию в канун Нового года.Перемены видны еще на подходе к зданию: дорожки очищены от снега и льда, так что вероятность поскользнуться, упасть, потерять сознание и очнуться в гипсе стремится к нулю. Внутри все сияет, невзирая на продолжающиеся работы по обустройству павильонов. Продавцы отметили, что сравнение со старыми вагончиками «Тонар» сильно не в пользу последних. Раньше народ, хоть тресни, не хотел брать мониторы, видя только безликий список. А выставили их на витрину, и все изменилось. Цены же остались на прежнем уровне, так как стоимость квадратного метра павильона изрядно упала. Раньше за метр «Тонара» арендаторы платили около 4 тысяч долларов в год, нынче же, по словам директора комплекса Романа Аганина, — 1700—1800 долларов.
Прежде на рынке продавались в основном электронные компоненты. Они и сейчас остались в цокольном этаже. Но объемы уже не те, что были несколько лет назад, когда Митинский радиорынок считался бесспорным монополистом. Как сказал автору торговец батарейками в Пензе лет десять назад: «В Митино есть практически все и в одном месте. Не надо больше никуда ездить». Наверное, в этом и кроется секрет успеха не только этого, но и других специализированных рынков электронной техники (в Митино теперь вообще, как в Греции, — купить можно все, от одежды до снегоуборочных машин).
Если же вас одолеет ностальгия по торговле на свежем воздухе, то в заповеднике из «Тонаров» еще вовсю бурлит жизнь. Переехать под крышу смогли далеко не все. Продавцы и рады бы в рай, то есть под крышу, да грехи, то есть нехватка оборотных средств, не пускают. Из разговоров с аборигенами выяснилось, что переселение стоит 17 тысяч долларов, а такая сумма не всем по плечу. Невзирая на всеобщий порыв к удвоению ВВП… — Л.Ш.
Новости подготовили
Галактион Андреев[galaktion@computerra.ru]
Тимофей Бахвалов
[tbakhvalov@computerra.ru]
Александр Бумагин
[dost_sir@computerra.ru]
Артем Захаров
[azak@computerra.ru]
Евшений Золотов
[sentinel@computerra.ru]
Бёрд Киви
[kiwi@computerra.ru]
Денис Коновальчик
[dyukon@computerra.ru]
Константин Курбатов
[banknote@computerra.ru]
Алексей Левин
[alekseylevin@comcast.net]
Лев Шелдунов
[liova01@gmail.com]
сетевом огородике создатель Паутины намерен делиться со всеми желающими мыслями о дальнейшей судьбе своего детища, а также деталями нынешней разработки — семантического веба. По ироничному признанию гуру HTML он выбрал жанр сетевого дневника, так как ему «приятно осуществлять редактирование в режиме, когда вы можете нанести лишь минимальные повреждения сайту». — Д.К.
***
По данным DRAMeXchange, объем выпуска DRAM-памяти в прошлом году вырос по сравнению с 2004-м в полтора раза (эквивалент 680,5 млн. модулей емкостью 256 Мбайт). Компания также отмечает, что после осеннего снижения цен на DRAM многие производители начали перепрофилировать производственные мощности на выпуск флэш-памяти. — Т.Б.
***
Кембриджский университет получил около 4 млн. долларов на разработку микроскопических лазеров, активными средами которых станут жидкие кристаллы и светоизлучающие полимеры. Использование таких сред позволяет изготавливать перенастраиваемые лазеры размером порядка десяти микрометров, способные генерировать монохроматическое излучение очень высокой когерентности в диапазоне от инфракрасной зоны до ультрафиолета. Новые лазеры предполагается использовать в медицинской аппаратуре, а также в качестве индивидуальных пиксельных излучателей в дисплеях. — А.Л.
***
Согласно последним исследованиям Академии общественных наук Китая, в прошлом году 90% жителей Пекина ни разу не посещали кинотеатры. Большинство предпочитает загородные прогулки и… пиратские диски. — Т.Б.
***
Mozilla Foundation собирается выпустить браузер Firefox для Intel-версии Mac OS X в конце марта. — Т.Б.
***
В начале февраля Konami выпускает на PSP классическую вертикальную скроллер-стрелялку Gradius, вышедшую в свое время на многих 8— и 16-битных консолях. UMD с Gradius Portable будет содержать все четыре части игры и бонус-эпизод Gradius Gaiden. — Т.Б.
***
По заслуживающим доверия слухам, вскоре появится первая бета-версия супердолгостроя S.T.A.L.K.E.R. Обещается пара десятков этажей и полный комплект оружия, который войдет в окончательный релиз. Издательство THQ намерено выпустить игру к осени этого года. — Т.Б.
***
 Сто сорок тысяч долларов — в такую сумму Алекс Тью (alex Tew), владелец нашумевшей страницы Milliondollar-homepage.com, оценил последние остававшиеся на ней тысячу пикселов, выставив их на онлайн-аукционе eBay. Торги застопорились на отметке 38 тысяч, что, впрочем, ни в коей мере не разочаровало Алекса, пообещавшего в своем блоге удивить мир новыми грандиозными проектами. Кстати, на следующий после завершения торгов день сайт ушел в даун, подвергшись мощной DoS-атаке. — К.К.
Сто сорок тысяч долларов — в такую сумму Алекс Тью (alex Tew), владелец нашумевшей страницы Milliondollar-homepage.com, оценил последние остававшиеся на ней тысячу пикселов, выставив их на онлайн-аукционе eBay. Торги застопорились на отметке 38 тысяч, что, впрочем, ни в коей мере не разочаровало Алекса, пообещавшего в своем блоге удивить мир новыми грандиозными проектами. Кстати, на следующий после завершения торгов день сайт ушел в даун, подвергшись мощной DoS-атаке. — К.К.
***
Mужской журнал FHM открыл официальный раздел для PSP — www.fhm.com/psp. С этой странички можно скачать бесплатный «горячий» контент, оптимизированный для просмотра на маленьком экране развлекательной системы. — Т.Б.

ТЕМА НОМЕРА: Нервные клетки не программируются?
Автор: Алексей Узуев
Идеальная карьера. Настолько успешная, что ее с лихвой хватило бы не одному человеку, а целому совету директоров. Однако Джеффу этого мало — сейчас он работает над созданием совершенно новой компьютерной архитектуры— по образу и подобию человеческого мозга. Больше того. Поскольку под рукой не оказалось подходящей теории, достаточно полно описывающей принципы работы нашего серого вещества, Хокинc разработал такую теорию сам, написал о ней научно-популярную книгу «On Intelligence» и основал компанию Numenta, которая пытается воплотить идеи Джеффа в жизнь.Джефф Хокинc (Jeff Hawkins) — удивительно талантливый и удачливый человек. В 1996 году основанная им компания Palm выпустила карманник Palm Pilot, определивший развитие индустрии на несколько лет вперед, а в 1999 году уже другая компания Хокинса — Handspring — вышла на рынок с наладонником Visor, который составил нешуточную конкуренцию КПК от Palm. Сегодня Palm и Handspring выступают единым фронтом, завоевав рынок с превосходной линейкой коммуникаторов Treo, а Джефф снова работает в Palm техническим директором (CTO).
 Джефф Хокинс заинтересовался исследованием мозга в 1979 году, прочитав специальный выпуск журнала Scientific American, посвященный этой теме. Под впечатлением от прочитанного он попытался обнаружить хотя бы одну теорию, описывающую работу мозга в целом, но, к своему удивлению, сделать этого не смог, поскольку таких теорий не существовало вприроде. Все проведенные до тех пор исследования касались только определенной функции мозга или же его физиологии и строения.
Джефф Хокинс заинтересовался исследованием мозга в 1979 году, прочитав специальный выпуск журнала Scientific American, посвященный этой теме. Под впечатлением от прочитанного он попытался обнаружить хотя бы одну теорию, описывающую работу мозга в целом, но, к своему удивлению, сделать этого не смог, поскольку таких теорий не существовало вприроде. Все проведенные до тех пор исследования касались только определенной функции мозга или же его физиологии и строения.
Такое ненормальное положение вещей, учитывая очевидную важность изучения работы мозга, подвигло Хокинса на то, чтобы заняться этим самому. Поскольку к тому моменту он уже работал в компьютерной индустрии, интерес его носил не только научный, но и прикладной характер — Джефф хотел создавать «разумные» машины.
Однако попытки Хокинса заинтересовать исследованиями мозга своего тогдашнего работодателя (компанию Intel) или уйти в науку, поступив в МТИ, закончились ничем. Поэтому Джефф пошел «своим путем», совмещая работу в ИТ-компаниях с самообразованием, а позднее — с исследованиями волнующих его вопросов «на дому». Безуспешные попытки построить системы ИИ с помощью привычных подходов (экспертные системы, нейронные сети) только убедили его в том, что сперва нужно разобраться в механизмах работы мозга и только потом строить «разумные» машины по его подобию.
Работая вместе с другими исследователями и используя огромные массивы информации, накопленной о человеческом мозге, Хокинс пришел к выводу, что механизм работы мозга с информацией кардинально отличается от принципа работы современных компьютеров. Значительно упрощая, можно сказать, что мозг, а точнее неокортекс, который, как считает Хокинс, и является «интеллектуальной» частью мозга, — это единое запоминающее устройство, функционирование которого базируется на нескольких основных принципах:
< Неокортекс запоминает последовательности элементов, а не отдельно элементы окружающего мира. То есть, если вы слышите мелодию, вы запоминаете ее целиком, как последовательность нот. Алфавит «записан» в памяти в его нормальном последовательном порядке. Для того чтобы произнести алфавит в обратном порядке, человек мысленно возвращается обратно и проходит буквы последовательно, добираясь таким образом до нужной, а не автоматически «вытаскивает» ее из памяти;
< Неокортекс вспоминает последовательности автоассоциативно. Это свойство означает, что если мозг воспринимает часть последовательности, он автоматически вызывает из памяти ее целиком. Если вы видите часть лица знакомого человека, вы все равно его узнаёте. Если вы слышите несколько нот знакомой мелодии, вы можете угадать ее;
< Неокортекс запоминает последовательности в инвариантной форме. Это значит, что в качестве последовательности сохраняются не тонкие и точные детали, а важные соотношения между элементами. Таким образом, человек узнает мелодию, даже если она исполнена на разных инструментах или в разных тональностях. Человек узнает предметы независимо от того, под каким углом он на них смотрит;
< Неокортекс сохраняет последовательности иерархически. Это означает, что по мере того, как входящая информация обрабатывается и проходит «дальше» в мозг, память становится все менее детальной и все более абстрактной. Грубо говоря, когда человек смотрит на какой-то предмет или на другого человека, информация сначала распознается просто как часть поля зрения, затем как определенная фигура, затем как часть объекта, затем как целый объект и наконец как определенный образ, абстрактное понятие. Был проведен ряд экспериментов, которые позволили обнаружить отдельные нейроны, активизирующиеся, когда человек видит, скажем, Билла Клинтона или Хэлли Берри, причем независимо от их обличия.
Описав модель мозга как запоминающего устройства, Хокинс дополняет ее второй, ключевой частью своей теории — мозг человека настолько эффективен потому, что умеет предсказывать будущие события, основываясь на прошлом опыте, хранящемся в памяти (модель «память-предсказание»). То есть для того, чтобы произвести определенное действие, например поймать мяч, мозг не должен производить долгие вычисления — ему достаточно вспомнить, какие действия он предпринимал для этого раньше, и на этом основании предсказать полет мяча и скоординировать движения конечностей.
Теория Хокинса описана им в книге «On Intelligence» («Об интеллекте»), вышедшей в конце 2004 года. Помимо этого книга содержит рассуждения о последствиях и возможностях, которые возникают в случае создания разумных машин; взгляды автора на природу и отличительные особенности человеческого интеллекта, а также несколько предсказаний, касающихся открытий, которые подтвердили бы гипотезу Хокинса.
— Много? Ну, во-первых, не могу сказать, что это отняло у меня много времени, и потом, есть люди, которые считают, что я недостаточно глубоко рассмотрел этот вопрос. В любом случае, это не критика ради критики. Просто большинство людей не имеет представления о том, сколь малого, на самом деле, добились разработчики систем ИИ. Я описал, что сделано, а что нет. Немножко истории, немножко о современном состоянии дел. Я хотел показать, что нам, мягко говоря, есть над чем поработать.
То есть это введение в историю вопроса?
— В большей степени — да, это некий исторический экскурс. И многим читателям он пришелся по душе. Были даже такие, кто сказал: «Джефф, ты целиком и полностью прав. Мы действительно застряли, и нам нужны новые подходы».
А как к вашей книге отнеслись разработчики систем ИИ? Обсуждали ли они вашу книгу, и если да, то как они ее оценивают?
— Обсуждали, и довольно активно. Меня даже попросили выступить с речью на ежегодной конференции разработчиков систем ИИ [www.aaai.org/Conferences/IAAI/2005/iaai05.html]. Кроме того, после выхода книги я активно выступал в университетах — в основном перед теми, кто занимается исследованием работы головного мозга, но и перед разработчиками ИИ тоже.
Надо сказать, что многие, прочитав книгу, сказали: «Вот оно!» Собственно говоря, поэтому меня и пригласили на конференцию, чтобы я мог обсудить свои идеи с учеными, с теми, кто занимается этими вопросами профессионально, с восьми до пяти. И было больше позитива, чем негатива. Возможно, потому, что люди, которым не близок мой подход, решили не говорить мне об этом, не знаю.
Кстати, разработки в области квантовых компьютеров могут как-то повлиять на вашу работу?
— Даже не знаю, что ответить. Я просто не очень в этом разбираюсь. Мне, правда, кажется, что им еще далеко до практических применений. И я считаю, что квантовые компьютеры для наших приложений вовсе не обязательны. Математик Роджер Пенроуз написал в своей книге «Новый ум короля», что для объяснения работы мозга требуются какие-то квантовые процессы, но он попросту ошибался. Неокортексу это совершенно не нужно. У него есть статистические методы, есть байесовские методы, но никаких квантовых алгоритмов нет. В общем, думаю, это не имеет к нам особого отношения.
Иерархическая структура модели «память-предсказание» имеет много общего с парадигмой ООП, которая тоже базируется на эксплуатации иерархических структур. Не кажется ли вам, что предложенные вами подходы уже адаптированы компьютерщиками — пусть и неявно?
— Новые теории обычно стоят на плечах старых теорий. Другими словами, ничто не ново под луною. Конечно, иерархические структуры, математические описания неокортекса и даже идея предсказаний — все это не ново. Но верная теория отличается от неверной тем, что в первой те же самые — пусть уже знакомые — кусочки головоломки собраны в правильном порядке.
В основе ООП действительно лежат иерархические структуры, но поведение и взаимоотношения описанных объектов жестко задаются на этапе программирования. Мозг же устроен иначе. У нас есть иерархическая структура, состоящая из идентичных, по большому счету, объектов. Они выполняют одну и ту же функцию (в нашем случае — запоминание). Но их поведение определяется опытом, полученным системой — она ведь самообучающаяся.
Таким образом, сходство между иерархией ООП и нашей иерархической структурой скорее внешнее. При желании можно найти и другие аналогии. Например, мы активно используем математический аппарат байесовских сетей. Мы их тоже не сами придумали, но, как правило, байесовские сети лишены временной иерархии или вообще не учитывают концепцию времени. В общем, в нашей теории, наверное, нет неизвестных до нас элементов, но мы сложили их в правильном порядке и получили готовую технологию.
Вы же знаете, что я работал в Palm? После успеха PalmPilot многие говорили, что в нем нет по-настоящему новых технологических решений. И это правда. Но мы сложили кусочки верно.
Сейчас мы пытаемся то же самое проделать с новой архитектурой. Однако это невозможно без четкого понимания того, как работает мозг. И когда у нас в Numenta возникают проблемы с продвижением вперед, мы возвращаемся к биологии и смотрим, как нужно укладывать кусочки (а это не так уж просто).
Читая вашу книгу, я задумался о том, как работает мой собственный мозг, и понял, что когда речь заходит о взаимосвязи объектов друг с другом, я не столько делаю предсказания, сколько пользуюсь воспоминаниями, которые хранятся в моей памяти…
— Но это тоже предсказание! По большому счету, это вопрос семантики. Хотя, конечно, момент скользкий, даже для разработчиков ИИ. Вы смотрите на это со своей колокольни, но подумайте о том, как воспринимает информацию ваш мозг. Каждый внешний сигнал, каждый сигнал от органов чувств для него уникален. Возможно, вы воспринимаете этот сигнал как нечто уже знакомое, но для мозга каждый раз это совершенно новый опыт. Да, вы запоминаете взаимосвязи, но как выбрать верную взаимосвязь, которая вам нужна? Возьмем для примера письмо на бумаге. Вам этот процесс кажется монотонным, но для мозга это всякий раз новое переживание. Вы ведете руку, ожидая, что за пером останется след, и не воспринимаете это ожидание как предсказание, однако для мозга все обстоит иначе. Вы знаете, что так бывает всегда. Но мозг в этом отнюдь не уверен.
В седьмой главе вы говорите, что одно из главных отличий человека от других млекопитающих — наличие языка как средства передачи информации. Но как же быть тогда, скажем, с дельфинами (которых вы, кстати, тоже в книге упоминаете) — ведь у них есть своя довольно сложная система речевой коммуникации.
— Верно, есть. Но по сложности она и близко не стоит к человеческому языку. Конечно, у многих развитых видов млекопитающих есть речевые системы, но в определенном смысле они очень примитивны. Я упомянул в книге дельфинов, потому что считаю, что их мозг практически так же сложен, как и человеческий. Дельфины понимают свой мир так же хорошо, как мы, люди, свой. У них прекрасная память на «лица», они хорошо запоминают маршруты, хорошо обучаются и т. п. Но между мозгом человека и других млекопитающих есть существенная биологическая разница, которая оказывает заметное влияние на наше поведение. В человеческом неокортексе гораздо сильнее развиты области, связанные с моторной сенсорикой, — это физиологический факт. Поэтому тот же дельфин, прекрасно ориентирующийся в своем мире, не способен на такую вариативность поведения, как мы с вами. Кое-что дельфины, конечно, могут, но не очень много.
Например, они поют, но у дельфиньих песен больше общего с трелями певчих птиц, нежели с человеческой музыкой, потому что эти песни не генерируются каждый раз заново неокортексом, за них у дельфинов отвечают другие, более древние части мозга. Дельфины могут петь друг другу, но это не то же самое, что мы считаем речью.
Животные в отличие от человека рождаются с неким врожденным знанием «языка», но их «язык» очень ограничен. Зато мы умеем передавать друг другу полученные от мира знания с помощью языка. Вот мы с вами сейчас находимся в тысячах километрах друг от друга, говорим на разных языках, но я могу рассказать вам о своих идеях, и вы меня поймете.
Вы сделали в книге несколько предсказаний. С момента ее публикации прошел год. Что-то уже подтвердилось или, может быть, вы в чем-то ошиблись?
— Вы сами сказали, что прошел лишь год — совсем небольшой срок для исследований в этой области. На эксперименты здесь обычно требуется три-четыре года.
Знакомые ученые держат меня в курсе происходящего. В основном научные находки не вступают в противоречие с моей теорией, хотя я не сказал бы, что они как-то подтверждают мои предсказания или вообще являются экспериментальной проверкой моих предположений. На это просто нужно больше времени.
Вы не разочарованы отсутствием новостей?
— О нет, я же знал, во что ввязываюсь. Я неплохо понимаю, как устроена наука, я знаком со многими учеными и не могу сказать, что происходит что-то неожиданное. На проверку моих предположений ученым нужны годы, так что удивляться нечему — я с самого начала знал, что так будет. Академические исследования — особенно когда дело касается такой сложной области, как изучение человеческого мозга, — это, прежде всего, кропотливый и неторопливый труд. Так что я не разочарован. Наоборот — я приятно удивлен тем, как моя теория принята научным сообществом.
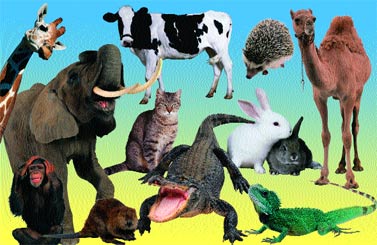
(Неуверенно.) — Думаю, да. Дело в том, что работать над его образованием мы начали немного раньше, поэтому с моей точки зрения он был образован в феврале.
Идеальная карьера. Настолько успешная, что ее с лихвой хватило бы не одному человеку, а целому совету директоров. Однако Джеффу этого мало — сейчас он работает над созданием совершенно новой компьютерной архитектуры— по образу и подобию человеческого мозга. Больше того. Поскольку под рукой не оказалось подходящей теории, достаточно полно описывающей принципы работы нашего серого вещества, Хокинc разработал такую теорию сам, написал о ней научно-популярную книгу «On Intelligence» и основал компанию Numenta, которая пытается воплотить идеи Джеффа в жизнь.Джефф Хокинc (Jeff Hawkins) — удивительно талантливый и удачливый человек. В 1996 году основанная им компания Palm выпустила карманник Palm Pilot, определивший развитие индустрии на несколько лет вперед, а в 1999 году уже другая компания Хокинса — Handspring — вышла на рынок с наладонником Visor, который составил нешуточную конкуренцию КПК от Palm. Сегодня Palm и Handspring выступают единым фронтом, завоевав рынок с превосходной линейкой коммуникаторов Treo, а Джефф снова работает в Palm техническим директором (CTO).

Такое ненормальное положение вещей, учитывая очевидную важность изучения работы мозга, подвигло Хокинса на то, чтобы заняться этим самому. Поскольку к тому моменту он уже работал в компьютерной индустрии, интерес его носил не только научный, но и прикладной характер — Джефф хотел создавать «разумные» машины.
Однако попытки Хокинса заинтересовать исследованиями мозга своего тогдашнего работодателя (компанию Intel) или уйти в науку, поступив в МТИ, закончились ничем. Поэтому Джефф пошел «своим путем», совмещая работу в ИТ-компаниях с самообразованием, а позднее — с исследованиями волнующих его вопросов «на дому». Безуспешные попытки построить системы ИИ с помощью привычных подходов (экспертные системы, нейронные сети) только убедили его в том, что сперва нужно разобраться в механизмах работы мозга и только потом строить «разумные» машины по его подобию.
Работая вместе с другими исследователями и используя огромные массивы информации, накопленной о человеческом мозге, Хокинс пришел к выводу, что механизм работы мозга с информацией кардинально отличается от принципа работы современных компьютеров. Значительно упрощая, можно сказать, что мозг, а точнее неокортекс, который, как считает Хокинс, и является «интеллектуальной» частью мозга, — это единое запоминающее устройство, функционирование которого базируется на нескольких основных принципах:
< Неокортекс запоминает последовательности элементов, а не отдельно элементы окружающего мира. То есть, если вы слышите мелодию, вы запоминаете ее целиком, как последовательность нот. Алфавит «записан» в памяти в его нормальном последовательном порядке. Для того чтобы произнести алфавит в обратном порядке, человек мысленно возвращается обратно и проходит буквы последовательно, добираясь таким образом до нужной, а не автоматически «вытаскивает» ее из памяти;
< Неокортекс вспоминает последовательности автоассоциативно. Это свойство означает, что если мозг воспринимает часть последовательности, он автоматически вызывает из памяти ее целиком. Если вы видите часть лица знакомого человека, вы все равно его узнаёте. Если вы слышите несколько нот знакомой мелодии, вы можете угадать ее;
< Неокортекс запоминает последовательности в инвариантной форме. Это значит, что в качестве последовательности сохраняются не тонкие и точные детали, а важные соотношения между элементами. Таким образом, человек узнает мелодию, даже если она исполнена на разных инструментах или в разных тональностях. Человек узнает предметы независимо от того, под каким углом он на них смотрит;
< Неокортекс сохраняет последовательности иерархически. Это означает, что по мере того, как входящая информация обрабатывается и проходит «дальше» в мозг, память становится все менее детальной и все более абстрактной. Грубо говоря, когда человек смотрит на какой-то предмет или на другого человека, информация сначала распознается просто как часть поля зрения, затем как определенная фигура, затем как часть объекта, затем как целый объект и наконец как определенный образ, абстрактное понятие. Был проведен ряд экспериментов, которые позволили обнаружить отдельные нейроны, активизирующиеся, когда человек видит, скажем, Билла Клинтона или Хэлли Берри, причем независимо от их обличия.
Описав модель мозга как запоминающего устройства, Хокинс дополняет ее второй, ключевой частью своей теории — мозг человека настолько эффективен потому, что умеет предсказывать будущие события, основываясь на прошлом опыте, хранящемся в памяти (модель «память-предсказание»). То есть для того, чтобы произвести определенное действие, например поймать мяч, мозг не должен производить долгие вычисления — ему достаточно вспомнить, какие действия он предпринимал для этого раньше, и на этом основании предсказать полет мяча и скоординировать движения конечностей.
Теория Хокинса описана им в книге «On Intelligence» («Об интеллекте»), вышедшей в конце 2004 года. Помимо этого книга содержит рассуждения о последствиях и возможностях, которые возникают в случае создания разумных машин; взгляды автора на природу и отличительные особенности человеческого интеллекта, а также несколько предсказаний, касающихся открытий, которые подтвердили бы гипотезу Хокинса.
О книге.
В своей книге вы довольно много внимания уделили критике других подходов к созданию искусственного интеллекта (ИИ). Почему?— Много? Ну, во-первых, не могу сказать, что это отняло у меня много времени, и потом, есть люди, которые считают, что я недостаточно глубоко рассмотрел этот вопрос. В любом случае, это не критика ради критики. Просто большинство людей не имеет представления о том, сколь малого, на самом деле, добились разработчики систем ИИ. Я описал, что сделано, а что нет. Немножко истории, немножко о современном состоянии дел. Я хотел показать, что нам, мягко говоря, есть над чем поработать.
То есть это введение в историю вопроса?
— В большей степени — да, это некий исторический экскурс. И многим читателям он пришелся по душе. Были даже такие, кто сказал: «Джефф, ты целиком и полностью прав. Мы действительно застряли, и нам нужны новые подходы».
А как к вашей книге отнеслись разработчики систем ИИ? Обсуждали ли они вашу книгу, и если да, то как они ее оценивают?
— Обсуждали, и довольно активно. Меня даже попросили выступить с речью на ежегодной конференции разработчиков систем ИИ [www.aaai.org/Conferences/IAAI/2005/iaai05.html]. Кроме того, после выхода книги я активно выступал в университетах — в основном перед теми, кто занимается исследованием работы головного мозга, но и перед разработчиками ИИ тоже.
Надо сказать, что многие, прочитав книгу, сказали: «Вот оно!» Собственно говоря, поэтому меня и пригласили на конференцию, чтобы я мог обсудить свои идеи с учеными, с теми, кто занимается этими вопросами профессионально, с восьми до пяти. И было больше позитива, чем негатива. Возможно, потому, что люди, которым не близок мой подход, решили не говорить мне об этом, не знаю.
Кстати, разработки в области квантовых компьютеров могут как-то повлиять на вашу работу?
— Даже не знаю, что ответить. Я просто не очень в этом разбираюсь. Мне, правда, кажется, что им еще далеко до практических применений. И я считаю, что квантовые компьютеры для наших приложений вовсе не обязательны. Математик Роджер Пенроуз написал в своей книге «Новый ум короля», что для объяснения работы мозга требуются какие-то квантовые процессы, но он попросту ошибался. Неокортексу это совершенно не нужно. У него есть статистические методы, есть байесовские методы, но никаких квантовых алгоритмов нет. В общем, думаю, это не имеет к нам особого отношения.
Иерархическая структура модели «память-предсказание» имеет много общего с парадигмой ООП, которая тоже базируется на эксплуатации иерархических структур. Не кажется ли вам, что предложенные вами подходы уже адаптированы компьютерщиками — пусть и неявно?
— Новые теории обычно стоят на плечах старых теорий. Другими словами, ничто не ново под луною. Конечно, иерархические структуры, математические описания неокортекса и даже идея предсказаний — все это не ново. Но верная теория отличается от неверной тем, что в первой те же самые — пусть уже знакомые — кусочки головоломки собраны в правильном порядке.
В основе ООП действительно лежат иерархические структуры, но поведение и взаимоотношения описанных объектов жестко задаются на этапе программирования. Мозг же устроен иначе. У нас есть иерархическая структура, состоящая из идентичных, по большому счету, объектов. Они выполняют одну и ту же функцию (в нашем случае — запоминание). Но их поведение определяется опытом, полученным системой — она ведь самообучающаяся.
Таким образом, сходство между иерархией ООП и нашей иерархической структурой скорее внешнее. При желании можно найти и другие аналогии. Например, мы активно используем математический аппарат байесовских сетей. Мы их тоже не сами придумали, но, как правило, байесовские сети лишены временной иерархии или вообще не учитывают концепцию времени. В общем, в нашей теории, наверное, нет неизвестных до нас элементов, но мы сложили их в правильном порядке и получили готовую технологию.
Вы же знаете, что я работал в Palm? После успеха PalmPilot многие говорили, что в нем нет по-настоящему новых технологических решений. И это правда. Но мы сложили кусочки верно.
Сейчас мы пытаемся то же самое проделать с новой архитектурой. Однако это невозможно без четкого понимания того, как работает мозг. И когда у нас в Numenta возникают проблемы с продвижением вперед, мы возвращаемся к биологии и смотрим, как нужно укладывать кусочки (а это не так уж просто).
Читая вашу книгу, я задумался о том, как работает мой собственный мозг, и понял, что когда речь заходит о взаимосвязи объектов друг с другом, я не столько делаю предсказания, сколько пользуюсь воспоминаниями, которые хранятся в моей памяти…
— Но это тоже предсказание! По большому счету, это вопрос семантики. Хотя, конечно, момент скользкий, даже для разработчиков ИИ. Вы смотрите на это со своей колокольни, но подумайте о том, как воспринимает информацию ваш мозг. Каждый внешний сигнал, каждый сигнал от органов чувств для него уникален. Возможно, вы воспринимаете этот сигнал как нечто уже знакомое, но для мозга каждый раз это совершенно новый опыт. Да, вы запоминаете взаимосвязи, но как выбрать верную взаимосвязь, которая вам нужна? Возьмем для примера письмо на бумаге. Вам этот процесс кажется монотонным, но для мозга это всякий раз новое переживание. Вы ведете руку, ожидая, что за пером останется след, и не воспринимаете это ожидание как предсказание, однако для мозга все обстоит иначе. Вы знаете, что так бывает всегда. Но мозг в этом отнюдь не уверен.
В седьмой главе вы говорите, что одно из главных отличий человека от других млекопитающих — наличие языка как средства передачи информации. Но как же быть тогда, скажем, с дельфинами (которых вы, кстати, тоже в книге упоминаете) — ведь у них есть своя довольно сложная система речевой коммуникации.
— Верно, есть. Но по сложности она и близко не стоит к человеческому языку. Конечно, у многих развитых видов млекопитающих есть речевые системы, но в определенном смысле они очень примитивны. Я упомянул в книге дельфинов, потому что считаю, что их мозг практически так же сложен, как и человеческий. Дельфины понимают свой мир так же хорошо, как мы, люди, свой. У них прекрасная память на «лица», они хорошо запоминают маршруты, хорошо обучаются и т. п. Но между мозгом человека и других млекопитающих есть существенная биологическая разница, которая оказывает заметное влияние на наше поведение. В человеческом неокортексе гораздо сильнее развиты области, связанные с моторной сенсорикой, — это физиологический факт. Поэтому тот же дельфин, прекрасно ориентирующийся в своем мире, не способен на такую вариативность поведения, как мы с вами. Кое-что дельфины, конечно, могут, но не очень много.
Например, они поют, но у дельфиньих песен больше общего с трелями певчих птиц, нежели с человеческой музыкой, потому что эти песни не генерируются каждый раз заново неокортексом, за них у дельфинов отвечают другие, более древние части мозга. Дельфины могут петь друг другу, но это не то же самое, что мы считаем речью.
Животные в отличие от человека рождаются с неким врожденным знанием «языка», но их «язык» очень ограничен. Зато мы умеем передавать друг другу полученные от мира знания с помощью языка. Вот мы с вами сейчас находимся в тысячах километрах друг от друга, говорим на разных языках, но я могу рассказать вам о своих идеях, и вы меня поймете.
Вы сделали в книге несколько предсказаний. С момента ее публикации прошел год. Что-то уже подтвердилось или, может быть, вы в чем-то ошиблись?
— Вы сами сказали, что прошел лишь год — совсем небольшой срок для исследований в этой области. На эксперименты здесь обычно требуется три-четыре года.
Знакомые ученые держат меня в курсе происходящего. В основном научные находки не вступают в противоречие с моей теорией, хотя я не сказал бы, что они как-то подтверждают мои предсказания или вообще являются экспериментальной проверкой моих предположений. На это просто нужно больше времени.
Вы не разочарованы отсутствием новостей?
— О нет, я же знал, во что ввязываюсь. Я неплохо понимаю, как устроена наука, я знаком со многими учеными и не могу сказать, что происходит что-то неожиданное. На проверку моих предположений ученым нужны годы, так что удивляться нечему — я с самого начала знал, что так будет. Академические исследования — особенно когда дело касается такой сложной области, как изучение человеческого мозга, — это, прежде всего, кропотливый и неторопливый труд. Так что я не разочарован. Наоборот — я приятно удивлен тем, как моя теория принята научным сообществом.
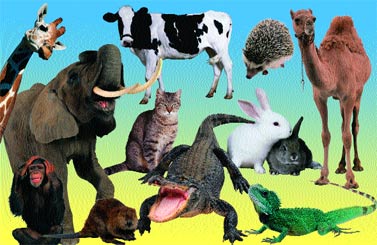
Об институте
Давайте поговорим о другом вашем детище, Редвудском нейроинституте (RNI). Он был образован в августе 2002 года, верно?(Неуверенно.) — Думаю, да. Дело в том, что работать над его образованием мы начали немного раньше, поэтому с моей точки зрения он был образован в феврале.
