Сергей Кузнецов
Девяностые: сказка
1996 год, зарождение русского Интернета, начало новой эпохи. Президентские выборы, демократы против коммунистов. Из 1984 года возвращается призрак: двенадцать лет он ждал, словно спящая царевна. В хрустальном гробу стыда и ненависти дожидался пробуждения, чтобы отомстить.
На глазах бывшего матшкольного мальчика, застрявшего в 80-х, сгущается новый мир 90-х - виртуальность, царство мертвых и живых. Он расследует убийство новой подруги и расшифровывает историю далекой гибели одноклассника. Конечно, он находит убийцу - но лучше бы не находил.
"Гроб хрустальный: версия 2.0" - переработанный второй том детективной трилогии "Девяностые: сказка". Как всегда, Сергей Кузнецов рассказывает о малоизвестных страницах недавней российской истории, которые знает лучше других. На этот раз роман об убийстве и Интернете оборачивается трагическим рассказом о любви и мести.
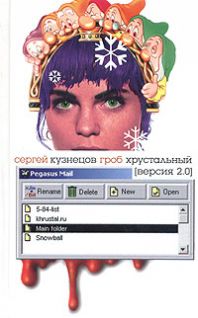
На глазах бывшего матшкольного мальчика, застрявшего в 80-х, сгущается новый мир 90-х - виртуальность, царство мертвых и живых. Он расследует убийство новой подруги и расшифровывает историю далекой гибели одноклассника. Конечно, он находит убийцу - но лучше бы не находил.
"Гроб хрустальный: версия 2.0" - переработанный второй том детективной трилогии "Девяностые: сказка". Как всегда, Сергей Кузнецов рассказывает о малоизвестных страницах недавней российской истории, которые знает лучше других. На этот раз роман об убийстве и Интернете оборачивается трагическим рассказом о любви и мести.
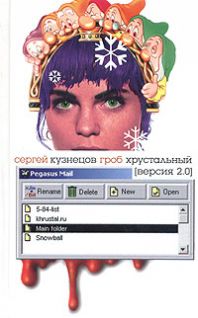
ГРОБ ХРУСТАЛЬНЫЙ: ВЕРСИЯ 2.0
Посвящается Саше, Диме, Сереже и всем остальным моим одноклассникам
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
Сказка о мертвой царевне
Александр Пушкин.
Наш мир - везде и нигде,
но не там, где наши тела.
Декларация независимости киберпространства
Джон Перри Барлоу.
"Гроб хрустальный" - второй том детективной трилогии о девяностых, как раз между "Семью лепестками" и "Сереньким волчком". Появление "исправленного и дополненного" издания первой книги ("Семь лепестков: второй приход") потребовало изменений и в этом романе. Впрочем, в отличие от "Второго прихода", "Версия 2.0" не столь радикально отличается от первоначального варианта. Предоставлю читателю, знакомому с трансмутациями "Семи лепестков" до самого конца гадать, поменял ли я на этот раз убийцу.
Описанные в романе события вымышлены, хоть я и пользовался историями, которые в разное время происходили со мной, а также с людьми знакомыми и незнакомыми. Тем не менее, сходство или совпадение имен, фамилий и фактов биографий случайно и не должно считаться указанием на того или иного реального человека. В особенности это относится к моим одноклассникам, уверявшим меня после выхода первого издания, что "в нашей школе все было совсем не так". Спасибо, я знаю. Слава богу, это не мемуары.
Я также несколько отошел от реальной хронологии и датировал летом 1996 года ряд событий, случившихся немного раньше или позже. Надеюсь, заинтересованные лица не будут в обиде за вольности в обращении с реальными фактами. Пусть все эти люди не забывают, что я их очень люблю.
Для удобства читателя я привожу всю переписку и онлайновые разговоры в нормальном виде, а не латиницей, kak ono chasto byvalo v 1996 godu.
В двадцать второй главе цитируется песня "Память котят и утят" группы "Соломенные еноты".
Я считаю своим радостным долгом поблагодарить мою жену, Екатерину Кадиеву - первого читателя и редактора. Без нее эта книга никогда не была бы написана. Также я рад выразить свою благодарность Настику Грызуновой за двойную блестящую редактуру, которая сделала этот текст намного лучше. Я также благодарен Ирине Бирюковой, Сесилии Вайсман, Мише Вербицкому, Александру Гаврилову, Денису Голосову, Линор Горалик, Кириллу Готовцеву, Кате Гофман, Владимиру (Диме) Ермилову, Елене Джагиновой, Дмитрию Коваленину, Юрию Кузнецову, Максиму Кузнецову, Гэри Марксу, Свете Мартынчик, Георгию Мхеидзе, Антону Носику, Юрию Сюганову, Борису Усову (Белокурову), Максиму Чайко, Ольге Чумичевой, Леониду Юзефовичу, Михаилу Якубову и всем тем, кто поддерживал меня в девяностые и другие годы.
Описанные в романе события вымышлены, хоть я и пользовался историями, которые в разное время происходили со мной, а также с людьми знакомыми и незнакомыми. Тем не менее, сходство или совпадение имен, фамилий и фактов биографий случайно и не должно считаться указанием на того или иного реального человека. В особенности это относится к моим одноклассникам, уверявшим меня после выхода первого издания, что "в нашей школе все было совсем не так". Спасибо, я знаю. Слава богу, это не мемуары.
Я также несколько отошел от реальной хронологии и датировал летом 1996 года ряд событий, случившихся немного раньше или позже. Надеюсь, заинтересованные лица не будут в обиде за вольности в обращении с реальными фактами. Пусть все эти люди не забывают, что я их очень люблю.
Для удобства читателя я привожу всю переписку и онлайновые разговоры в нормальном виде, а не латиницей, kak ono chasto byvalo v 1996 godu.
В двадцать второй главе цитируется песня "Память котят и утят" группы "Соломенные еноты".
Я считаю своим радостным долгом поблагодарить мою жену, Екатерину Кадиеву - первого читателя и редактора. Без нее эта книга никогда не была бы написана. Также я рад выразить свою благодарность Настику Грызуновой за двойную блестящую редактуру, которая сделала этот текст намного лучше. Я также благодарен Ирине Бирюковой, Сесилии Вайсман, Мише Вербицкому, Александру Гаврилову, Денису Голосову, Линор Горалик, Кириллу Готовцеву, Кате Гофман, Владимиру (Диме) Ермилову, Елене Джагиновой, Дмитрию Коваленину, Юрию Кузнецову, Максиму Кузнецову, Гэри Марксу, Свете Мартынчик, Георгию Мхеидзе, Антону Носику, Юрию Сюганову, Борису Усову (Белокурову), Максиму Чайко, Ольге Чумичевой, Леониду Юзефовичу, Михаилу Якубову и всем тем, кто поддерживал меня в девяностые и другие годы.
1
На стене между третьим и четвертым этажом намалевано крупными печатными буквами: БУДУ ПАГИБАТЬ МАЛОДЫМ - и жирный восклицательный знак.
"Хоть бы писать без ошибок научились", - думала Ольга Васильевна, тяжело поднимаясь по лестнице. Лифт не работал - впрочем, первый раз за последние месяцы. Вот у Маши в доме каждую неделю поломка, а Маша ведь на три года старше, этой зимой юбилей отмечали, все восемьдесят. Кто бы мог подумать, что доживут до таких лет, когда познакомились на Московском фронте, молодые медсестры, двадцать с небольшим. Кто бы мог подумать - а вот, получилось, выжили, дожили до победы, дотянули до старости, хоть золотую свадьбу отмечай, больше полувека. Пятьдесят пять лет прошло с осени сорок первого, с молодости, с первой встречи.
Погибать молодым - что за дурацкая идея! Молодой хорошо жить, а умирать лучше старой, все видела, ничего нового не ждешь. То есть ничего хорошего. Новое - оно всегда случается. Взять хотя бы перестройку с гласностью. Кто б мог подумать еще лет пятнадцать назад! А ведь когда-то мечтала, что в старости не будет ни бедных, ни богатых, сплошной коммунизм - а получилось, что ни коммунизма, ни коммунистов, ни пенсии, зато бедных - сколько угодно, да и богатые встречаются.
Вот Илья, например. Три года назад всем жильцам коммуналки купил по двушке где-то в Митино, а сам въехал в 24-ю, прямо над Ольгой Васильевной. Что у него там творится - уму непостижимо! Люди шастают, музыка играет, дверь не заперта. Ольга Васильевна сама убедилась как-то раз: сил не было шум терпеть, поднялась, хотела позвонить, а звонка-то и нет, одни провода торчат. Постучала, но никто не услышал - не удивительно, при такой-то музыке. Ручку дернула, а дверь и открылась - прям как в сказке. Ольге Васильевне даже любопытно стало, что внутри - как все обставлено. А то, говорят, у этих новых русских золотые даже унитазы. Врут, наверное.
Действительно: ничего золотого Ольга Васильевна не увидела. Обычная прихожая, на вешалке - куртки и пальто. Обои те же, что были, когда она заходила к Марье Николаевне за солью, а пол, пожалуй, грязнее, чем раньше.
В прихожей три двери. Две закрыты, а из третьей бу?хала музыка и доносились голоса. Ольга Васильевна замешкалась, не зная, как быть, - идти дальше не хотелось. Мало ли что там у них, дело молодое, а она уж, слава богу, навидалась по телевизору, как они развлекаются. Водка, наркотики и этот самый, который теперь вместо любви. И в комнату не войдешь, и в передней стоять глупо.
К счастью, дверь открылась, и на Ольгу Васильевну глянул из комнаты светловолосый парень. Вынул изо рта беломорину, сунул в чью-то протянутую руку и, широко улыбнувшись, спросил:
- Вы к кому, бабушка?
Ольге Васильевне он понравился - говорил уважительно, папиросу убрал. Курил опять же не какое-нибудь "Мальборо", а свой, советский "Беломор", как и сама Ольга Васильевна, что бы ей врачи ни говорили. Сказала: Я соседка ваша, из 20 квартиры. Ночь уже, а вы шумите.
- А, - протянул парень и крикнул, обернувшись:
- Шаневич! Тут соседка пришла, иди разбирайся!
Шаневич - огромный мужчина с рыжей бородой, из-под расстегнутой на груди рубашки выбиваются волосы. Он-то и есть хозяин квартиры и, конечно, Ольга Васильевна не раз встречалась с ним в лифте. В жизни бы не подумала, что Шаневич - тот самый новый русский. Больно уж простецки всегда выглядит - обычный еврейский мальчик, на Розиного внука похож, разве что покрупнее будет. Впрочем, можно было догадаться: рожа разбойничья, взгляд пытливый, походка быстрая, с первого взгляда видно - шустрый. Чего-чего, а этого евреям не занимать, всегда вперед лезут. Взять хотя бы Яшку Шварцмана - тоже рыжий был, упокой Господь его душу.
Илья музыку велел выключить, перед Ольгой Васильевной извинился, пригласил заходите, если что, и даже до площадки проводил. С тех пор так и повелось: иногда сам звонил, предупреждал - мол, завтра вечером будет шумно, день рождения или еще какой праздник. Но после одиннадцати звук приглушали, вели себя тише. Все равно не уснуть, но ведь важно внимание. Ольга Васильевна всегда так считала.
Вот и сегодня - Илья сам зашел, еще утром, извинился, предупредил: вечером опять гости, у девушки одной день рождения. Ольга Васильевна удивлялась сначала, почему у них столько дней рождения, но Шаневич объяснил, что квартиру купил не для себя, а для бизнеса, у него там человек пятнадцать работают и живут, прямо как в коммуналке.
- В тесноте, - сказал он, - да не в обиде. И на работу, - пошутил, - ходить недалеко.
Ольга Васильевна еще спросила, что за бизнес такой, и Илья рассказал, но она поняла только, что про компьютеры, но не про торговлю, а про какую-то печать, вроде типографии.
Ну, типография так типография, ей-то что? Но сегодня молодежь припозднилась, время уж к двенадцати, а музыка все бу?хает, и ноги по потолку стучат. Выключила телевизор, который весь вечер призывал голосовать за Ельцина (не пойдет она голосовать за Ельцина, и за Зюганова не пойдет), ткнула окурок в пепельницу, глянула на себя в зеркало и пошла в прихожую. Как в воду глядела - не раздевалась, спать не ложилась, знала: допоздна гулять будут. Отперла дверь и услышала чьи-то быстрые шаги на лестнице: цок-цок-цок, кто-то наверх побежал. Видать, парочку спугнула. В старых домах хорошо целоваться на лестнице - места много, подоконники широкие. Еще до войны, когда только школу окончила, провожал ее домой Вадик Орлов, так, бывало, полчаса пройдет, пока до квартиры доберешься. А теперь даже где могила - неизвестно. Сгинул под Сталинградом в 43-м…
Она медленно начала подниматься и вдруг замерла. На лестничной площадке лежала белокурая девушка - лицом вниз, волосы намокли от крови, одна нога вытянута, другая согнута в колене, юбка, и без того короткая, задралась, видна резинка от чулка. Поднимаясь по лестнице мелкими шажками, Ольга Васильевна еще успела вспомнить, какие чулки - фильдеперсовые, на подвязках - носила когда-то сама. Перевела дыхание над телом, потом нагнулась, перевернула. Опыта не занимать - скольких в свое время вытянула. Чай, не все позабыла за полвека.
Что позабыла - то позабыла, но помнила достаточно, чтобы увидеть: девушка мертва. Горло перерезано, кровь хлещет. Вот так же умер Яшка Шварцман, задело осколком в сорок втором. Как она плакала тогда, как убивалась!
Кряхтя, Ольга Васильевна выпрямилась и начала спускаться. Немало убитых повидала в жизни, а вот поди ж ты, не думала, что еще доведется. Чуть в стороне валялся нож, рукоятка обмотана изолентой. На стене - какие-то странные знаки, словно убийца руки вытирал.
Надо бы позвонить в милицию, но Ольга Васильевна милицию не любила. Ни ту, старую, советскую, ни эту, демократическую. Всегда им начхать на людей, те за план и отчетность волновались, эти только о своем кармане думают. Вернулась в квартиру, пошла в ванную, вымыла руки, повздыхала, посмотрела в зеркало. Не оставлять же девочку так лежать на лестнице. Сняла телефонную трубку, сказала дежурному адрес: Хрустальный проезд, дом 5 - и удовлетворенно заметила, что рука, набиравшая "02", дрожит не больше обычного.
"Хоть бы писать без ошибок научились", - думала Ольга Васильевна, тяжело поднимаясь по лестнице. Лифт не работал - впрочем, первый раз за последние месяцы. Вот у Маши в доме каждую неделю поломка, а Маша ведь на три года старше, этой зимой юбилей отмечали, все восемьдесят. Кто бы мог подумать, что доживут до таких лет, когда познакомились на Московском фронте, молодые медсестры, двадцать с небольшим. Кто бы мог подумать - а вот, получилось, выжили, дожили до победы, дотянули до старости, хоть золотую свадьбу отмечай, больше полувека. Пятьдесят пять лет прошло с осени сорок первого, с молодости, с первой встречи.
Погибать молодым - что за дурацкая идея! Молодой хорошо жить, а умирать лучше старой, все видела, ничего нового не ждешь. То есть ничего хорошего. Новое - оно всегда случается. Взять хотя бы перестройку с гласностью. Кто б мог подумать еще лет пятнадцать назад! А ведь когда-то мечтала, что в старости не будет ни бедных, ни богатых, сплошной коммунизм - а получилось, что ни коммунизма, ни коммунистов, ни пенсии, зато бедных - сколько угодно, да и богатые встречаются.
Вот Илья, например. Три года назад всем жильцам коммуналки купил по двушке где-то в Митино, а сам въехал в 24-ю, прямо над Ольгой Васильевной. Что у него там творится - уму непостижимо! Люди шастают, музыка играет, дверь не заперта. Ольга Васильевна сама убедилась как-то раз: сил не было шум терпеть, поднялась, хотела позвонить, а звонка-то и нет, одни провода торчат. Постучала, но никто не услышал - не удивительно, при такой-то музыке. Ручку дернула, а дверь и открылась - прям как в сказке. Ольге Васильевне даже любопытно стало, что внутри - как все обставлено. А то, говорят, у этих новых русских золотые даже унитазы. Врут, наверное.
Действительно: ничего золотого Ольга Васильевна не увидела. Обычная прихожая, на вешалке - куртки и пальто. Обои те же, что были, когда она заходила к Марье Николаевне за солью, а пол, пожалуй, грязнее, чем раньше.
В прихожей три двери. Две закрыты, а из третьей бу?хала музыка и доносились голоса. Ольга Васильевна замешкалась, не зная, как быть, - идти дальше не хотелось. Мало ли что там у них, дело молодое, а она уж, слава богу, навидалась по телевизору, как они развлекаются. Водка, наркотики и этот самый, который теперь вместо любви. И в комнату не войдешь, и в передней стоять глупо.
К счастью, дверь открылась, и на Ольгу Васильевну глянул из комнаты светловолосый парень. Вынул изо рта беломорину, сунул в чью-то протянутую руку и, широко улыбнувшись, спросил:
- Вы к кому, бабушка?
Ольге Васильевне он понравился - говорил уважительно, папиросу убрал. Курил опять же не какое-нибудь "Мальборо", а свой, советский "Беломор", как и сама Ольга Васильевна, что бы ей врачи ни говорили. Сказала: Я соседка ваша, из 20 квартиры. Ночь уже, а вы шумите.
- А, - протянул парень и крикнул, обернувшись:
- Шаневич! Тут соседка пришла, иди разбирайся!
Шаневич - огромный мужчина с рыжей бородой, из-под расстегнутой на груди рубашки выбиваются волосы. Он-то и есть хозяин квартиры и, конечно, Ольга Васильевна не раз встречалась с ним в лифте. В жизни бы не подумала, что Шаневич - тот самый новый русский. Больно уж простецки всегда выглядит - обычный еврейский мальчик, на Розиного внука похож, разве что покрупнее будет. Впрочем, можно было догадаться: рожа разбойничья, взгляд пытливый, походка быстрая, с первого взгляда видно - шустрый. Чего-чего, а этого евреям не занимать, всегда вперед лезут. Взять хотя бы Яшку Шварцмана - тоже рыжий был, упокой Господь его душу.
Илья музыку велел выключить, перед Ольгой Васильевной извинился, пригласил заходите, если что, и даже до площадки проводил. С тех пор так и повелось: иногда сам звонил, предупреждал - мол, завтра вечером будет шумно, день рождения или еще какой праздник. Но после одиннадцати звук приглушали, вели себя тише. Все равно не уснуть, но ведь важно внимание. Ольга Васильевна всегда так считала.
Вот и сегодня - Илья сам зашел, еще утром, извинился, предупредил: вечером опять гости, у девушки одной день рождения. Ольга Васильевна удивлялась сначала, почему у них столько дней рождения, но Шаневич объяснил, что квартиру купил не для себя, а для бизнеса, у него там человек пятнадцать работают и живут, прямо как в коммуналке.
- В тесноте, - сказал он, - да не в обиде. И на работу, - пошутил, - ходить недалеко.
Ольга Васильевна еще спросила, что за бизнес такой, и Илья рассказал, но она поняла только, что про компьютеры, но не про торговлю, а про какую-то печать, вроде типографии.
Ну, типография так типография, ей-то что? Но сегодня молодежь припозднилась, время уж к двенадцати, а музыка все бу?хает, и ноги по потолку стучат. Выключила телевизор, который весь вечер призывал голосовать за Ельцина (не пойдет она голосовать за Ельцина, и за Зюганова не пойдет), ткнула окурок в пепельницу, глянула на себя в зеркало и пошла в прихожую. Как в воду глядела - не раздевалась, спать не ложилась, знала: допоздна гулять будут. Отперла дверь и услышала чьи-то быстрые шаги на лестнице: цок-цок-цок, кто-то наверх побежал. Видать, парочку спугнула. В старых домах хорошо целоваться на лестнице - места много, подоконники широкие. Еще до войны, когда только школу окончила, провожал ее домой Вадик Орлов, так, бывало, полчаса пройдет, пока до квартиры доберешься. А теперь даже где могила - неизвестно. Сгинул под Сталинградом в 43-м…
Она медленно начала подниматься и вдруг замерла. На лестничной площадке лежала белокурая девушка - лицом вниз, волосы намокли от крови, одна нога вытянута, другая согнута в колене, юбка, и без того короткая, задралась, видна резинка от чулка. Поднимаясь по лестнице мелкими шажками, Ольга Васильевна еще успела вспомнить, какие чулки - фильдеперсовые, на подвязках - носила когда-то сама. Перевела дыхание над телом, потом нагнулась, перевернула. Опыта не занимать - скольких в свое время вытянула. Чай, не все позабыла за полвека.
Что позабыла - то позабыла, но помнила достаточно, чтобы увидеть: девушка мертва. Горло перерезано, кровь хлещет. Вот так же умер Яшка Шварцман, задело осколком в сорок втором. Как она плакала тогда, как убивалась!
Кряхтя, Ольга Васильевна выпрямилась и начала спускаться. Немало убитых повидала в жизни, а вот поди ж ты, не думала, что еще доведется. Чуть в стороне валялся нож, рукоятка обмотана изолентой. На стене - какие-то странные знаки, словно убийца руки вытирал.
Надо бы позвонить в милицию, но Ольга Васильевна милицию не любила. Ни ту, старую, советскую, ни эту, демократическую. Всегда им начхать на людей, те за план и отчетность волновались, эти только о своем кармане думают. Вернулась в квартиру, пошла в ванную, вымыла руки, повздыхала, посмотрела в зеркало. Не оставлять же девочку так лежать на лестнице. Сняла телефонную трубку, сказала дежурному адрес: Хрустальный проезд, дом 5 - и удовлетворенно заметила, что рука, набиравшая "02", дрожит не больше обычного.
2
Хрустальный пр., д. 5, кв. 24,читает Глеб. Клетчатый листок, вырванный из блокнота, клетки чуть крупнее, чем в старой школьной тетради. Больше никогда не решать задач по планиметрии; и по стереометрии не решать. В клетках теперь нет смысла: не нарисуешь чертеж, не проведешь окружность по двенадцати точкам. Радиус - пять клеток: крест и восемь треугольников с катетами в четыре и три клетки. Шестнадцать плюс девять равно двадцать пять: на счастье матшкольных мальчиков, вечно забывавших дома циркуль, теорема Ферма верна только для n»2. Отсюда - навык: строить окружность без циркуля, навык, ненужный в повседневной жизни, как и большинство знаний, полученных в школе.
Хрустальный пр., д. 5.Домофон не работает, дверь открывается сама. Скрип ржавых петель: год назад Глеб не услышал бы этого звука - всё доносилось точно сквозь вату, увязало в плотном воздухе, мутном, как вода у общественного пляжа. Мир казался стертым, будто узор на обоях в однушке на "Соколе", доставшейся Глебу после размена их с Таней квартиры. Таня как всегда устроила все сама: рассталась, развелась, разменялась, разъехалась. Выдала две тысячи баксов наличными, перевезла на Сокол вещи и уехала во Францию - теперь уже навсегда. Прошлой весной Глеб вошел в свой новый дом - и увидел все те же книги на полках, те же картинки, пришпиленные булавками к стенам, под стеклом на столе портрет Кортасара, вырезанный еще в десятом классе из "Литературки". Офигенно! сказал тогда Чак, разглядывая богатую коллекцию картинок и бумажек с выписками, разложенную под плескигласом, будто на витрине. Поперек стола на длинной бумажной полосе была зачем-то выписана цитата из Бодлера: "Сатана, помоги мне в безмерной беде!", а под ней, на карточках поменьше, расположились цитаты из Акутагавы, Сартра и Мандельштама. Женившись, Глеб спрятал все бумажки в верхний ящик - и не сомневался, что Таня аккуратно перенесла их на новое место. Прошлое спряталось, аккуратно прихваченное скрепкой, словно майки и джинсы, заботливо уложенные Таней в новый шкаф. Пара зимних ботинок у двери нежно прижались друг к другу. Глеб посмотрел на них, лег на диван и не вставал целый год.
Месяц назад он взглянул в окно и удивился солнцу. Оказалось, в мире есть и другие цвета, кроме привычных оттенков серого и коричневого. Может, просто кончились Танины две тысячи, а может, Глеб наконец поверил: он действительно остался один.
Хрустальный пр., д. 5, кв. 24: не дожидаясь лифта, Глеб начинает подниматься по лестнице. Чистые стены, пока что - без надписи "Буду пагибать малодым!", квартира Ольги Васильевны, площадка перед пятым этажом, где через пару недель будет лежать труп белокурой девушки… Об этом Глеб еще не знает. Тяжело дыша, он поднимается на пятый этаж. Надо было на лифте ехать, думает он. Впрочем, вот она, дверь - белой краской по старому дерматину цифры "24". Андрей так ему и сказал: номер запомнить легко - четыре факториал.
N факториал - это произведение всех чисел от единицы до n. Два факториал - два, три факториал - шесть, четыре факториал - двадцать четыре. Еще один фрагмент ненужных школьных знаний.
Андрей так и сказал: номер запомнить легко - четыре факториал, и Глеб даже не удивился: он встретил Андрея на дне рождения Емели, Миши Емельянова. Глеб и Емеля когда-то вместе заканчивали пятую матшколу. В Москве было три пятых школы: обыкновенная и две "спец" - языковая и математическая. Были и другие матшколы, но пятая - самая заслуженная, выдержала страшный разгром в 1972 году и воспряла, словно Феникс из пепла.
Они считали себя солью земли, городской элитой, настоящими интеллигентами, будущими учеными, потенциальными героями "Полдня XXII век". Глеб, Феликс, Витя, Емеля… страшные события десятого класса разбили их дружбу, разложили на множители общий знаменатель их класса.
Сразу после поступления в институт Глеб поехал в Крым и там познакомился с Таней. До сих пор он помнил ее выцветшие на крымском солнце волосы - пожалуй, единственное, что удержала память. Так началась другая жизнь, где не было места ни старым матшкольным друзьям, ни факториалу четверки. А ведь когда-то Глеб любил математику едва ли не больше всего на свете. Помнится, еще в третьем классе прочел: в древнем Вавилоне существовала двенадцатиричная система счисления. Двенадцать - красивое число, куда лучше десяти, нашего основания системы счисления. Вроде бы потому, что древние люди считали на пальцах. Идея основывать систему счисления на количестве пальцев в третьем классе казалась Глебу изменой чистоте математической абстракции, чтобы не сказать просто - глупостью. Последние десять лет, впрочем, ему казалось глупостью думать обо всем этом всерьез.
Кстати, дважды двенадцать - двадцать четыре, кв. 24, у двери нет звонка, толкни - и входи.
Теорию сингулярности не проходят в матшколах, но ты все равно знаешь, что есть такая точка, в которой незначительное возмущение вызывает фатальное изменение в поведении системы - то, что на научном языке называется катастрофой. Толкни дверь - и входи, прямо в прихожей увидишь невысокую шатенку в яркой полупрозрачной юбке и черной маечке. Полоска голого живота, кажется, блестит в пупке сережка - а, может, только почудилось: девушка ни секунды не стоит на месте, вот уже поворачивается к собеседнику, невысокому парню в мятом темном костюме, в шапочке, прикрывающей затылок. Глеб смутно помнит: это какой-то ритуальный еврейский головной убор - талес? Цимес?
- Привет, - говорит парень Глебу и протягивает руку: - Арсен.
- Снежана, - говорит девушка, и Глеб понимает: даже его собственное имя прозвучит теперь заурядно, но все равно называется, пожимает руку, спрашивает:
- А где мне Андрея найти?
- Во второй боковой, - говорит Арсен, - как всегда.
Снежана смеется, толкает Арсена в грудь кулачком: Он тут раньше не был, как же он найдет? - а тот, уже покидая квартиру, отвечает: Твоя очередь быть Ариадной, мать.
Пойдем, говорит Снежана. Чем-то напоминает Таниных подруг, девочек из МАрхИ, совсем не похожих на Глебовых одноклассниц. Они по очереди позировали друг другу обнаженными, а летом на пляже мерялись - у кого у?же талия и больше грудь. Глядя, как Снежана покачивает худыми бедрами, Глеб представляет ее голой, задрапированной в какую-то простыню, спадающую складками вдоль длинных ног, видит стакан портвейна на столе, чувствует запах краски - и понимает, что скучает по этим девушкам, исчезнувшим из его жизни вместе с Таней.
Они входят в большую комнату, на столе - тарелки с остатками еды, разбросанные компакт-диски, стопка одинаковых книг. Глеб читает название: "Семиотический подход к изучению наследия московско-тартуской школы", пожимает плечами: лучше б какая-нибудь математика, там хоть слова знакомые. Из колонок доносится песня на несуществующем языке - гзи-гзи-гзэо, - на стене висит плакат международной конференции по объектно-ориентированному программированию: вот где наверняка найдутся старые знакомые.
Квартира 24,четыре факториал. Ненужные знания, несуществующий язык. С этим миром Глеб простился много лет назад и не предполагал возвращаться. За Снежаной он выходит в коридор. Высокий улыбающийся блондин сосредоточенно курит у окна, стряхивая пепел в консервную банку. На нем клешеные джинсы и рубашка с большим воротником, мода дискотек седьмого, наверное, класса. Так одевался Феликс Ляхов, главный пижон и стиляга их выпуска.
Бен, Андрей у себя? спрашивает Снежана. Блондин пожимает плечами и, широко улыбнувшись, кивает вглубь коридора: мол, проверь сама, я не знаю. Как такой реликт мог дожить до 96-го года? Как он сохранил свои клеша, большие воротники, записи "Бони Эм" и "Аббы"? Глеб представляет себе квартиру, напоминающую музей: шкафы старых вещей, бобинный магнитофон, виниловые диски, катушки в пожелтевших картонных коробках… Может, я и не прав, думает он, может, просто мода возвращается?
Коридор - как в любой старой коммуналке, Глеб в таких бывал пару раз в жизни. На двери - стикер с пятипалым листком, надпись: Legalize it - NOW!; на следующей - приклеенная скотчем распечатка: собака перед экраном компьютера, а внизу стандартным Courier набрано: "В Интернете никто не узнает, что ты @".
Что это значит, Глеб не понимает. Не все ненужные знания преподают в математических школах: кое о чем узнаёшь позднее. Или не узнаешь, смотря как все повернется.
Снежана толкает дверь. В углу крошечной комнаты - рюкзак, полный книг (кажется, разных); на стуле - скомканная рубашка, два непарных носка и несколько старых пятидюймовых дискет. На полу - сумка с эмблемой MIT, россыпь трехдюймовок и матрас, рядом - недопитая бутылка пива. Поверх не застланной постели в джинсах и майке лежит Андрей с книжкой в руках.
Глеб когда-то объяснял отцу: беспорядок в комнате - признак человека, ставящего математические абстракции выше реальности материального мира. Чем больше видимый хаос, тем ближе ты к совершенству. Вот Свидригайлов говорил, что бесконечность - это банька с паутиной по углам. А бесконечность - это символ математического совершенства, будь она хоть счетной, хоть континуальной.
Множество, содержащее бесконечное количество элементов, называется счетным, если все его элементы можно пронумеровать. Как ни странно, бывают бесконечные множества большей мощности: например, множество точек отрезка или иррациональных чисел. Оба они являются континуальными множествами, мощности алеф-ноль. Большинство знаний, полученных в матшколе, бесполезны в жизни - вот и эти могут пригодиться только чтобы рассказывать Тане, почему алеф в рассказе Борхеса называется алефом.
Нельзя сказать, чтобы Таню слишком впечатлило объяснение. Ее не интересовала бесконечность, ни одна, ни другая. Как взрослую женщину меня интересует лишь конечный срок собственной жизни, которую глупо тратить на уборку твоих вещей… Так она объявила еще на первом году совместной жизни, и хотя Глеб быстро переставал слушать - точно так же, как за пару лет до того отец переставал слушать его самого, - но слова про конечность жизни запомнились. Может, поэтому он приучил себя убирать в квартире - и привычка эта сохранилась даже после развода.
Андрей поднимается:
- Привет… извини, что я не того еще, - надевает носки, ищет глазами кроссовки, порывшись в сумке, достает контейнер для контактных линз.
- Ну ладно, Андрей, - говорит Снежана. - Я пошла.
- Угу, - отвечает Андрей, а Глеб с улыбкой кивает: Было очень приятно познакомиться.
Снежана на секунду задерживается в дверях: Мне тоже.
- Вот, - говорит Андрей, выливая в рот остатки пива, - теперь можно как бы жить. Привет, - и он протягивает руку, - я хоть вижу, с кем типа говорю, а то без линз я слеп как крот.
Глеб пожимает руку, кивает на матрас:
- А как же ты книжку читал?
- Я не читал, - отвечает Андрей, - я раздумывал, не почитать ли. Видеть книжку при этом ни к чему.
На обложке - пересечение световых лучей, кластеры и созвездия; английское название. Глеб ни слова не понимает: английский язык - очень нужная вещь, такому в матшколе не научат.
- Я звонил вчера, - говорит Глеб. - Мы на дне рождения Емели познакомились.
- А Емеля - это Миша Емельянов? Который нам бухгалтерию помогает делать, да?
- Типа того, - отвечает Глеб. Ему и в голову не приходило узнавать, чем заняты Абрамов и Емеля: бизнес - он и есть бизнес. Сегодня бухучет, завтра - ночной ларек. Во всяком случае, Глеб так себе это представляет.
- Я тебе свои работы принес, - говорит Глеб, доставая из рюкзака папку. - Посмотришь?
- Да, и типа кофе заодно.
Кухня под стать квартире - расшатанный стол, раковина грязной посуды, марш голодных тараканов вдоль плинтусов. Загаженная плита: проще купить новую, чем отмыть эту.
За столом двое. Знакомый блондин в рубашке с широким воротником. Бен, Глеб уже запомнил. Он приучил себя запоминать одежду - потому что лица людей слишком похожи. Но и одежду Глеб запоминает не визуально, а формульно: высокий воротник плюс блестящие пуговицы плюс клешеные джинсы. На цвет рубашки можно и не обращать внимание. Неудивительно, что Глеб не замечал на Тане ни новой юбки, ни новых туфель.
Какие теперь юбки носит Таня, какие туфли? Что осталось от нее, кроме воспоминания о волосах, выцветших на крымском солнце? Больше не разозлится на Глеба, не надует полные губы, не отвернется к стене, не скажет ты меня просто не замечаешь, не уйдет на кухню, хлопнув дверью, в ответ на Глебово я вообще не замечаю людей.
На собеседнике Бена - клетчатая фланелевая рубашка, под ней - серая футболка. Из-за черной, клочковатой бороды он напоминает одновременно еврея-талмудиста и шестидесятника, непонятно как сохранившего молодость. (Несмотря на множество знакомых евреев, живых талмудистов Глеб никогда не видел и представлял их по какой-то комедии с Луи де Фюнесом, популярной в годы первых, еще полуподпольных видеопросмотров). А может, шестидесятники и были тайными талмудистами, просто тридцать лет назад никто не понимал, что борьба против длинных волос, о которой рассказывали Глебу родители, была формой религиозных войн.
Давно я не видел столько евреев одновременно, думает Глеб. Наверное, со школы.
Когда людей так много, начинаешь путаться. Возвращается апатия. Да, слишком много народу, хочется вернуться домой, лечь на диван, смотреть по телевизору "Твин Пикс", "Санта-Барбару", просто новости. Даже выключенный телевизор лучше необходимости общаться с людьми.
- Ты зря тянешь, Ося. Локалка под энтями - это рулез, - говорит Бен, отрезая кусок сыра длинным ножом. Склизкую изоленту на рукоятке не отмыть никогда, как и плиту.
- Это идеологический вопрос, - отвечает клетчатый. - Тех, кто использует мастдай, я бы стерилизовал на месте.
Андрей вытирает стол грязной тряпкой, говорит Глебу: Я понимаю, феминизм, все дела, но что девушки вообще не убирают - это нормально, да?
Бен улыбается Глебу, как старому знакомому, говорит клетчатому:
- Да, монополия, нечестная конкуренция, все круто. У меня самого Нетоскоп. Но ты, Ося, как сатанист, должен оценить Гейтса. Три шестерки, сам понимаешь.
- Я анархо-сатанист, - отвечает Ося. - Надо различать подлинную и мнимую конспирологию. Можно найти "число зверя" в словах "Уильям Гейтс третий" или в названии Мелкософта, но дураку понятно, чем Кроули отличается от Гейтса.
Бен сразу понравился Глебу. На него приятно смотреть - может, потому что Бен все время улыбается. Эту способность Глеб заносит в ту же ячейку памяти, куда уже отправил Бенову манеру одеваться. Теперь ему будет легко узнать Бена. Чтобы лучше запомнить голос, Глеб спрашивает:
- А как найти 666 в имени Гейтса?
Хрустальный пр., д. 5.Домофон не работает, дверь открывается сама. Скрип ржавых петель: год назад Глеб не услышал бы этого звука - всё доносилось точно сквозь вату, увязало в плотном воздухе, мутном, как вода у общественного пляжа. Мир казался стертым, будто узор на обоях в однушке на "Соколе", доставшейся Глебу после размена их с Таней квартиры. Таня как всегда устроила все сама: рассталась, развелась, разменялась, разъехалась. Выдала две тысячи баксов наличными, перевезла на Сокол вещи и уехала во Францию - теперь уже навсегда. Прошлой весной Глеб вошел в свой новый дом - и увидел все те же книги на полках, те же картинки, пришпиленные булавками к стенам, под стеклом на столе портрет Кортасара, вырезанный еще в десятом классе из "Литературки". Офигенно! сказал тогда Чак, разглядывая богатую коллекцию картинок и бумажек с выписками, разложенную под плескигласом, будто на витрине. Поперек стола на длинной бумажной полосе была зачем-то выписана цитата из Бодлера: "Сатана, помоги мне в безмерной беде!", а под ней, на карточках поменьше, расположились цитаты из Акутагавы, Сартра и Мандельштама. Женившись, Глеб спрятал все бумажки в верхний ящик - и не сомневался, что Таня аккуратно перенесла их на новое место. Прошлое спряталось, аккуратно прихваченное скрепкой, словно майки и джинсы, заботливо уложенные Таней в новый шкаф. Пара зимних ботинок у двери нежно прижались друг к другу. Глеб посмотрел на них, лег на диван и не вставал целый год.
Месяц назад он взглянул в окно и удивился солнцу. Оказалось, в мире есть и другие цвета, кроме привычных оттенков серого и коричневого. Может, просто кончились Танины две тысячи, а может, Глеб наконец поверил: он действительно остался один.
Хрустальный пр., д. 5, кв. 24: не дожидаясь лифта, Глеб начинает подниматься по лестнице. Чистые стены, пока что - без надписи "Буду пагибать малодым!", квартира Ольги Васильевны, площадка перед пятым этажом, где через пару недель будет лежать труп белокурой девушки… Об этом Глеб еще не знает. Тяжело дыша, он поднимается на пятый этаж. Надо было на лифте ехать, думает он. Впрочем, вот она, дверь - белой краской по старому дерматину цифры "24". Андрей так ему и сказал: номер запомнить легко - четыре факториал.
N факториал - это произведение всех чисел от единицы до n. Два факториал - два, три факториал - шесть, четыре факториал - двадцать четыре. Еще один фрагмент ненужных школьных знаний.
Андрей так и сказал: номер запомнить легко - четыре факториал, и Глеб даже не удивился: он встретил Андрея на дне рождения Емели, Миши Емельянова. Глеб и Емеля когда-то вместе заканчивали пятую матшколу. В Москве было три пятых школы: обыкновенная и две "спец" - языковая и математическая. Были и другие матшколы, но пятая - самая заслуженная, выдержала страшный разгром в 1972 году и воспряла, словно Феникс из пепла.
Они считали себя солью земли, городской элитой, настоящими интеллигентами, будущими учеными, потенциальными героями "Полдня XXII век". Глеб, Феликс, Витя, Емеля… страшные события десятого класса разбили их дружбу, разложили на множители общий знаменатель их класса.
Сразу после поступления в институт Глеб поехал в Крым и там познакомился с Таней. До сих пор он помнил ее выцветшие на крымском солнце волосы - пожалуй, единственное, что удержала память. Так началась другая жизнь, где не было места ни старым матшкольным друзьям, ни факториалу четверки. А ведь когда-то Глеб любил математику едва ли не больше всего на свете. Помнится, еще в третьем классе прочел: в древнем Вавилоне существовала двенадцатиричная система счисления. Двенадцать - красивое число, куда лучше десяти, нашего основания системы счисления. Вроде бы потому, что древние люди считали на пальцах. Идея основывать систему счисления на количестве пальцев в третьем классе казалась Глебу изменой чистоте математической абстракции, чтобы не сказать просто - глупостью. Последние десять лет, впрочем, ему казалось глупостью думать обо всем этом всерьез.
Кстати, дважды двенадцать - двадцать четыре, кв. 24, у двери нет звонка, толкни - и входи.
Теорию сингулярности не проходят в матшколах, но ты все равно знаешь, что есть такая точка, в которой незначительное возмущение вызывает фатальное изменение в поведении системы - то, что на научном языке называется катастрофой. Толкни дверь - и входи, прямо в прихожей увидишь невысокую шатенку в яркой полупрозрачной юбке и черной маечке. Полоска голого живота, кажется, блестит в пупке сережка - а, может, только почудилось: девушка ни секунды не стоит на месте, вот уже поворачивается к собеседнику, невысокому парню в мятом темном костюме, в шапочке, прикрывающей затылок. Глеб смутно помнит: это какой-то ритуальный еврейский головной убор - талес? Цимес?
- Привет, - говорит парень Глебу и протягивает руку: - Арсен.
- Снежана, - говорит девушка, и Глеб понимает: даже его собственное имя прозвучит теперь заурядно, но все равно называется, пожимает руку, спрашивает:
- А где мне Андрея найти?
- Во второй боковой, - говорит Арсен, - как всегда.
Снежана смеется, толкает Арсена в грудь кулачком: Он тут раньше не был, как же он найдет? - а тот, уже покидая квартиру, отвечает: Твоя очередь быть Ариадной, мать.
Пойдем, говорит Снежана. Чем-то напоминает Таниных подруг, девочек из МАрхИ, совсем не похожих на Глебовых одноклассниц. Они по очереди позировали друг другу обнаженными, а летом на пляже мерялись - у кого у?же талия и больше грудь. Глядя, как Снежана покачивает худыми бедрами, Глеб представляет ее голой, задрапированной в какую-то простыню, спадающую складками вдоль длинных ног, видит стакан портвейна на столе, чувствует запах краски - и понимает, что скучает по этим девушкам, исчезнувшим из его жизни вместе с Таней.
Они входят в большую комнату, на столе - тарелки с остатками еды, разбросанные компакт-диски, стопка одинаковых книг. Глеб читает название: "Семиотический подход к изучению наследия московско-тартуской школы", пожимает плечами: лучше б какая-нибудь математика, там хоть слова знакомые. Из колонок доносится песня на несуществующем языке - гзи-гзи-гзэо, - на стене висит плакат международной конференции по объектно-ориентированному программированию: вот где наверняка найдутся старые знакомые.
Квартира 24,четыре факториал. Ненужные знания, несуществующий язык. С этим миром Глеб простился много лет назад и не предполагал возвращаться. За Снежаной он выходит в коридор. Высокий улыбающийся блондин сосредоточенно курит у окна, стряхивая пепел в консервную банку. На нем клешеные джинсы и рубашка с большим воротником, мода дискотек седьмого, наверное, класса. Так одевался Феликс Ляхов, главный пижон и стиляга их выпуска.
Бен, Андрей у себя? спрашивает Снежана. Блондин пожимает плечами и, широко улыбнувшись, кивает вглубь коридора: мол, проверь сама, я не знаю. Как такой реликт мог дожить до 96-го года? Как он сохранил свои клеша, большие воротники, записи "Бони Эм" и "Аббы"? Глеб представляет себе квартиру, напоминающую музей: шкафы старых вещей, бобинный магнитофон, виниловые диски, катушки в пожелтевших картонных коробках… Может, я и не прав, думает он, может, просто мода возвращается?
Коридор - как в любой старой коммуналке, Глеб в таких бывал пару раз в жизни. На двери - стикер с пятипалым листком, надпись: Legalize it - NOW!; на следующей - приклеенная скотчем распечатка: собака перед экраном компьютера, а внизу стандартным Courier набрано: "В Интернете никто не узнает, что ты @".
Что это значит, Глеб не понимает. Не все ненужные знания преподают в математических школах: кое о чем узнаёшь позднее. Или не узнаешь, смотря как все повернется.
Снежана толкает дверь. В углу крошечной комнаты - рюкзак, полный книг (кажется, разных); на стуле - скомканная рубашка, два непарных носка и несколько старых пятидюймовых дискет. На полу - сумка с эмблемой MIT, россыпь трехдюймовок и матрас, рядом - недопитая бутылка пива. Поверх не застланной постели в джинсах и майке лежит Андрей с книжкой в руках.
Глеб когда-то объяснял отцу: беспорядок в комнате - признак человека, ставящего математические абстракции выше реальности материального мира. Чем больше видимый хаос, тем ближе ты к совершенству. Вот Свидригайлов говорил, что бесконечность - это банька с паутиной по углам. А бесконечность - это символ математического совершенства, будь она хоть счетной, хоть континуальной.
Множество, содержащее бесконечное количество элементов, называется счетным, если все его элементы можно пронумеровать. Как ни странно, бывают бесконечные множества большей мощности: например, множество точек отрезка или иррациональных чисел. Оба они являются континуальными множествами, мощности алеф-ноль. Большинство знаний, полученных в матшколе, бесполезны в жизни - вот и эти могут пригодиться только чтобы рассказывать Тане, почему алеф в рассказе Борхеса называется алефом.
Нельзя сказать, чтобы Таню слишком впечатлило объяснение. Ее не интересовала бесконечность, ни одна, ни другая. Как взрослую женщину меня интересует лишь конечный срок собственной жизни, которую глупо тратить на уборку твоих вещей… Так она объявила еще на первом году совместной жизни, и хотя Глеб быстро переставал слушать - точно так же, как за пару лет до того отец переставал слушать его самого, - но слова про конечность жизни запомнились. Может, поэтому он приучил себя убирать в квартире - и привычка эта сохранилась даже после развода.
Андрей поднимается:
- Привет… извини, что я не того еще, - надевает носки, ищет глазами кроссовки, порывшись в сумке, достает контейнер для контактных линз.
- Ну ладно, Андрей, - говорит Снежана. - Я пошла.
- Угу, - отвечает Андрей, а Глеб с улыбкой кивает: Было очень приятно познакомиться.
Снежана на секунду задерживается в дверях: Мне тоже.
- Вот, - говорит Андрей, выливая в рот остатки пива, - теперь можно как бы жить. Привет, - и он протягивает руку, - я хоть вижу, с кем типа говорю, а то без линз я слеп как крот.
Глеб пожимает руку, кивает на матрас:
- А как же ты книжку читал?
- Я не читал, - отвечает Андрей, - я раздумывал, не почитать ли. Видеть книжку при этом ни к чему.
На обложке - пересечение световых лучей, кластеры и созвездия; английское название. Глеб ни слова не понимает: английский язык - очень нужная вещь, такому в матшколе не научат.
- Я звонил вчера, - говорит Глеб. - Мы на дне рождения Емели познакомились.
- А Емеля - это Миша Емельянов? Который нам бухгалтерию помогает делать, да?
- Типа того, - отвечает Глеб. Ему и в голову не приходило узнавать, чем заняты Абрамов и Емеля: бизнес - он и есть бизнес. Сегодня бухучет, завтра - ночной ларек. Во всяком случае, Глеб так себе это представляет.
- Я тебе свои работы принес, - говорит Глеб, доставая из рюкзака папку. - Посмотришь?
- Да, и типа кофе заодно.
Кухня под стать квартире - расшатанный стол, раковина грязной посуды, марш голодных тараканов вдоль плинтусов. Загаженная плита: проще купить новую, чем отмыть эту.
За столом двое. Знакомый блондин в рубашке с широким воротником. Бен, Глеб уже запомнил. Он приучил себя запоминать одежду - потому что лица людей слишком похожи. Но и одежду Глеб запоминает не визуально, а формульно: высокий воротник плюс блестящие пуговицы плюс клешеные джинсы. На цвет рубашки можно и не обращать внимание. Неудивительно, что Глеб не замечал на Тане ни новой юбки, ни новых туфель.
Какие теперь юбки носит Таня, какие туфли? Что осталось от нее, кроме воспоминания о волосах, выцветших на крымском солнце? Больше не разозлится на Глеба, не надует полные губы, не отвернется к стене, не скажет ты меня просто не замечаешь, не уйдет на кухню, хлопнув дверью, в ответ на Глебово я вообще не замечаю людей.
На собеседнике Бена - клетчатая фланелевая рубашка, под ней - серая футболка. Из-за черной, клочковатой бороды он напоминает одновременно еврея-талмудиста и шестидесятника, непонятно как сохранившего молодость. (Несмотря на множество знакомых евреев, живых талмудистов Глеб никогда не видел и представлял их по какой-то комедии с Луи де Фюнесом, популярной в годы первых, еще полуподпольных видеопросмотров). А может, шестидесятники и были тайными талмудистами, просто тридцать лет назад никто не понимал, что борьба против длинных волос, о которой рассказывали Глебу родители, была формой религиозных войн.
Давно я не видел столько евреев одновременно, думает Глеб. Наверное, со школы.
Когда людей так много, начинаешь путаться. Возвращается апатия. Да, слишком много народу, хочется вернуться домой, лечь на диван, смотреть по телевизору "Твин Пикс", "Санта-Барбару", просто новости. Даже выключенный телевизор лучше необходимости общаться с людьми.
- Ты зря тянешь, Ося. Локалка под энтями - это рулез, - говорит Бен, отрезая кусок сыра длинным ножом. Склизкую изоленту на рукоятке не отмыть никогда, как и плиту.
- Это идеологический вопрос, - отвечает клетчатый. - Тех, кто использует мастдай, я бы стерилизовал на месте.
Андрей вытирает стол грязной тряпкой, говорит Глебу: Я понимаю, феминизм, все дела, но что девушки вообще не убирают - это нормально, да?
Бен улыбается Глебу, как старому знакомому, говорит клетчатому:
- Да, монополия, нечестная конкуренция, все круто. У меня самого Нетоскоп. Но ты, Ося, как сатанист, должен оценить Гейтса. Три шестерки, сам понимаешь.
- Я анархо-сатанист, - отвечает Ося. - Надо различать подлинную и мнимую конспирологию. Можно найти "число зверя" в словах "Уильям Гейтс третий" или в названии Мелкософта, но дураку понятно, чем Кроули отличается от Гейтса.
Бен сразу понравился Глебу. На него приятно смотреть - может, потому что Бен все время улыбается. Эту способность Глеб заносит в ту же ячейку памяти, куда уже отправил Бенову манеру одеваться. Теперь ему будет легко узнать Бена. Чтобы лучше запомнить голос, Глеб спрашивает:
- А как найти 666 в имени Гейтса?
