Страница:
О tempore! О mores! Chert poberi, mat) tvoyu perematj!
Думал ли ты, Алекс, о таком?
Карамба, а вдруг и у твердокаменных англичан сожмется от жалости сердце, соберутся на Олд Бейли старички в белых париках до плеч и молвят: “Эй, Алекс Уилки! Ты свободен”.
Своего рода благородный жест в ответ на деяние Ряхи.
Ха-ха! Не надейся и не жди.
Западный мир беспощаден и уверен в своей правоте, и если видит, что перед ним дурак, готовый на капитуляцию просто так, из-за своей глупости, то становится жестче и гнуснее. Впрочем, кто же выпустит убийцу, который и не пытался отрицать своей вины? Дурака ты свалял, Алекс Уилки, что не признался в принадлежности к Монастырю, сейчас бы шпионская статья пришлась бы ко двору. Может быть, потребовать пересмотра дела? Бодрись, ситуайен Алекс! Еще какие-нибудь двадцать лет, и в цветущем возрасте восьмидесяти пяти и более лет ты выпорхнешь, как орленок, из темницы сырой на волю. И пройдешь молодцеватой походкой по Пикадилли с литрягой “Гленливета” в руке и с задастой девицей, повисшей на мускулистом плече, не тронутом ревматизмом. О, сладость первого поцелуя! О, водопады виски и тарелка свежесваренного хаша, а еще лучше требухи! И что такое восемьдесят пять лет, если в этом цветущем возрасте предстал в Лондоне дернувший с родины монастырский архивариус, неудачник и дерьмо. Лет десять копировал в архивах документы, выносил их в носках (представляю эти мокрые, провонявшие от страха носки!), закапывал в землю на даче, обливаясь потом. Потом выехал туристом в Вильнюс, переправился в Лондон, облагодетельствовал англичан и состряпал с профессором Оксфорда книгу. Старую задницу подняли на щит, раскопали долгожителей-агентов, покуражились и быстро забыли.
Так думал я в тюрьме, но случилось чудо.
…Я еще раз попросил у пабмена ключ от сакрального места, привел себя в порядок и уставился в туалетное зеркало. М-да, только тщательно вычерченный пробор напоминал о прежнем Алексе (увы, его уже давно изъела моль, высветив изрядную плешь), из глаз не струился неизбывный огонь. Фигура постепенно принимала тошнотворные похоронные черты, ревматизм и геморрой перекосили расшатанный фиакр, истончились ноги и руки, мышцы превратились в селедочные молоки. В не слишком отдаленной перспективе в кадре маячила живописная рухлядь с палочкой в трясущейся руке, отвращавшая, словно “Черный Квадрат” Малевича в писсуаре[8].
Переулок, где затаился ветховатый “Шерлок Холмс”, был неожиданно пустынен. Правда, около подъезда дома напротив дефилировала дамочка в куртке и синем шарфе, довольно смазливая шлюшка, рассчитывающая на клиентов в дневное время. Неужели девицы расширили диапазон своего сервиса, забросили Сохо и промышляли даже в респектабельных местах близ адмирала Нельсона? С гордостью я отметил, что, несмотря на или благодаря длительному воздержанию, в моей груди (назовем это так) шевельнулась заветная эмоция[9], что обнадеживало, и, выпрямив спину, я гусарским шагом вышел на Трафальгарскую площадь, развернулся и двинулся к любимой Пикадилли.
По Сент-Джеймс фланировали отнюдь не холеные джентльмены в котелках, а разгоряченные красные морды в куртках и старых пальтишках. Я остановился около винной лавки “Brothers Berry and Rudd”, где в свое время покупал ящиками лучшее бордо, это подняло пласты воспоминаний, хлынувших в мозги, словно все выпитое за прошедшие годы.
Поворот на Пикадилли прямо к отелю “Ритц”, вот-вот встречу принца Уэльского: “Добрый день, ваше высочество!” – “Рад видеть вас, сэр! Как сиделось?” – “Неплохо, благодарю, сэр. Вашими молитвами”. В предбаннике отеля серо от однотонных одеяний, ни седых бакенбардов, склонившихся над рюмкой порта, ни кринолиновых дам, мурлыкавших в веджвудские чашки. Навстречу вылетела иссохшая (и пересохшая даже для Англии) метрдотель женского рода, запахло партконференцией в клубе имени Несостоявшегося Ксендза – великомученика, с которого Поэт-Самоубийца призывал юношей делать житьё.
Я панически развернулся, словно по ошибке попал в женскую уборную, перешел на другую сторону Пикадилли, двинулся мимо Берлингтонской Арки (мои берлингтонские носки запели “Боже, спаси королеву”), миновал бесцветного Эроса, углубился внутрь когда-то бардачного Сохо. Затем спустился к Стрэнду, вышел на Флит-стрит (оттуда уже слиняли все газеты, переселившись в когда-то трущобный, а теперь небоскребный Докленд), и, предвкушая вечер в хорошем кабаке с негритянским стриптизом, прошагал до собора святого Павла.
В соборе шла заунывная служба, я занял место на скамейке среди прихожан отнюдь не из желания приобщиться к англиканству, а лишь потому, что от хождений у меня разболелась нога (игры остеохондроза, ваше благородие)[10]. После этого я заскочил в банк, открыл там счет, положив на него фунты, сохраненные пенитенциарным заведением, – не таскать же с собой деньги накануне гуляний в борделе!
Вывалившись из банка на улицу, я неожиданно узрел у витрины магазина напротив ту самую смазливую девицу, только в красном шарфе, а не в синем – вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Какое счастье, что мой профессиональный взгляд не утратил остроты, только идиот мог бы считать это совпадением. Явная наружка! Кому же понадобилось брать меня под колпак? Не скажу, что я шибко удивился, – с самого начала мое освобождение выглядело нереальным и загадочным, что ж, примем новые правила игры, сделаем вид, что ничего не приметили, распустим щеки, изображая благодушие, и продолжим наслаждаться свободой, пока не упекли в какие-нибудь другие хоромы.
Размышляя над новым поворотом событий, я заскочил в прославленный паб “Старый Чеширский сыр”, предварительно потоптавшись в дворике дома, где жил и пьянствовал прощелыга и болтун Самуэль Джонсон (между прочим, гордость английской литературы). Дамочка за мной не последовала, правда, вокруг толпилась группа туристов, среди которых наверняка топтался какой-нибудь сыч из наружки. В пабе я выпил эль на втором этаже, просмотрел свежую “Таймс” и снова выполз на Стрэнд. Мой наметанный взгляд сразу обнаружил дамочку в красном шарфе, рассматривающую уцененные колготки, выставленные на улицу. Она перебирала их так живо, словно уже давно ходила босиком, дрожа от холода и сочувственных взглядов прохожих. (Сразу вспомнилась мекленбургская баба времен Усов в голубых фильдеперсовых трусах почти до колен и чулках с потрепанными подвязками, кстати, в этом была своя прелесть, и ночь в коммунальной комнатушке с пердящей старухой за ширмой дышала духами и туманами.)
Кто же меня пасет?
Недолго раздумывая (интуиция всегда была козырной картой Алекса, хотя порой действия рыцаря без должной медитации приводили к позорным фиаско), я перешел на другую сторону улицы и приблизился к магазину. Дамочка не удостоила меня взглядом (возможно, работало боковое зрение, развитое у самок), ее полные губки чуть приоткрылись от созерцания вакханалии колготок, она теребила их обеими руками, словно напрягшиеся фаллосы Приапов, и рассматривала фирменные наклейки, оттопырив задок, источавший флюиды любви.
– Я посоветовал бы вам лиловый цвет! – шепнул я, обжигая ей ухо постельным шепотом.
Она обернулась и блеснула мокроватыми зубами, ничуть не смутившись.
– Почему именно лиловые?
– Кажется, Теннисон писал о красоте фиалок на фоне корней засохшего дуба?[11]
Девица явно не слышала ничего ни о Теннисоне, ни о Грандиссоне, это в нынешнем Мекленбурге, судя по прессе, в счастливые буржуазные времена на панель выходят докторицы наук, знающие в деталях, каким путем идет по Дублину вместе с Джойсом придурок Леопольд Блум и чем пахнет баранина у старины Конолли.
Она тупо перемалывала своей мясорубкой мою фразу, а я снял с крючка сиреневые колготки и оплатил их у продавщицы.
– Это мой скромный презент. Как писал слепец Мильтон, “Моя нежнейшая, моя недавно обретенная, мой дар небес, прими его, прими!” (Скажем прямо, это было архитектурным излишеством, но я слишком долго не выпускал пар знаний.) Скорее всего, это был не Мильтон, а мой блестящий экспромт, от которого глазенки у потаскухи забегали: с полным основанием она пришла к выводу, что имеет дело с психом, сбежавшим прямо из больницы Бетлхем, то бишь Вифлеем, именовавшейся в народе бедламом.
С другой стороны, сия реакция навела меня на мысль, что дамочка не имела никакого отношения к наружке, а занималась честным промыслом. Черт побери, я так отвык от общения с прекрасным полом, что вспотел и напоминал кретинистого старичка, из тех, кто любит подкатиться к случайной барышне, поговорить о погоде, рыгнуть ячменным зерном и благополучно отвалить.
– Могу я пригласить вас в паб на дринк? – Я решил выправить ситуацию и не ходить вокруг да около по литературным кущам.

Глава вторая о том, что жизнь не так уж прекрасна, когда не рыдают скрипки и не скрипят хоралы
Не только лебеди поют свои лебединые песни, к этому склонны и страусы, постоянно зарывающие голову в песок, дабы не видеть баобабов. Сие, конечно, не есть очень удобно (горло забито песком), но тешит страусовое самолюбие и укрепляет страусиное самомнение. Особенно в тюрьме, где, в сущности, нечего делать, особенно в британской, слывущей цивилизованной (а потому еще более мерзкой). Солнце иногда, словно нехотя, залетает за решетку и крутится-моргает под потолком, даже не верится, что Земля вертится вокруг такой малости, и вообще, кто это решил? Какой-то Коперник Коперникович или Галилей Галилеевич за бутылкой фалернского или померанцевой, а может, какой-то безвестный монах вроде Алекса, которому тут же оглоблей раскроили череп, чтобы не открывал всемирные законы, а занимался своим шпионским делом.
Падет на голову яблочко, куда ты котишься, Ньютон вздрагивает и открывает, еще яблочко – трах на лысину, в Губчека попадешь, не воротишься…
По утрам выдающимся одиночкам подают брекфест, его приносит служитель в синей униформе на подносе: хлипкая овсяная кашка, увенчанная хлебными сосисками, их вид заставляет переосмыслить всю грешную жизнь и толкает на суицид. Через полчаса тот же тип забирает грязную посуду вместе с пластиковыми ножами и вилками (ненужная предусмотрительность, ибо даже такими изделиями при надлежащей сноровке можно легко продырявить себе кишки и выпустить всю овсянку на белый свет). Во время трапезы, наверное, противно шпынять в себя пластик и любоваться вылезающей из чрева кашей. И вообще зачем? Где гарантия, что в царстве Аида легче и комфортнее, и не запрещено предаваться сладостным воспоминаниям, купаться в деталях прошлого, более сочных, чем вся пролетевшая жизнь?
После завтрака наступает историческое событие, именуемое туалетом, достаточно таинственное и разнообразное, со стихами не соседствующее, временами грязноватое, временами почти сакральное. Затем прогулка, она значит не меньше для индивидуума, чем битва при Гастингсе для Вильгельма Завоевателя (сравнение тянет на Брокгауза и Эфрона). Прогулка по двору тюрьмы (между заключенными интервал не менее шести футов), за это время нужно вобрать в себя энергию для продолжения жизни, созерцая рожи камерадос по несчастью. Большинство симпатичны, как благословенный мистер Пиквик, и совсем не напоминают Джека Потрошителя, одни благообразнее, другие безобразнее, впрочем, ничуть не лучше и не хуже монахов Монастыря (да простят меня живые пенсионные и уже истлевшие кости, раскиданные по всему миру сообразно великому Бородатому Учению).
Тюремные власти не опускаются лишь до держатьнепущательства, они стимулируют творчество, берут пример с уважаемого маркиза де Сада в больнице Шерантон, исцелявшего психов перфомансами, особливо известно оное по мотивам убийства злодея-революционера Марата пресловутой Шарлоттой Корде. Бывали и срывы: иногда Шарлотка-идиотка, уже порешив вождя в ванне, затевала все по второму кругу, мало ей было впечатлений от первой крови. Повторенье – мать ученья, клюквенный сок лился рекой, и это вводило в транс остальных актеров, жаждущих Варфоломеевской ночи. Тогда для усмирения звереющей труппы де Сад призывал санитаров, и они ласково применяли свою нехитрую терапию. Маркиз был на редкость жизнелюбив, пригрел на худосочной груди прекрасную толстозадую прачку, а потом и ее юную дочку, жил припеваючи в каморке, пожирал фазанов из рук собственного слуги, которого заодно тоже употреблял. Английские терапевты в нашем дворце однажды подготовили небольшой отрывок из “Короля Лира”, там отличился сумасшедший Том из Бедлама, скорее он притворялся подобно Гамлету и нес околесицу весьма многозначительную и даже эпатажную. Я хорошо запомнил песни и манеры юродивого, они созвучны были моей австралийской теме, которую не выносило на дух мое английское начальство. Я попросил роль шута хотя бы во втором составе, но мне отказали, опасаясь, видимо, что прямо в дурацком колпаке я выскочу на карниз, пролечу по нему аки Марго Фонтейн, взмахну крылышками и умчусь далеко-далеко, где синеют туманы и незабвенные очи несостоявшегося Ксендза и его соратников. Меня это особо не расстроило, ибо занимал я удобную точку среди зрителей: прямо напротив дамской restroom. Дверь была постоянно приоткрыта, и я обратил внимание, что мужчина (Корде) и гримерша (единственная дама, выписанная для спектакля из соседней тюряги) слишком часто туда бегают.
Это наблюдение не лишено тонкости, однако.
Но хочется беседы на уровне муравьиного шепота.
Стихи. Поэмы. Сонеты.
Стихи я писал всю жизнь в промежутках между монашескими обязанностями, писал самозабвенно и тут же бросал в огонь, дабы вороги не раскрыли душу в случае внезапного захвата и последующих пыток. В темнице я значительно усовершенствовал свое мастерство, овладел метафорами и ассоциациями, ассонансами и диссонансами (где-то вычитал об анжамбемане), впрочем, отличать ямб от хорея так и не научился.
Стихи заменяют мемуары.
Хотя это намного больше.
Это джаз жизни.
Страусовый хрип?
Страусиный рев?
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА АЛЛЕЕ
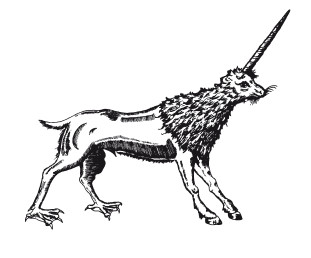
Глава третья, в которой снова о тюряге, где дни мои блаженные текли
…Я тоже всем в жизни обязан книгам, до которых дорвался в тюрьме. В конечном итоге это только обострило мои страдания: новая мысль переваривалась с трудом и порождала проблемы. Я постоянно углублялся в историю, мифы и сплетни разных Болтунов Болтуновичей вроде Плутарха, менял религию за религией, философию за философией, изучил всех языческих богов, разве это не пытка?
Что может быть прекраснее tabula rasa? Обнаженность и незащищенность ума – это и есть высшая и непререкаемая Истина. И не надо выписывать премудрости и стараться их запомнить. Например, “Для человека, как и для цветка, зверя или птицы, наивысший триумф – быть абсолютно и безупречно живым”. Не потрясает?
Тянуло к чернильнице.
“Ногоуважаемый господин комиссар.
Добровольно, в не совсем трезвом уме, но в твердой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои именины. Сам частица мирового уродства, – я не вижу смысла его обвинять. Добавлю также слова, сказанные якобы графом Львом Толстым после вступления в брачные отношения: “Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью”. Кто сие написал выскочило из, но явственно помню, что Толстой, переспав после свадьбы с Софьей Андреевной, именно подобные слова о прекрасности соития и произнес. С удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчас. Но, – опять перехожу на австралийский язык – это вашего высоко-подбородия не кусается”.
Что случится с человечеством, если будет доказана обреченность коитуса, не начнутся ли массовые самоубийства?
Судьба, как ни странно, пронесла меня мимо зоны в родных пенатах, возможно, порядки там и либеральнее, чем в бывшей мастерской мира, но нашего брата братва расположена придушить лишь за принадлежность. Темница в альбионских краях меня сначала просто очаровала, и не столько общей организованностью, сколько нежным отношением товарищей по несчастью. Гласность в тюрьме превзошла границы самого демократического устройства, о моем процессе знали даже свихнувшиеся детоубийцы, не открывавшие букваря, и моя известность могла соперничать разве что с Микки Маусом. Стражи порядка тайно брали у меня автографы, выказывали уважение и любовь и уверяли, что почитают за честь охранять Великого Шпиона (сие я насмешливо отрицал, хотя внутренне млел). На коллективных прогулках им приходилось отгонять от меня остальных зеков, готовых носить меня на руках, одновременно засыпая вопросами о самых потаенных сторонах жизни Монастыря и о моей легендарной биографии, точнее, легенде, которую я выдавал на-гора. Меня даже возжелали выдвинуть в парламент, и только австралийское происхождение и ряд положений прецедентного права охладили пыл моих почитателей. На первых порах я ощущал себя героем, подобным Гераклу, всем улыбался и со всеми раскланивался, словно только что удачно исполнил партию лебедя в известном балете и принимал букеты на сцене. О, если бы Маня или Бритая Голова представляли всю звучность моей славы! Они наверняка бы сорвали погоны со своих величественных плеч и окунулись бы в водоворот славы, которая сладостнее даже бессмертия. И это после зажатой в тиски конспирации жизни, когда приходилось согласовывать и с собой, и с начальством каждый пук, ползти по своей второй жизни, как по минному полю, опасаясь любой небрежности и случайности, подстерегающей у каждого куста.
Но и звон фанфар надоедает: через несколько месяцев я к этому привык и даже заскучал. И начала грызть мысль (в свое время она обуревала и бессмертного певца топора, и самого Учителя): что делать?
Иллюзия побега меня не грела, шансов практически не было, да и поймать меня не составило бы большого труда. А почему бы не направить энергию на самоусовершенствование, столь ценимое самим графом Лёвой (его я уважал за то, что он вовремя бросил сочинять художественные фантазии и ударился в философию, не говоря уже о дерзком бегстве из душных семейных объятий к одинокой смерти на железнодорожной станции). Условий для этого было не меньше, чем в мекленбургском дворце бойскаутов с бесчисленными кружками самодеятельности, более того, предоставлялись услуги библиотеки Британского музея и других менее значительных заведений, и я мог пить из кладезя знаний до полного захлеба, предварительно проработав каталоги и оформив подписку. Однако это привлекательное и полезное для души занятие растянулось бы на многие годы, посему я остановился на давнем желании, несложным по воплощению, но лелеемом с детства: почему бы не научиться играть на гитаре?
Думал ли ты, Алекс, о таком?
Карамба, а вдруг и у твердокаменных англичан сожмется от жалости сердце, соберутся на Олд Бейли старички в белых париках до плеч и молвят: “Эй, Алекс Уилки! Ты свободен”.
Своего рода благородный жест в ответ на деяние Ряхи.
Ха-ха! Не надейся и не жди.
Западный мир беспощаден и уверен в своей правоте, и если видит, что перед ним дурак, готовый на капитуляцию просто так, из-за своей глупости, то становится жестче и гнуснее. Впрочем, кто же выпустит убийцу, который и не пытался отрицать своей вины? Дурака ты свалял, Алекс Уилки, что не признался в принадлежности к Монастырю, сейчас бы шпионская статья пришлась бы ко двору. Может быть, потребовать пересмотра дела? Бодрись, ситуайен Алекс! Еще какие-нибудь двадцать лет, и в цветущем возрасте восьмидесяти пяти и более лет ты выпорхнешь, как орленок, из темницы сырой на волю. И пройдешь молодцеватой походкой по Пикадилли с литрягой “Гленливета” в руке и с задастой девицей, повисшей на мускулистом плече, не тронутом ревматизмом. О, сладость первого поцелуя! О, водопады виски и тарелка свежесваренного хаша, а еще лучше требухи! И что такое восемьдесят пять лет, если в этом цветущем возрасте предстал в Лондоне дернувший с родины монастырский архивариус, неудачник и дерьмо. Лет десять копировал в архивах документы, выносил их в носках (представляю эти мокрые, провонявшие от страха носки!), закапывал в землю на даче, обливаясь потом. Потом выехал туристом в Вильнюс, переправился в Лондон, облагодетельствовал англичан и состряпал с профессором Оксфорда книгу. Старую задницу подняли на щит, раскопали долгожителей-агентов, покуражились и быстро забыли.
Так думал я в тюрьме, но случилось чудо.
…Я еще раз попросил у пабмена ключ от сакрального места, привел себя в порядок и уставился в туалетное зеркало. М-да, только тщательно вычерченный пробор напоминал о прежнем Алексе (увы, его уже давно изъела моль, высветив изрядную плешь), из глаз не струился неизбывный огонь. Фигура постепенно принимала тошнотворные похоронные черты, ревматизм и геморрой перекосили расшатанный фиакр, истончились ноги и руки, мышцы превратились в селедочные молоки. В не слишком отдаленной перспективе в кадре маячила живописная рухлядь с палочкой в трясущейся руке, отвращавшая, словно “Черный Квадрат” Малевича в писсуаре[8].
Переулок, где затаился ветховатый “Шерлок Холмс”, был неожиданно пустынен. Правда, около подъезда дома напротив дефилировала дамочка в куртке и синем шарфе, довольно смазливая шлюшка, рассчитывающая на клиентов в дневное время. Неужели девицы расширили диапазон своего сервиса, забросили Сохо и промышляли даже в респектабельных местах близ адмирала Нельсона? С гордостью я отметил, что, несмотря на или благодаря длительному воздержанию, в моей груди (назовем это так) шевельнулась заветная эмоция[9], что обнадеживало, и, выпрямив спину, я гусарским шагом вышел на Трафальгарскую площадь, развернулся и двинулся к любимой Пикадилли.
По Сент-Джеймс фланировали отнюдь не холеные джентльмены в котелках, а разгоряченные красные морды в куртках и старых пальтишках. Я остановился около винной лавки “Brothers Berry and Rudd”, где в свое время покупал ящиками лучшее бордо, это подняло пласты воспоминаний, хлынувших в мозги, словно все выпитое за прошедшие годы.
Поворот на Пикадилли прямо к отелю “Ритц”, вот-вот встречу принца Уэльского: “Добрый день, ваше высочество!” – “Рад видеть вас, сэр! Как сиделось?” – “Неплохо, благодарю, сэр. Вашими молитвами”. В предбаннике отеля серо от однотонных одеяний, ни седых бакенбардов, склонившихся над рюмкой порта, ни кринолиновых дам, мурлыкавших в веджвудские чашки. Навстречу вылетела иссохшая (и пересохшая даже для Англии) метрдотель женского рода, запахло партконференцией в клубе имени Несостоявшегося Ксендза – великомученика, с которого Поэт-Самоубийца призывал юношей делать житьё.
Я панически развернулся, словно по ошибке попал в женскую уборную, перешел на другую сторону Пикадилли, двинулся мимо Берлингтонской Арки (мои берлингтонские носки запели “Боже, спаси королеву”), миновал бесцветного Эроса, углубился внутрь когда-то бардачного Сохо. Затем спустился к Стрэнду, вышел на Флит-стрит (оттуда уже слиняли все газеты, переселившись в когда-то трущобный, а теперь небоскребный Докленд), и, предвкушая вечер в хорошем кабаке с негритянским стриптизом, прошагал до собора святого Павла.
В соборе шла заунывная служба, я занял место на скамейке среди прихожан отнюдь не из желания приобщиться к англиканству, а лишь потому, что от хождений у меня разболелась нога (игры остеохондроза, ваше благородие)[10]. После этого я заскочил в банк, открыл там счет, положив на него фунты, сохраненные пенитенциарным заведением, – не таскать же с собой деньги накануне гуляний в борделе!
Вывалившись из банка на улицу, я неожиданно узрел у витрины магазина напротив ту самую смазливую девицу, только в красном шарфе, а не в синем – вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Какое счастье, что мой профессиональный взгляд не утратил остроты, только идиот мог бы считать это совпадением. Явная наружка! Кому же понадобилось брать меня под колпак? Не скажу, что я шибко удивился, – с самого начала мое освобождение выглядело нереальным и загадочным, что ж, примем новые правила игры, сделаем вид, что ничего не приметили, распустим щеки, изображая благодушие, и продолжим наслаждаться свободой, пока не упекли в какие-нибудь другие хоромы.
Размышляя над новым поворотом событий, я заскочил в прославленный паб “Старый Чеширский сыр”, предварительно потоптавшись в дворике дома, где жил и пьянствовал прощелыга и болтун Самуэль Джонсон (между прочим, гордость английской литературы). Дамочка за мной не последовала, правда, вокруг толпилась группа туристов, среди которых наверняка топтался какой-нибудь сыч из наружки. В пабе я выпил эль на втором этаже, просмотрел свежую “Таймс” и снова выполз на Стрэнд. Мой наметанный взгляд сразу обнаружил дамочку в красном шарфе, рассматривающую уцененные колготки, выставленные на улицу. Она перебирала их так живо, словно уже давно ходила босиком, дрожа от холода и сочувственных взглядов прохожих. (Сразу вспомнилась мекленбургская баба времен Усов в голубых фильдеперсовых трусах почти до колен и чулках с потрепанными подвязками, кстати, в этом была своя прелесть, и ночь в коммунальной комнатушке с пердящей старухой за ширмой дышала духами и туманами.)
Кто же меня пасет?
Недолго раздумывая (интуиция всегда была козырной картой Алекса, хотя порой действия рыцаря без должной медитации приводили к позорным фиаско), я перешел на другую сторону улицы и приблизился к магазину. Дамочка не удостоила меня взглядом (возможно, работало боковое зрение, развитое у самок), ее полные губки чуть приоткрылись от созерцания вакханалии колготок, она теребила их обеими руками, словно напрягшиеся фаллосы Приапов, и рассматривала фирменные наклейки, оттопырив задок, источавший флюиды любви.
– Я посоветовал бы вам лиловый цвет! – шепнул я, обжигая ей ухо постельным шепотом.
Она обернулась и блеснула мокроватыми зубами, ничуть не смутившись.
– Почему именно лиловые?
– Кажется, Теннисон писал о красоте фиалок на фоне корней засохшего дуба?[11]
Девица явно не слышала ничего ни о Теннисоне, ни о Грандиссоне, это в нынешнем Мекленбурге, судя по прессе, в счастливые буржуазные времена на панель выходят докторицы наук, знающие в деталях, каким путем идет по Дублину вместе с Джойсом придурок Леопольд Блум и чем пахнет баранина у старины Конолли.
Она тупо перемалывала своей мясорубкой мою фразу, а я снял с крючка сиреневые колготки и оплатил их у продавщицы.
– Это мой скромный презент. Как писал слепец Мильтон, “Моя нежнейшая, моя недавно обретенная, мой дар небес, прими его, прими!” (Скажем прямо, это было архитектурным излишеством, но я слишком долго не выпускал пар знаний.) Скорее всего, это был не Мильтон, а мой блестящий экспромт, от которого глазенки у потаскухи забегали: с полным основанием она пришла к выводу, что имеет дело с психом, сбежавшим прямо из больницы Бетлхем, то бишь Вифлеем, именовавшейся в народе бедламом.
С другой стороны, сия реакция навела меня на мысль, что дамочка не имела никакого отношения к наружке, а занималась честным промыслом. Черт побери, я так отвык от общения с прекрасным полом, что вспотел и напоминал кретинистого старичка, из тех, кто любит подкатиться к случайной барышне, поговорить о погоде, рыгнуть ячменным зерном и благополучно отвалить.
– Могу я пригласить вас в паб на дринк? – Я решил выправить ситуацию и не ходить вокруг да около по литературным кущам.

Глава вторая о том, что жизнь не так уж прекрасна, когда не рыдают скрипки и не скрипят хоралы
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверька,
Дразнить тебя придут.
Александр Пушкин
Не только лебеди поют свои лебединые песни, к этому склонны и страусы, постоянно зарывающие голову в песок, дабы не видеть баобабов. Сие, конечно, не есть очень удобно (горло забито песком), но тешит страусовое самолюбие и укрепляет страусиное самомнение. Особенно в тюрьме, где, в сущности, нечего делать, особенно в британской, слывущей цивилизованной (а потому еще более мерзкой). Солнце иногда, словно нехотя, залетает за решетку и крутится-моргает под потолком, даже не верится, что Земля вертится вокруг такой малости, и вообще, кто это решил? Какой-то Коперник Коперникович или Галилей Галилеевич за бутылкой фалернского или померанцевой, а может, какой-то безвестный монах вроде Алекса, которому тут же оглоблей раскроили череп, чтобы не открывал всемирные законы, а занимался своим шпионским делом.
Падет на голову яблочко, куда ты котишься, Ньютон вздрагивает и открывает, еще яблочко – трах на лысину, в Губчека попадешь, не воротишься…
По утрам выдающимся одиночкам подают брекфест, его приносит служитель в синей униформе на подносе: хлипкая овсяная кашка, увенчанная хлебными сосисками, их вид заставляет переосмыслить всю грешную жизнь и толкает на суицид. Через полчаса тот же тип забирает грязную посуду вместе с пластиковыми ножами и вилками (ненужная предусмотрительность, ибо даже такими изделиями при надлежащей сноровке можно легко продырявить себе кишки и выпустить всю овсянку на белый свет). Во время трапезы, наверное, противно шпынять в себя пластик и любоваться вылезающей из чрева кашей. И вообще зачем? Где гарантия, что в царстве Аида легче и комфортнее, и не запрещено предаваться сладостным воспоминаниям, купаться в деталях прошлого, более сочных, чем вся пролетевшая жизнь?
После завтрака наступает историческое событие, именуемое туалетом, достаточно таинственное и разнообразное, со стихами не соседствующее, временами грязноватое, временами почти сакральное. Затем прогулка, она значит не меньше для индивидуума, чем битва при Гастингсе для Вильгельма Завоевателя (сравнение тянет на Брокгауза и Эфрона). Прогулка по двору тюрьмы (между заключенными интервал не менее шести футов), за это время нужно вобрать в себя энергию для продолжения жизни, созерцая рожи камерадос по несчастью. Большинство симпатичны, как благословенный мистер Пиквик, и совсем не напоминают Джека Потрошителя, одни благообразнее, другие безобразнее, впрочем, ничуть не лучше и не хуже монахов Монастыря (да простят меня живые пенсионные и уже истлевшие кости, раскиданные по всему миру сообразно великому Бородатому Учению).
Тюремные власти не опускаются лишь до держатьнепущательства, они стимулируют творчество, берут пример с уважаемого маркиза де Сада в больнице Шерантон, исцелявшего психов перфомансами, особливо известно оное по мотивам убийства злодея-революционера Марата пресловутой Шарлоттой Корде. Бывали и срывы: иногда Шарлотка-идиотка, уже порешив вождя в ванне, затевала все по второму кругу, мало ей было впечатлений от первой крови. Повторенье – мать ученья, клюквенный сок лился рекой, и это вводило в транс остальных актеров, жаждущих Варфоломеевской ночи. Тогда для усмирения звереющей труппы де Сад призывал санитаров, и они ласково применяли свою нехитрую терапию. Маркиз был на редкость жизнелюбив, пригрел на худосочной груди прекрасную толстозадую прачку, а потом и ее юную дочку, жил припеваючи в каморке, пожирал фазанов из рук собственного слуги, которого заодно тоже употреблял. Английские терапевты в нашем дворце однажды подготовили небольшой отрывок из “Короля Лира”, там отличился сумасшедший Том из Бедлама, скорее он притворялся подобно Гамлету и нес околесицу весьма многозначительную и даже эпатажную. Я хорошо запомнил песни и манеры юродивого, они созвучны были моей австралийской теме, которую не выносило на дух мое английское начальство. Я попросил роль шута хотя бы во втором составе, но мне отказали, опасаясь, видимо, что прямо в дурацком колпаке я выскочу на карниз, пролечу по нему аки Марго Фонтейн, взмахну крылышками и умчусь далеко-далеко, где синеют туманы и незабвенные очи несостоявшегося Ксендза и его соратников. Меня это особо не расстроило, ибо занимал я удобную точку среди зрителей: прямо напротив дамской restroom. Дверь была постоянно приоткрыта, и я обратил внимание, что мужчина (Корде) и гримерша (единственная дама, выписанная для спектакля из соседней тюряги) слишком часто туда бегают.
Это наблюдение не лишено тонкости, однако.
Но хочется беседы на уровне муравьиного шепота.
Стихи. Поэмы. Сонеты.
Стихи я писал всю жизнь в промежутках между монашескими обязанностями, писал самозабвенно и тут же бросал в огонь, дабы вороги не раскрыли душу в случае внезапного захвата и последующих пыток. В темнице я значительно усовершенствовал свое мастерство, овладел метафорами и ассоциациями, ассонансами и диссонансами (где-то вычитал об анжамбемане), впрочем, отличать ямб от хорея так и не научился.
Стихи заменяют мемуары.
Хотя это намного больше.
Это джаз жизни.
Страусовый хрип?
Страусиный рев?
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА АЛЛЕЕ
Как причудливо стасовалась колода!
Михаил Булгаков
Какая странная история: небо горит,
Словно спирт на прозрачном блюдце,
Подожженный спичкой.
О булыжники лицами мягкими бьются
И наступают на качающиеся фонари
Солнцем сожженные прохожие,
Спирта зажженного требуя
Как неба, в пасти свои…
Какая торжественность!
А хочется неслышно и божественно
Коснуться неуловимым жестом,
Как в страхе перед вечностью.
Хочется открыть электричество,
Превратить качество в количество,
Трагическое в комическое,
Формулу мозга вычислить.
Личность разложить на различные,
Единичные плюсы и минусы.
Дай Бог, все это подметить и
Все это вынести,
Путешествовать, записывать ночами,
Побывать в Сочи или в Сычуани,
Рассматривать со скамейки,
Расслабив конечности,
Проходящее как преходящее.
Думать, высвистывая,
Что есть ‘‘остановись, мгновенье!”
В отличие
От афоризма “Не ешьте несвежий продукт!”
Или “Не высовывайте голову из самолета
на ходу!”
Просто и для здоровья полезно.
Освежимся прессой.
Пока небо как спирт голубой.
Победа Карпова одна за другой.
Психи Корчной и Картер.
Наше спасенье – в голодной диете.
Трудящиеся пишут, что нет общественного
клозета
На границе с Абхазией.
Бессердечность и безобразие.
Осудить. Снять. Отправить виновников
на перевоспитание молодежи —
задача старшего поколения.
В Никарагуа волнения.
В Южной Африке гонения.
В Западной Европе падение
Курса и нравов.
И общественное мнение
Твердо выступает за соблюдение
Хельсинкского соглашения.
Хорошо было жить в каменном веке:
Ни книг, ни газет, ни атомного зуда.
Шьешь себе из шкуры шубу,
Вырываешь сам себе зубы.
Умираешь, не зная, что это – диабет,
Думаешь, что просто наступило время
И повелела судьба.
Такие, брат, дела.
В общем, достаточно гнусное настроение.
Переломим. Переиначим.
Превратим в кошмар.
Например, хватил тебя удар,
И подруга жизни хохочет у ложа
И строит рожи.
Как это?
''Королева играла в старом замке Шопена
И, внимая Шопену, полюбил ее паж”…
Строит рожи и плюет чем-то тошным
В твою отвисшую.
Блестящая перспектива
Для созерцающих с философской вышки.
Вообще жизнь устроена неверно.
Надо обратить и обработать время.
Начинать со смерти и кончать рожденьем.
От склероза – к полному отсутствию извилин,
От старости – к детству!
Заметьте,
Сколько оптимизма в этой концепции:
С каждым годом здоровеет организм,
С каждым годом уменьшается скептицизм
И резвыми темпами нарастает потенция.
Становишься все меньше – и вот уже маленький.
И младшую дочь называешь “мама”.
Собираешь марки,
И тебя подсаживают на велосипедную раму.
Еще немного – и кричишь “уа-уа”,
Понятия не имеешь ни о каком Никарагуа,
Где волнения, падение, общественное мнение.
Скрываешься где-то между ног —
Тоже ведь смерть, но только наоборот.
Превращаешься в блуждающий сперматозоид,
Распадаешься на части.
И с этого конца пустота как назло,
И тут она, царица-случайность.
Хорошо, если был бы дьявол или Бог,
Антимир, или, по-простому, ад или рай.
А так почему-то очень холодно,
Хотя солнце горит, даже жара.
Чтобы пройти над морем,
Сгинув в небытии кротко И без зла,
Почести получив по сану.
“В белом плаще с кровавым подбоем,
Шаркающей кавалерийской походкой,
Четырнадцатого числа Весеннего месяца нисана…”
Ах, поэты,
Все вас тянет в какофонию,
В идиотские потоки сознания.
Неуместная ирония, неумелое отражение
Волнения, потрясения, падения
Общественного мнения.
Где нить рассказа?
Начинается с бухты-барахты,
С претензии на философское размышление.
Лажа.
Ни хрена тут нет.
Пахнет обыкновенным плагиатом.
Дайте сюжет,
Как в “Дайте мужа Анне Закеа!”.
Что хочет сказать автор?
…А автор хочет вам сказать,
Что любит пиво и сосиски.
…А автор хочет вам сказать
То, что ему на вас начхать.
…А автор хочет вам сказать,
Что по заплеванной аллее
Оленем грустным он шагал,
Реальность густо отражал,
Вернее, отражать пытался.
Но как наш автор ни старался,
Ее, увы, не отразил.
До хрипа трубку он курил
И до видений напивался.
Сидел на лавочке, дымя,
И думал, как убить себя.
Он мыслил плоско, трафаретно:
Ведь скоро минет пятьдесят…
Поэты все в аду горят,
А те, кто живы, – не поэты!
Ногами влажными, босыми
Он грязь месил и всласть вонял.
Поэты все в аду горят, – звенело хрупко.
Воздух, синий От подгоревших шашлыков,
На важность сплющенных мозгов
Давил несокрушимым сплином,
Как англичане говорят.
Поэты все в аду горят,
В плащах, залитых стеарином,
Сгибаясь над листом в ночи.
Горят, как зарево, плащи.
Так думал я. А на аллее
Уже шуршали и шумели,
Гремела музыка в саду.
Пьянящий аромат “Шанели”,
Буфет, шампанское во льду.
Так думал я. А с высоты
Уже кружилось и звенело:
За музыкою только дело.
Итак, не выбирай пути,
Почти бесплотность предпочти
Тому, что слишком плоть и тело.
Твое томление знакомо.
Вся эта нервность – как саркома.
Тасуй тяжелую колоду,
Пока не ляжет туз коронный,
И в знак любви кинжал каленый
Давай надломим на колене,
Кинжал единого каленья
Давай надломим на колене.
И если строго между нами,
Меж ангелами и волками,
Мечтаешь ты, что туз коронный
Падет, как камень, из колоды.
Твой козырной, твой друг заветный…
А что твой туз? Прыжок карьерный?
Поэмка с запахом горелым?
Вино в бокале запотелом?
Слова каленые, литые,
Слова лихие и святые,
И почерк вроде бы корявый,
И прочерк вроде бы кровавый,
И надо всем – смешок лукавый,
Смычок, оживший под руками,
Сверчок, зацокавший в камине.
Снежок во рту (ах, вкус полынный).
Смешок лукавый, наважденье…
Уйди, остановись мгновенье!
Это стихотворение —
Фотографическое воспроизведение
Настроений, развлечений
И прочих явлений
У автора на аллее.
Откровений и прозрений,
Достойных презренья
Или восхваленья
В зависимости от пищеваренья
Читательского гения.
Главное, что ничего не случилось.
Никто никого не убил.
Ничего не увели И никому не набили морду.
Была отменная погода.
Автор, касаясь (представляете?)
Ногами земли, проходил по аллее,
Почесываясь, шаркая и шамкая,
Жар-птичек не находя ни шиша
Потому что старый и плешивый.
Под собственный туш,
Несколько вшивый, правда, и фальшивый,
Отразился от этого события домой.
Принял душ.
Еще раз отразился в ванне,
Тая и утопая от умиления.
Все это происходило зимой.
В летний зной.
На Северном полюсе. В Таджикистане.
В зоне всемирного тяготения.
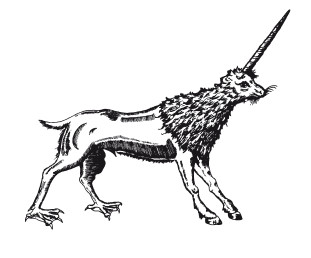
Глава третья, в которой снова о тюряге, где дни мои блаженные текли
“Прошу вас лишь припомнить, что, согласно Пифагорову учению, душа может переходить не только от человека к человеку или же скоту, но равномерно и к растениям, ради того не удивляйтесь, находя одну душу в императоре, в почтовой лошади и в бесчувственном грибе…"
Джон Донн
…Я тоже всем в жизни обязан книгам, до которых дорвался в тюрьме. В конечном итоге это только обострило мои страдания: новая мысль переваривалась с трудом и порождала проблемы. Я постоянно углублялся в историю, мифы и сплетни разных Болтунов Болтуновичей вроде Плутарха, менял религию за религией, философию за философией, изучил всех языческих богов, разве это не пытка?
Что может быть прекраснее tabula rasa? Обнаженность и незащищенность ума – это и есть высшая и непререкаемая Истина. И не надо выписывать премудрости и стараться их запомнить. Например, “Для человека, как и для цветка, зверя или птицы, наивысший триумф – быть абсолютно и безупречно живым”. Не потрясает?
Тянуло к чернильнице.
“Ногоуважаемый господин комиссар.
Добровольно, в не совсем трезвом уме, но в твердой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои именины. Сам частица мирового уродства, – я не вижу смысла его обвинять. Добавлю также слова, сказанные якобы графом Львом Толстым после вступления в брачные отношения: “Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью”. Кто сие написал выскочило из, но явственно помню, что Толстой, переспав после свадьбы с Софьей Андреевной, именно подобные слова о прекрасности соития и произнес. С удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчас. Но, – опять перехожу на австралийский язык – это вашего высоко-подбородия не кусается”.
Что случится с человечеством, если будет доказана обреченность коитуса, не начнутся ли массовые самоубийства?
Судьба, как ни странно, пронесла меня мимо зоны в родных пенатах, возможно, порядки там и либеральнее, чем в бывшей мастерской мира, но нашего брата братва расположена придушить лишь за принадлежность. Темница в альбионских краях меня сначала просто очаровала, и не столько общей организованностью, сколько нежным отношением товарищей по несчастью. Гласность в тюрьме превзошла границы самого демократического устройства, о моем процессе знали даже свихнувшиеся детоубийцы, не открывавшие букваря, и моя известность могла соперничать разве что с Микки Маусом. Стражи порядка тайно брали у меня автографы, выказывали уважение и любовь и уверяли, что почитают за честь охранять Великого Шпиона (сие я насмешливо отрицал, хотя внутренне млел). На коллективных прогулках им приходилось отгонять от меня остальных зеков, готовых носить меня на руках, одновременно засыпая вопросами о самых потаенных сторонах жизни Монастыря и о моей легендарной биографии, точнее, легенде, которую я выдавал на-гора. Меня даже возжелали выдвинуть в парламент, и только австралийское происхождение и ряд положений прецедентного права охладили пыл моих почитателей. На первых порах я ощущал себя героем, подобным Гераклу, всем улыбался и со всеми раскланивался, словно только что удачно исполнил партию лебедя в известном балете и принимал букеты на сцене. О, если бы Маня или Бритая Голова представляли всю звучность моей славы! Они наверняка бы сорвали погоны со своих величественных плеч и окунулись бы в водоворот славы, которая сладостнее даже бессмертия. И это после зажатой в тиски конспирации жизни, когда приходилось согласовывать и с собой, и с начальством каждый пук, ползти по своей второй жизни, как по минному полю, опасаясь любой небрежности и случайности, подстерегающей у каждого куста.
Но и звон фанфар надоедает: через несколько месяцев я к этому привык и даже заскучал. И начала грызть мысль (в свое время она обуревала и бессмертного певца топора, и самого Учителя): что делать?
Иллюзия побега меня не грела, шансов практически не было, да и поймать меня не составило бы большого труда. А почему бы не направить энергию на самоусовершенствование, столь ценимое самим графом Лёвой (его я уважал за то, что он вовремя бросил сочинять художественные фантазии и ударился в философию, не говоря уже о дерзком бегстве из душных семейных объятий к одинокой смерти на железнодорожной станции). Условий для этого было не меньше, чем в мекленбургском дворце бойскаутов с бесчисленными кружками самодеятельности, более того, предоставлялись услуги библиотеки Британского музея и других менее значительных заведений, и я мог пить из кладезя знаний до полного захлеба, предварительно проработав каталоги и оформив подписку. Однако это привлекательное и полезное для души занятие растянулось бы на многие годы, посему я остановился на давнем желании, несложным по воплощению, но лелеемом с детства: почему бы не научиться играть на гитаре?
