Книга, прежде всего, вызывающе антиакадемична: хотя в ней есть и главы, и сноски, но главы не пронумерованы, а ссылок крайне мало: только на Хильдебрандта и один раз на Наторпа. Зато, как и во всех книгах, выпущенных под эгидой «Листков», продуман шрифт, книжный дизайн, соблюдены общегеоргеанские нормы орфографии: существительные нарицательные пишутся со строчной буквы, зато собственные, даже если это прилагательные, – с заглавной (Sokratisch), опущены многие запятые. В книге преобладает тяжелый, обильный на инверсии синтаксис. Диалоги цитируются как придется (то есть по мере надобности цитат), без какого бы то ни было внимания к историческому или проблемному контексту. Так же, как сам Платон изолирован от исторической среды (сведенной к каким-то очень темным силам, врагам Платона, а заодно и жизни), так и каждая цитата походит, скорее, на афоризм. Гипертрофированное внимание уделено Платоновым мифам-притчам: цитируются практически только они. Платоновский текст предстает лишь средством постижения самого Платона, возведенного в предмет поклонения, а не изучения или чтения.
1-я глава названа «Противодействующие (или «Враждебные…») силы» [Die gegenkräfte] и повествует о противостоянии надвременной [überzeitlich] платоновской империи софистам как началу, разлагающему и разъедающему греческую форму. Вопреки своему наименованию, они черпают силы из иррациональной и плотской почвы «и лишь ради страховки и обоснования обращаются к познавательным и научным вопросам»[163]. Интересно, что в упрек софистам ставится то же, что затем зачтется в заслугу Платону: второстепенность, служебный и даже вынужденный характер научной деятельности, правда, подчиненной у софистов злобной субверсии, у Платона – созиданию духовной империи. Софисты обрекли на проституцию понятие меры, отождествив ее с первым попавшимся самозванцем, с любым человеком (8). Софисты хотели навязать себя на роль посредников между знанием и человеком, но такое опосредование – яд для Афин. Они не нужны: как не нужен рапсод между поэтом и народом, книга между губами и ухом, так и в государстве нет места посреднику между вождем и народом (12). Первого борца с софистами, Сократа, потом некоторые попытались свести к рационалисту и открывателю индуктивного метода, тогда как он – подобно Шекспиру и Достоевскому – постигатель единства души и враг дробящего (само)анализа (14–15).
Единство, на котором так настаивает Фридеман, – это всегда единство образа, гештальта Платона, но не его творчества. Фридеман остается избирателен как в темах, так и в диалогах. Отбираются в конечном счете те, в которых наиболее явственно проступает родство с «духовным движением». Некоторые страницы книги можно целиком читать как программу не платоновской философии, а георгеанского круга. «Задача платоновской идеи» [die aufgäbe der Platonischen idee] состоит прежде всего в воспитании, в приведении души от хаоса к порядку. Но не только. Эта задача осмысляется Фридеманом через движение от эйдоса к идее (проблема их различения издавна и по сей день составляет один из камней преткновения платоноведения). Решение этой проблемы Фридеман совмещает с уяснением отношений между Сократом и Платоном. Центральным смыслом перехода от Сократа к Платону и было восхождение от эйдоса к идее, «оплодотворение эйдоса в идею» [die befrachtung des eidos zur idee, 22]. Если сократовский эйдос был лишь фиксированной и покоящейся сущностью, то платоновская идея есть начало, постоянно порождающее, растущее или увядающее, постоянно ищущее подтверждения и обновления. Такая конструкция позволяет Фридеману привлечь для дела и интерпретацию своего (бывшего) научного руководителя диссертации Пауля Наторпа, толковавшего идею как гипотезу (23). Но в целом книга оспаривает Марбургскую школу (24). Автор берется показать, в частности, что идея перерастает, преодолевает просто гипотезу: ибо там, где гипотезы не хватает, там, где не «отдается отчет» [Rechenschaft geben, logon didonai], там разум начинает озираться в поисках более высоких принципов («Федон» (101d)) (28). Но главное: «Гипотеза есть изначальное, лишь мыслительное принятие идеи; у зрелого же Платона идея уплотняется в культовый гештальт» (32). Однако Платон еще сам не полностью осознавал, что создавал культ идей, поэтому искать его в его диалогах не приходится (32–33).
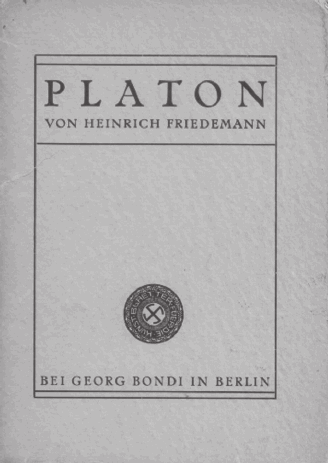 Обложка книги Генриха Фридемана «Платон. Его гештальт» (1914), репринтное переиздание 1931 года с послесловием Курта Хильдебрандта
Обложка книги Генриха Фридемана «Платон. Его гештальт» (1914), репринтное переиздание 1931 года с послесловием Курта Хильдебрандта
Субъективно такой культ переживается как упоение [Rausch], на которое еще надо быть способным (см. «mania как высший человеческий дар», 71), и в нем благо-agathon-благородство преодолевает гипотетическое (47–48). В прямое продолжение хильдебрандтова перевода и предисловия Фридеман подчеркивает нелогическую, но «жизненную», эротическую природу платонизма (54): «эрос и идея в сущности образуют Одно» (55). Эта порождающая сила отличает платоновского демона (эроса) от его лишь негативного предшественника и провозвестника, демона Сократа (60–61). Культ эроса мистериален и проходит – по схеме, которую уже упоминал Хильдебрандт, – через очищение (понятия эроса), мистическое посвящение (в смысл эроса в его земных проявлениях) и узрение (в лучах элевсинского озарения) (63). Эрос удерживает в единстве логику и «манию», тело и дух, сливая их в плоть [leib, 73], в «тесное сопряжение духа и тела» (89). Сегодня мы поклоняемся «греческой плоти», чьему благородству чужды и неразумное желание, и аскетичный разум (98).
Итак, Платон явлен здесь как далекий от чистой науки, но как воплощенная «царственная религиозная воля», для которой Сократ и его смерть послужили предметом культа, религии (105). Что было не по плечу Сократу (так как он был лишь провозвестником): объять всё, встроить человека в космос, основать империю – с тем справился ученик-послушник, способный на героизацию учителя (110) и на сплочение плотской (а не только законопослушной) общины (113). Ей свойственно напряженное единство господства и служения, характерное для «круга благородных», «внутреннего союза» (116–117).
Так истолкованный культ является полной противоположностью искусству, так как искусство и рождается там, где культ разъеден и распадается, где gesamtwerk, подобный дорийскому храму, уже невозможен. Отсюда удел художников в платоновском полисе (133–134). Недоговоренное договорил открытым текстом в послесловии к переизданию книги Фридемана в 1931 году Хильдебрандт: проникновение в Платона возможно только благодаря знакомству с Платоном-сегодня, с великим человеком современности (141 в издании 1931 года) (имелся в виду – если кто-то еще не понял – Штефан Георге).
Можно ли попытаться резюмировать книгу Фридемана, дать ее формулу? В нескольких местах в ней повсеместно присутствующий напряженно-напыщенный пафос выходит даже из собственных берегов и эксплицитно указывает на главную интуицию Фридемана. Она, кажется, не имеет прямого отношения к Платону, зато формулирует кредо некоего сакрального гуманизма. Головокружительный на грани безумия и вместе с тем почти детски-прямодушный текст поверяет читателю одно из самых страшных переживаний и откровений человека: всё – от человека, даже боги. Ужас и опьянение понявшего это мыслителя таковы, что он всей своей жизнью создает культ этого человеческого, но богоподобного творения. Цель культа – придать богопорождающему мгновению длительное бытие (32)[164]. Некое сублиминальное послание этого «головокружительного откровения» состоит, видимо, в том, что раз боги являются порождением человека, то человек и властен создать того или иного бога, выбрать, какого же бога он себе хочет. Человек (если он осенен теми же высокими идеалами, что и Духовное движение вокруг Георге) поэтому и волен выбрать себе в боги… Платона, следуя его, Платона, примеру построения философии как культа Сократа.
3. Реакция на книгу
1-я глава названа «Противодействующие (или «Враждебные…») силы» [Die gegenkräfte] и повествует о противостоянии надвременной [überzeitlich] платоновской империи софистам как началу, разлагающему и разъедающему греческую форму. Вопреки своему наименованию, они черпают силы из иррациональной и плотской почвы «и лишь ради страховки и обоснования обращаются к познавательным и научным вопросам»[163]. Интересно, что в упрек софистам ставится то же, что затем зачтется в заслугу Платону: второстепенность, служебный и даже вынужденный характер научной деятельности, правда, подчиненной у софистов злобной субверсии, у Платона – созиданию духовной империи. Софисты обрекли на проституцию понятие меры, отождествив ее с первым попавшимся самозванцем, с любым человеком (8). Софисты хотели навязать себя на роль посредников между знанием и человеком, но такое опосредование – яд для Афин. Они не нужны: как не нужен рапсод между поэтом и народом, книга между губами и ухом, так и в государстве нет места посреднику между вождем и народом (12). Первого борца с софистами, Сократа, потом некоторые попытались свести к рационалисту и открывателю индуктивного метода, тогда как он – подобно Шекспиру и Достоевскому – постигатель единства души и враг дробящего (само)анализа (14–15).
Единство, на котором так настаивает Фридеман, – это всегда единство образа, гештальта Платона, но не его творчества. Фридеман остается избирателен как в темах, так и в диалогах. Отбираются в конечном счете те, в которых наиболее явственно проступает родство с «духовным движением». Некоторые страницы книги можно целиком читать как программу не платоновской философии, а георгеанского круга. «Задача платоновской идеи» [die aufgäbe der Platonischen idee] состоит прежде всего в воспитании, в приведении души от хаоса к порядку. Но не только. Эта задача осмысляется Фридеманом через движение от эйдоса к идее (проблема их различения издавна и по сей день составляет один из камней преткновения платоноведения). Решение этой проблемы Фридеман совмещает с уяснением отношений между Сократом и Платоном. Центральным смыслом перехода от Сократа к Платону и было восхождение от эйдоса к идее, «оплодотворение эйдоса в идею» [die befrachtung des eidos zur idee, 22]. Если сократовский эйдос был лишь фиксированной и покоящейся сущностью, то платоновская идея есть начало, постоянно порождающее, растущее или увядающее, постоянно ищущее подтверждения и обновления. Такая конструкция позволяет Фридеману привлечь для дела и интерпретацию своего (бывшего) научного руководителя диссертации Пауля Наторпа, толковавшего идею как гипотезу (23). Но в целом книга оспаривает Марбургскую школу (24). Автор берется показать, в частности, что идея перерастает, преодолевает просто гипотезу: ибо там, где гипотезы не хватает, там, где не «отдается отчет» [Rechenschaft geben, logon didonai], там разум начинает озираться в поисках более высоких принципов («Федон» (101d)) (28). Но главное: «Гипотеза есть изначальное, лишь мыслительное принятие идеи; у зрелого же Платона идея уплотняется в культовый гештальт» (32). Однако Платон еще сам не полностью осознавал, что создавал культ идей, поэтому искать его в его диалогах не приходится (32–33).
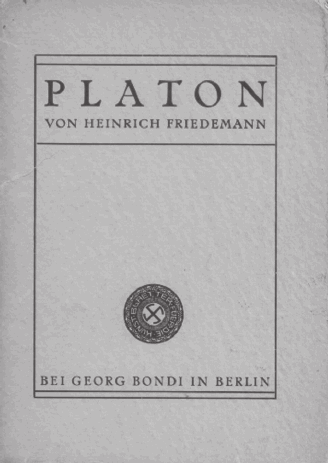
Субъективно такой культ переживается как упоение [Rausch], на которое еще надо быть способным (см. «mania как высший человеческий дар», 71), и в нем благо-agathon-благородство преодолевает гипотетическое (47–48). В прямое продолжение хильдебрандтова перевода и предисловия Фридеман подчеркивает нелогическую, но «жизненную», эротическую природу платонизма (54): «эрос и идея в сущности образуют Одно» (55). Эта порождающая сила отличает платоновского демона (эроса) от его лишь негативного предшественника и провозвестника, демона Сократа (60–61). Культ эроса мистериален и проходит – по схеме, которую уже упоминал Хильдебрандт, – через очищение (понятия эроса), мистическое посвящение (в смысл эроса в его земных проявлениях) и узрение (в лучах элевсинского озарения) (63). Эрос удерживает в единстве логику и «манию», тело и дух, сливая их в плоть [leib, 73], в «тесное сопряжение духа и тела» (89). Сегодня мы поклоняемся «греческой плоти», чьему благородству чужды и неразумное желание, и аскетичный разум (98).
Итак, Платон явлен здесь как далекий от чистой науки, но как воплощенная «царственная религиозная воля», для которой Сократ и его смерть послужили предметом культа, религии (105). Что было не по плечу Сократу (так как он был лишь провозвестником): объять всё, встроить человека в космос, основать империю – с тем справился ученик-послушник, способный на героизацию учителя (110) и на сплочение плотской (а не только законопослушной) общины (113). Ей свойственно напряженное единство господства и служения, характерное для «круга благородных», «внутреннего союза» (116–117).
Так истолкованный культ является полной противоположностью искусству, так как искусство и рождается там, где культ разъеден и распадается, где gesamtwerk, подобный дорийскому храму, уже невозможен. Отсюда удел художников в платоновском полисе (133–134). Недоговоренное договорил открытым текстом в послесловии к переизданию книги Фридемана в 1931 году Хильдебрандт: проникновение в Платона возможно только благодаря знакомству с Платоном-сегодня, с великим человеком современности (141 в издании 1931 года) (имелся в виду – если кто-то еще не понял – Штефан Георге).
Можно ли попытаться резюмировать книгу Фридемана, дать ее формулу? В нескольких местах в ней повсеместно присутствующий напряженно-напыщенный пафос выходит даже из собственных берегов и эксплицитно указывает на главную интуицию Фридемана. Она, кажется, не имеет прямого отношения к Платону, зато формулирует кредо некоего сакрального гуманизма. Головокружительный на грани безумия и вместе с тем почти детски-прямодушный текст поверяет читателю одно из самых страшных переживаний и откровений человека: всё – от человека, даже боги. Ужас и опьянение понявшего это мыслителя таковы, что он всей своей жизнью создает культ этого человеческого, но богоподобного творения. Цель культа – придать богопорождающему мгновению длительное бытие (32)[164]. Некое сублиминальное послание этого «головокружительного откровения» состоит, видимо, в том, что раз боги являются порождением человека, то человек и властен создать того или иного бога, выбрать, какого же бога он себе хочет. Человек (если он осенен теми же высокими идеалами, что и Духовное движение вокруг Георге) поэтому и волен выбрать себе в боги… Платона, следуя его, Платона, примеру построения философии как культа Сократа.
3. Реакция на книгу
Благожелательное восприятие книги Штефаном Георге стало вскоре известно всему Кругу. Он прочитал ее за одну ночь (до 4-х часов утра) и был ею глубоко потрясен[165]. Хильдебрандт рассказывал, что Георге назвал книгу «божественной» (göttliches Buch)[166]. Вайганд объясняет это впечатление отчасти тем, что Георге, вероятно, не знал «Политий» (а только «Пир» и «Федр»):
«Уже поэтому изложение, включающее в себя "Политик)" должно было открыть ему новый мир»[167].
Можно предположить, что книга Фридемана идеально вписалась в издательскую и в целом культурно-прагматическую стратегию Вольтерса и Хильдебрандта. Автор был молод, податлив, романтичен и под полным очарованием Мастера. Было очевидно, что университет книгу не примет, и что, следовательно, удастся навязать культурно-академическому сообществу логику оппозиции, противостояния (группки – миру, интеллектуальной церкви – университету, Хильдебрандта – как эксплицитно позитивно цитированного автора – Виламовицу и проч.). Было ли Георге, Вольтерсу или Хильдебрандту уже тогда ясно, что фридеманов труд не тянет на последний и окончательный Geist-Buch о Платоне? Вряд ли. По крайней мере, они попытались придать изданию книги всю силу эпохального культурного жеста. В своей «Немецкой духовной истории» Вольтере пишет: «Фридеман воздвиг [своей книгой] такой образ Платона, мимо которого в духовной Германии уже никто не мог пройти, не беря его за пример или антипример. Отныне есть взгляд на Платона до и после его сочинения, признаётся ли это открыто или трусливо умалчивается»[168].
Излишне добавлять сегодняшнему читателю, что этот факт трусливо умолчали все современные исследователи и читатели Платона. Книга Фридемана не состоялась как событие-водораздел, как веха в рецепции Платона. Уже сам Вольтере писал о ее «орфически-темном языке»[169] (разумеется, положительно: как о средстве «охватить в каждой частной проблеме весь цветущий платоновский космос»). Ее язык и, шире, код выглядел для современных читателей Платона досадным препятствием к его пониманию, а для многих членов Круга и близких к нему представлялся карикатурой на эссеистическую прозу «Листков для искусства». Георге не удалось заразить своим восхищением книгой других членов Круга. Гундольф, которому книга была посвящена («Friedrich Gundolf dem Führer und Freunde»), не смог не признать, что автор местами переборщил. Однако это искупается результатом: вместо «пучка проблем» мы увидели Платона-человека[170]. Эта оценка, на сегодняшний взгляд, скорее, взывает к желаемому, чем отражает действительное. В лучшем случае можно говорить об иконе, в худшем – о схеме. Чего-чего, но Платона-человека в книге нет. Трудно объяснить такое толкование. Неужели Гундольф не читал книгу? Это вряд ли возможно. Вероятно, имелся в виду Человек с большой буквы, монументальный миф о человеке, образ которого способен произвести определенный воспитательный и мобилизирующий эффект.
Впрочем, такое истолкование продержалось недолго. Оно меняется в 1919 году, когда выходит двухтомный «Платон» Виламовица. Георгеанцы не замедлили обрушиться на Виламовица с презрительной критикой, найдя у него как раз «Платона-человека», «Платона-мещанина», «Платона-в-пижаме». Фридемановский Платон предстанет теперь по контрасту героем, учредителем и объектом культа, опьяненным и опьяняющим. Теперь георгеанцы принялись подчеркивать во фридемановском Платоне не просто человека, а великого человека, Gestalt в смысле Круга. В своей книге 1933 года Хильдебрандт так подытожит эту перемену:
Университетское платоноведение по большей части никак не отреагировало на «эпохальную» книгу Фридемана. Редкие реакции были язвительными. Общий настрой книги в духе «умом Платона не понять» и утверждение, что знание только подводит к воротам, пропуск дает лишь приобщенность к духовной жизни, Ханс Ляйзеганг комментирует едко: «Ну уж родство с духовной жизнью автору заранее даровано через принадлежность к Кругу приближенных, к Георге и его духовности»[175].
Разумеется, рецензии «своих» были более чем позитивными. Эдит Ландман, впоследствии автор единственной собственно философской (или эпистемологической) книги, вышедшей под эгидой Круга, написала в своей хвалебной рецензии: «Платона нельзя было понять так, пока не существовало Георге. Но у кого при чтении "Политий" встают перед глазами черты Штефана Георге, тот обладает ключом, способным раскрыть все замыслы платоновского духа. Ибо здесь имеется глубочайшее родство: мыслитель и поэт – одной крови». Вернер Йегер (лидер «третьего гуманизма» и в силу этого соперник) ответил в письме к Эдит Ландман: что хорошего может получиться, если списать Платона с некоего Штефана Георге? Ландман обсуждала письмо Йегера лично с Георге, который высказался так: «Откуда же еще может быть познан Платон, как не из определенной наличной реальности? Если, как считает Йегер, лучше вообще не говорить о сути вещей, тогда античность – это замурованный храм. […] Для рождения нужны двое»[176].
«Уже поэтому изложение, включающее в себя "Политик)" должно было открыть ему новый мир»[167].
Можно предположить, что книга Фридемана идеально вписалась в издательскую и в целом культурно-прагматическую стратегию Вольтерса и Хильдебрандта. Автор был молод, податлив, романтичен и под полным очарованием Мастера. Было очевидно, что университет книгу не примет, и что, следовательно, удастся навязать культурно-академическому сообществу логику оппозиции, противостояния (группки – миру, интеллектуальной церкви – университету, Хильдебрандта – как эксплицитно позитивно цитированного автора – Виламовицу и проч.). Было ли Георге, Вольтерсу или Хильдебрандту уже тогда ясно, что фридеманов труд не тянет на последний и окончательный Geist-Buch о Платоне? Вряд ли. По крайней мере, они попытались придать изданию книги всю силу эпохального культурного жеста. В своей «Немецкой духовной истории» Вольтере пишет: «Фридеман воздвиг [своей книгой] такой образ Платона, мимо которого в духовной Германии уже никто не мог пройти, не беря его за пример или антипример. Отныне есть взгляд на Платона до и после его сочинения, признаётся ли это открыто или трусливо умалчивается»[168].
Излишне добавлять сегодняшнему читателю, что этот факт трусливо умолчали все современные исследователи и читатели Платона. Книга Фридемана не состоялась как событие-водораздел, как веха в рецепции Платона. Уже сам Вольтере писал о ее «орфически-темном языке»[169] (разумеется, положительно: как о средстве «охватить в каждой частной проблеме весь цветущий платоновский космос»). Ее язык и, шире, код выглядел для современных читателей Платона досадным препятствием к его пониманию, а для многих членов Круга и близких к нему представлялся карикатурой на эссеистическую прозу «Листков для искусства». Георге не удалось заразить своим восхищением книгой других членов Круга. Гундольф, которому книга была посвящена («Friedrich Gundolf dem Führer und Freunde»), не смог не признать, что автор местами переборщил. Однако это искупается результатом: вместо «пучка проблем» мы увидели Платона-человека[170]. Эта оценка, на сегодняшний взгляд, скорее, взывает к желаемому, чем отражает действительное. В лучшем случае можно говорить об иконе, в худшем – о схеме. Чего-чего, но Платона-человека в книге нет. Трудно объяснить такое толкование. Неужели Гундольф не читал книгу? Это вряд ли возможно. Вероятно, имелся в виду Человек с большой буквы, монументальный миф о человеке, образ которого способен произвести определенный воспитательный и мобилизирующий эффект.
Впрочем, такое истолкование продержалось недолго. Оно меняется в 1919 году, когда выходит двухтомный «Платон» Виламовица. Георгеанцы не замедлили обрушиться на Виламовица с презрительной критикой, найдя у него как раз «Платона-человека», «Платона-мещанина», «Платона-в-пижаме». Фридемановский Платон предстанет теперь по контрасту героем, учредителем и объектом культа, опьяненным и опьяняющим. Теперь георгеанцы принялись подчеркивать во фридемановском Платоне не просто человека, а великого человека, Gestalt в смысле Круга. В своей книге 1933 года Хильдебрандт так подытожит эту перемену:
Все восприимчивые [читатели] от Аристотеля до Ницше почитали Платонову божественность (там, где святыню не скрывали теоретико-познавательные строительные леса). Когда в конечном счете методическая наука стала скептичной по отношению сама к себе, она захотела закончить бесплодный спор тем, что поставила в центр Платона-человека. Но увидеть человека – это тяжелейшая задача, и недаром школярская наука в течение целого века безнаказанно занималась ровно противоположным. Так, беспомощно следуя за преходящей модой, путали человека с частным лицом, искали пижаму и будильник и довольствовались «слишком-человеческим». Ради Бога, только не Божественное в человеке! – казалось, молил протестантский совестливый страх, свидетельствовавший уже не о религиозной самоуглубленности, а о растерянности утратившего корни… В этот момент Фридеман в своей книге показал человека Платона с его божественным дыханием, его гештальтом[171].Воодушевленно пишет о книге Гундольфу его ученик и друг Вольфганг Хайер: «С каким блаженством углубляюсь я во многие темные страницы – каждую из них сначала приходится, так сказать, расшифровать – а потом всё становится исполненным светлой ясности и таким простым»[172]. Однако отнюдь не у всех георгеанцев книга вызвала тот же энтузиазм, что у Мастера. Нередким было критическое отношение к стилю, характеру письма. Глёкнер пишет Бертраму: «Жаль, что платоновская книга [Фридемана] движется такими кругами. Такую прозу скоро нельзя будет читать, и позже она будет воздействовать еще меньше, чем сегодня, когда всё-таки по крайней мере некоторые настроены на такую ее нежизненность благодаря манере Георге. Ученики всегда большие католики, чем папа римский, они перемастеривают мастера»[173]. Но и через полтора года чтение им книги еще не завершено! Он читает ее медленно и потому, что в газетах читать нечего[174].
Университетское платоноведение по большей части никак не отреагировало на «эпохальную» книгу Фридемана. Редкие реакции были язвительными. Общий настрой книги в духе «умом Платона не понять» и утверждение, что знание только подводит к воротам, пропуск дает лишь приобщенность к духовной жизни, Ханс Ляйзеганг комментирует едко: «Ну уж родство с духовной жизнью автору заранее даровано через принадлежность к Кругу приближенных, к Георге и его духовности»[175].
Разумеется, рецензии «своих» были более чем позитивными. Эдит Ландман, впоследствии автор единственной собственно философской (или эпистемологической) книги, вышедшей под эгидой Круга, написала в своей хвалебной рецензии: «Платона нельзя было понять так, пока не существовало Георге. Но у кого при чтении "Политий" встают перед глазами черты Штефана Георге, тот обладает ключом, способным раскрыть все замыслы платоновского духа. Ибо здесь имеется глубочайшее родство: мыслитель и поэт – одной крови». Вернер Йегер (лидер «третьего гуманизма» и в силу этого соперник) ответил в письме к Эдит Ландман: что хорошего может получиться, если списать Платона с некоего Штефана Георге? Ландман обсуждала письмо Йегера лично с Георге, который высказался так: «Откуда же еще может быть познан Платон, как не из определенной наличной реальности? Если, как считает Йегер, лучше вообще не говорить о сути вещей, тогда античность – это замурованный храм. […] Для рождения нужны двое»[176].
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
