Страница:
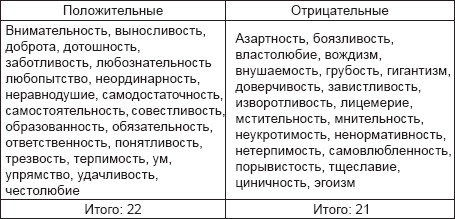
Не стану под каждую черту характера подводить теоретическую, психологическую или иным образом сформулированную базу, как не стану под каждую из них искать документальное подтверждение. Не потому, что недостаточно документов и первоисточников – за 20 лет работы в городской печати у меня их скопились горы, – а потому, что, во-первых, надеюсь написать еще более полный его портрет – эта неординарная личность того заслуживает, а во-вторых, потому, что каждый из тех людей, кто близко его знает и непосредственно общался, найдет подтверждение любой приведенной мною черты в зависимости от того, где, когда, при каких обстоятельствах встречался, какую занимал при этом должность и чего хотел добиться от встречи с мэром.
Стоило понаблюдать за встречей бывшего президента В. Путина с Ю. Лужковым, чтобы обратить внимание на поведение последнего. Насколько уверенно он вел себя на подобных встречах с Б. Ельциным, настолько хило выглядел на фоне нового лидера. Несмотря на все свои конфликтность и апломб, дескать, мы, москвичи, а я их мэр, наполняем вам три четверти бюджета страны, В. Путина он явно побаивался.
Держался скованно, неуверенно и нерешительно. Это отчетливо было видно по репликам и ответам с оттенком подобострастия, по стремлению угадать, какой ответ хочет услышать собеседник. Больно было смотреть, как признанный лидер Москвы, могущественный мэр, еще вчера внушающий своим политическим – и не только – противникам страх и уважение, мэр, позволяющий себе многое из того, что прочим губернаторам и не снилось при прежнем режиме, сидит пред ясными очами молодого президента и внимает, не роняя ни слова.
Не уголки, а все углы его губ – да где там углы – все его губы, плотно сжатые, будто боящиеся разомкнуться и брякнуть что-либо, опущены книзу с выражением крайнего напряжения. Или с выражением внутренней борьбы, свидетельствующей о внешнем признании того, что происходит вокруг, и внутренними противоречиями с новым порядком вещей.
Я смотрел тогда на его лицо и думал: если бы у него были усы, то в прежние годы, в те счастливые времена, когда он был на коне, когда мечтал о взятии Кремлевского холма, как советовал ему на одной из научно-практических конференций в здании мэрии на Новом Арбате его друг Ю. Афанасьев, они бы торчали у него, как у С. Буденного, и он пиками этих усов прокалывал бы встречных и поперечных – всех тех, кто мешал восшествию на заветный престол.
Теперь же они бы повисли, как у Тараса Бульбы на рисунке Кибрика, где Тарас изображен прикрученным к стволу, а под ногами у него разгорается пламя костра, разложенного проклятыми ляхами. И из последних сил, с неимоверным отчаянием и надеждой крикнет Тарас:
– Слышишь меня, сынку?
– Слышу! – отзовется Остап и вынужден будет быстро-быстро ретироваться, чтобы не схватили и его подлые ляхи и не привязали бы рядом с отцом.
Чувствовал ли Ю. Лужков огонь под своими пятками? Знал ли, что пламя уже охватило весь его мощный торс и осталось только крикнуть, как Тарас. Но кому? Как утверждал классик, иных уж нет, а те далече. Одних он сдал, других предал, третьи переметнулись, и он реально может рассчитывать только на себя и на ту силу, которая появилась у него за спиной не так чтобы недавно, но и не так, чтобы очень давно, каких-нибудь лет 7 – 10 назад. После того как разбогатела его жена и появления в ряду друзей и соратников В. Шанцева, богатых евреев, актерского и попсового бомонда из их числа.
Если вы не состоите при должностях, а трудитесь на стройке или танцуете с метлой в московском дворике, то можете рассчитывать при встрече на благосклонное, заботливое и внимательное отношение к себе со стороны градоначальника. Думаю, что у Лужкова оно искреннее, а не показушное, рассчитанное на публику, хотя за несколько последних лет он зауважал показуху больше, чем прежде.
Не знаю, насколько многочисленный сегодня в Москве рабочий класс, но наш бывший мэр в его глазах всегда пытался выглядеть радетелем, заботливым хозяином. При пуске, например, завода по производству минеральных вод «Московия» в Зеленограде он сказал:
– Все, что завершает упаковку и расфасовку, все это несовершенно. И выполнять их вручную, в рутинном режиме в течение восьми часов силами наших женщин – мужчина сразу сдохнет при такой работе – вещь недопустимая, вещь неприемлемая…
Или вот его высказывание на совещании по реконструкции Гостиного двора:
– Завершить, закрыть надо мансардную часть и чтобы в холодное время года люди не мерзли на улице, выполняя отделочные работы, не трудились в скованных условиях, в теплой одежде…
Подобных примеров заботы мэра о рабочих можно привести великое множество, как, кстати, и о рядовых москвичах. Как утверждает сам Ю. Лужков, ему «в народ» ходить не надо, он, дескать, никогда из него не выходил. Возможно. Его просто вывели через черный ход окружающие его прихлебатели и искатели мест.
По-другому он разговаривает с руководителями различных рангов и положения в городских организациях. Чиновнику, который на стройплощадке Лужников пожаловался, что не получает зарплату в течение нескольких месяцев, он сказал:
– По цвету вашего лица не скажешь, что вы с марта месяца не получаете денег.
Или его замечание по поводу проекта противопожарной безопасности одного из объектов:
– Совершенно по-дикому выставлены эти требования! Просто садист человек. Я думаю, не просто садист, а враг! Это не проектант сидел – враг, которому нужно было вколотить деньги…
Хороший перл выдал Ю. Лужков на планерке по строительству Новой Олимпийской деревни на улице Удальцова:
– Кофман! – крикнул он. – Хватит пить!
Не могу сказать, что пил Кофман, бывший в то время председателем Комитета по физкультуре и спорту г. Москвы, просто констатирую: грубость обращения мэра прямо пропорциональна занимаемой чиновником должности.
– У меня масса друзей, среди которых есть и никому в Москве не известные люди, – говорит бывший мэр, – но от этого они мне не менее дороги. Искренняя дружба предполагает равенство человеческих качеств, а не регалий. У меня допоздна звонит телефон, и в любое время суток может ввалиться в дом кто-либо из тех, кого я давным-давно хотел бы увидеть, но все не удавалось.
А ковался этот необычный, противоречивый и неординарный характер на Москве Павелецкой-Товарной среди самой обычной, самой затрапезной публики. Вот как вспоминает о своем «золотом детстве» сам мэр:
– Начальная школа была через дорогу. Лужи не просыхали ни летом, ни зимой. Рядом со школой расположилась пивнушка, где два пожилых еврея, Гриша да Аркаша, торговали пивом, водкой, закуской. Здесь была и проходная завода, мужички, выходя со смены, прикладывались. Некоторые теперь говорят: пьяных тогда было мало. Были, и немало.
Как водится, тут же и мы крутились – девки, ребята. И забавы у нас были под стать времени – самые разнообразные, порой до жестокости. Железная дорога – под боком, снаряды возили на ней на фронт и с фронта. Стащим, бывало, снаряд с платформы, сунем в костер и ждем, пока рванет. Рвало так, что углы домов выворачивало. Поджоги всякие в моде были, шпаги из проволоки – все было.
Как-то купил за кило сахара у Линусика с нашего двора ружье старинное – то ли с латунным, то ли с медным стволом, боек ему приделал, приспособил резину вместо спускового крючка. Не знал только, сколько пороху в патрон набивают, думал – под завязку. Набил два патрона, лист железный нашел – и айда с пацанами на водокачку – пробовать. Нажал на спуск – и больше ничего не помню, память отшибло напрочь. Очухался, вижу – все пацаны вокруг лежат, ложе моего ружья в щепках, лист железный весь дробью прошит – сработало! А что никто из нас серьезно не пострадал – слава Богу! Повезло.
Вообще-то пальнуть всегда тянуло, война закончившаяся действовала, может, инстинкт какой – не знаю. Только желание стрельнуть было неистребимо, прямо чесотка какая-то, честное слово!
* * *
Была у нас и такая забава – дразнить пожарных. Разожжем, бывало, костер под дверью пождепо, дверь чем-либо подопрем и ждем, когда они начнут выскакивать. Тогда мы – врассыпную!Но однажды они нас здорово наказали. Депо их было двухэтажным, с плоской крышей – с одной стороны высокая стена, а с другой – низкая. Мы любили влезать на крышу – и далеко видно, и пожарных лишний раз подразнить хотелось. А они как-то забрались по пожарной своей лестнице с низкой стороны и стали нас теснить к краю высокой. Деваться некуда: либо сдаваться на милость победителей, либо прыгать на шлак, кирпичи, стекла, что валялись под стенами. И, кроме того, высота приличная, прыгать рискованно. Но сдаться означало быть битыми, и мы все, как один, решили прыгать. Прыгнули, в общем, удачно, один только парень ногу сломал.
Конечно, похулиганить мы были горазды, как, наверное, все пацаны такого возраста. Ацетилен добыть, сделать гремучку, рвануть – все было. Но – не воровали. Ждали, когда с хлебозавода вывезут шлак, чтобы покопаться в нем, попробовать отыскать куски обуглившегося теста.
По весне мать лепешечки нам всякие пекла с травой съедобной – крапивой, лебедой, кореньями разными – все годилось. И развлечения были весенние. Крюком снаряжали железный лист, цеплялись за автобус – и айда по набережной до картонажной фабрики. Ни один водитель не успевал нас настигнуть – пока остановит автобус, выйдет, а нас уже и след простыл. Ищи-свищи. Правда, однажды чуть не доигрались. Лист на ходу стал так сильно раскачиваться, что его то и дело выносило на встречную полосу. Вынесло в очередной раз, смотрим – а навстречу полуторка мчит со страшной скоростью…
Надо заметить, что ни сам Ю. Лужков, ни все прочие авторы не избежали синдрома Павелецкой-Товарной, пересказывая, перепевая «босоногое детство» любимого героя на все лады. А когда он мне про все это рассказывал, я невольно обратил внимание на гладкость, последовательность, некую ритмичность его речи. И подумал – правда несколько позже, что он, видимо, рассказывает об этом не в первый раз. Что и подтвердилось, когда он выпустил свою книгу. Его записывающий передал обстановку двора Павелецкой-Товарной тех лет почти теми же самыми словами, что и я. И это не удивительно, поскольку рассказчик был один и тот же.
Так мой отец в возрасте за 80 лет каждый год рассказывал о событиях Гражданской войны, коллективизации – а я ездил на родину 10 лет подряд, чтобы дети запомнили, откуда есть пошли их корни, – повторяя одни и те же эпизоды, почти ничего не добавляя и не придумывая ничего нового.
Когда нынче «польские товарищи» предъявляют претензии за расстрелы их сограждан, вспоминаю рассказ отца о том, как сидел он в 1922 году в польском плену, в каких условиях содержали красноармейцев и сколько их умирало каждый день от голода (в основном), холода и болезней. Возможно, цифра в 20 тысяч и занижена!
Отец выжил благодаря тому, что нашелся земляк, который кашеварил на кухне и пристроил моего родителя мыть котлы – это его и спасло.
Коллективизация в нашем селе проходила, как и везде, – самые нищие, самые ленивые и нетрудоспособные жители ходили с маузерами на боку и загоняли людей в колхоз.
– Он приходит с наганом – что ты сделаешь? – разводил руками отец.
Как-то эти ребята пришли к нему и говорят:
– Саш, пойдем к Ваньке клуню ломать!..
– Я эту клуню не строил и ломать ее я не буду, – ответил мой Александр Стефанович, и я горжусь его стойкостью и мужеством.
В тот раз никто за такой демарш отца не тронул, но в 1943 году он все-таки «загремел» по 58-й статье на 10 лет и вернулся после смерти Сталина, в 1955 году.
Теперь убеждайте меня, сталинисты, что репрессий не было.
Ю. Лужков тоже вспоминал, как его отец работал в колхозе в Тверской области.
– Отец, Михаил Андреевич, рванул из своей тверской деревни в Москву сразу после первой голодной зимы, которая пришла на втором году коллективизации. В первый-то год все работали, трудодни отоваривали зерном, так что зимовали сытно, хотя и были босы. А на втором году народ в колхозе задурил. Люди разобрались: чтобы получить трудодень, не обязательно работать до седьмого пота, в коллективе этого все равно не видно. А в результате к весне чуть ноги не протянули…
Как-то спросил Ю. Лужкова: а что это вы не пьете? Во-первых, не по-русски, а во-вторых, извините, вы росли в такой среде, в такой атмосфере, на таком фактическом материале, что Воронья Слободка и описание рабочих в романе «Мать» – просто вершины и архитектуры, и интеллектуальной мысли.
Ю. Лужков думал недолго. Видно, привык к подобного рода вопросам и ответ всегда был под рукой. Он сказал, что в юности прочитал книги Мельникова-Печерского и быт старообрядцев настолько ему понравился, а их внутренняя чистота и красота, не говоря уже о преданности Вере и Богу, настолько поразили, что он решил раз и навсегда отказаться от спиртного и табака.
– Наблюдая ваше поведение на публике, оценивая всю деятельность, которая проходит на виду у такого города, как Москва, трудно поверить, что вы такой впечатлительный – под влиянием книжки окончательно и бесповоротно покончили со спиртным. Тем более что к тому времени вы уже должны были знать: на непьющих у нас на Руси смотрят как на юродивых. Может, существует тайная причина?
– Зрелость души и мысли к каждому человеку приходит в его время – к одному раньше, к другому позже. И по зрелому размышлению каждый индивидуум задумывается, как реализовать свой потенциал, который, я убежден, заложен в каждом. А реализовать его можно только на основе самоограничения, отказа от того, что мешает. Но одного размышления и одного понятия мало – нужны воля, желание и упрямство. У меня есть эти три качества. И мне удалось сделать то, что я сделал.
– Вы что, три десятилетия назад знали, что станете первым человеком на Москве?
– Не впервые беседую с вами, и обязательно у вас в запасе находится какой-либо каверзный вопрос, чтобы не сказать хуже. При чем тут знал, не знал… Просто я всегда любил работать – помните, говорил, что нас мама приучила к труду, – и по сей день убежден: трудолюбие – это единственное, что у человека отнять невозможно. Вот вы сами пьете?
– Пятый день в рот не беру, готовлю к печати интервью с вами.
– Видите как! Значит, когда время поджимает и надо многое успеть, рюмка – большая помеха. А мне почему-то всегда хотелось успеть многое, всегда не хватало времени.
– Скажите, вы доверяете людям, которые работают рядом?
– Доверяю, иначе как работать. Делать все самому? Но любой звеньевой на стройке знает, что одному управиться с дневным заданием невозможно – пупок развяжется. Для того и существует аппарат управления, руководители и исполнители, чтобы проводить в жизнь то, что необходимо, что принято и утверждено, что нужно городу и людям, в нем живущим, – убежденно говорит Ю. Лужков.
Я долго верил в искренность его слов о причине трезвого образа жизни. До тех пор, пока не наткнулся совершенно случайно в одном из журналов на свидетельства людей, близко знавших его со студенческой скамьи.
«Сколько мы с ним выпили водки в свое время – мало не покажется! – рассказал журналистам приятель Лужкова по институту Виктор Березин. – На Калужской площади был кинотеатр «Авангард» – там сейчас здание МВД. Рядом с ним стояли палатки голубого цвета (в просторечии – «Голубой Дунай» – М.П.), где все продавалось, как теперь в рюмочных. Мы регулярно их посещали. Прогуливали тоже немало. В основном потому, что рядом был парк Горького, а там – пивные палатки, девочки – что еще надо?»
Подтверждает плевое отношение к учебе на первых курсах и сам Ю. Лужков:
– Студенческая жизнь началась бурно. Как всегда, резкий переход от обязательного посещения школы к необязательному вроде бы посещению института сыграл не очень хорошую шутку. Тогда ведь такого контроля за посещением, который ввели позже, попросту не было – староста отмечал присутствие, редкий преподаватель перепроверял его. Конечно, мы тут же начали пользоваться предоставленной свободой, попросту прогуливать. Уходишь из дома как будто на занятия, а сам в кино, парк Горького, благо он рядом с институтом. Студенческая жизнь захватила полностью, особенно, если учесть, что в школе девчонок не было, а тут мы учились все вместе.
В результате еле-еле одолел первый курс, думаю, закончил только благодаря хорошей подготовке в школе. В институте же учеба давалась легче. Две ночи не поспишь, поучишь в круглосуточном режиме – и твердая троечка обеспечена.
К концу второго года обучения понял: если так будет продолжаться, то мне не достигнуть поставленной элементарной цели – окончить институт и получить диплом. Но ни о каких высоких должностях, чинах и прочем я не мечтал и к ним не стремился. Но честолюбие подогревало: чем я хуже тех ребят в группе, которые учатся хорошо?
Так, через два года вольготной жизни я понял, что при ней капитальных знаний не получу, и поэтому начал новую жизнь. Честолюбие подгоняло меня, я стал повторять то, что описал Джек Лондон в «Мартине Идене», кстати, мне этот роман очень нравится.
В дополнение к ежедневному институтскому заданию я отматывал обратно катушку своих нетвердых знаний и учил. К концу второго года начал сильно удивлять преподавателей. Они ведь не знали, что сплю всего 4 часа в сутки, не знали, что буквально палкой мамаша каждую ночь гнала меня спать, перед ее глазами был пример соседской девчонки, которая не выдержала напряженной учебы и попала в больницу. Не секрет, однако, что, взявши зачетку студента, каждый преподаватель сперва смотрит, какие у него оценки, а потом начинает спрашивать. При этом он невольно ориентируется на своих коллег, и больше четырех баллов мне сперва не ставили, но все зависело от меня. А может, они думали, что это временное явление и скоро я снова вернусь на прежнюю дорожку.
Но я сдюжил. Перелом наступил через полгода, в очередном семестре, когда я вышел на уровень отличных оценок. Правда, однажды меня чуть не вышибли. Не знаю, что нами двигало, кроме желания пошалить, похохмить. Короче, с Витей Березиным, дружком моим, пошли сдавать зачет по оборудованию не под своими фамилиями. Он прикинулся Лужковым, а я – Березиным. Причем никакой особой идеи в этом поступке не было, никаких, как сказали бы теперь, корыстных устремлений. Просто от избытка сил и молодости затеяли мы подобное действие. Но преподаватель, которому сдавали, нас вычислил. Это было нетрудно, так как мы ходили к нему на семинары и он нас знал в лицо.
И подал докладную ректору. Такие штучки карались в то время сурово. Ректор Кузьма Фомич Жигач был добрейшей души человек, долго нас он расспрашивал: зачем один и тот же зачет в одно и то же время сдавать одному и тому же преподавателю, да еще не под своей фамилией? Что мы могли сказать на это? Мы и сами толком не знали, зачем так сделали. Словом, Кузьма Фомич нас понял, приказ о нашем отчислении не подписал, зато нас с Виктором этот случай здорово отрезвил – мы поняли, что переступили грань, за которой начинается недозволенное.
И продолжали с интересом учиться. Сопромат до сих пор помню, могу и сейчас балку рассчитать, эпюру построить, многое помню. Или взять такую чудесную науку, как металловедение, или лекции по приборам, нефтяному оборудованию. Среди преподавателей не было равнодушных людей, они были увлечены своими предметами, и увлечение их передавалось нам. Профессор Лапук, например, читал гидравлику. Наука еще та, сложная, сплошь формулы, режимы. И эту сухую информацию он подавал так, что к нему на лекции народ сходился как на представление – всегда было больше людей, чем числилось по спискам групп.
Помню случай, когда профессор завоевал большой авторитет, сказав всего одну фразу. Надо заметить, что занимались мы часто в неподходящих для этого условиях (снимали помещения, где находили), часто поздно вечером, в третью смену. Сидим однажды в аудитории – и свет погас. Самый подходящий случай себя показать, хотя на людей посмотреть невозможно. Студенты ведь не только интеллигентный народ, но еще и едкий. Вот один из однокашников в темноте громко заметил: «Темно, как у негра в…» Кто-то хихикнул, кто-то испытал неловкость, но остроумнее всех оказался преподаватель. Он сказал: «Мне очень хотелось бы познакомиться с человеком, который везде побывал!»
Причем сказал он это вслед за фразой студента, тут же, не задумываясь, не воспитывая, не изображая обиженную нравственность. Можете себе представить, как вырос после этого его авторитет в студенческой среде, а случай этот еще долго имел хождение в Москве как анекдот.
Не однажды приходилось мне применять на практике полученные знания. И удивляюсь, когда говорят: институт ничего не дает, учиться, дескать, не обязательно. Ерунда все это! Если знания глубокие, а работа связана с полученной специальностью, то применение знаниям всегда найдется.
А вообще учеба мне запомнилась как большой и светлый праздник. Бывали всякие минуты. Например, выходила у нас подпольная газета, такая тетрадочка, передаваемая из рук в руки, всякие штучки в ней публиковались. Пристал как-то комсомольский секретарь: покажите, дескать, что там у вас. Мы поняли: атас. Стали искать газетку побезобиднее, отдали, все на этом и кончилось, слава богу.
Каждое время рождает свой взгляд на студенчество, условия их жизни. В наше время в основном это были бедные, малообеспеченные люди, зато веселые и бесшабашные. Если кто-то из ребят начинал выкобениваться, его быстро ставили на место.
Питались во время занятий пирожками, выходила крупная такая тетя каждую перемену, выносила пирожки с повидлом и мясом – полтинник все удовольствие. А кому нужны были деньги – пожалуйста, на линию, там заработаешь, чтобы потратить на вечеринку.
Пришлось побывать и на целине: когда учился уже на четвертом курсе, отряд из 57 человек отправился в Казахстан, возглавлял его известный теперь человек Владиславлев – он тогда в комсомоле заворачивал. Условия были невероятные. Я поранил руку, а до центральной усадьбы – 40 километров, естественно, никто меня туда не повез.
Приезжал в отряд член ЦК компартии Казахстана Беляев, убеждал, что надо хорошо работать, что очень важно собрать урожай. Я слушал-слушал, а потом и говорю: мы, дескать, сюда затем и приехали, чтобы не дать пропасть урожаю, нас подгонять не надо, и это была сущая правда, я даже знак получил «За освоение целинных земель» вместе с однокашником Борисом Захаровым. Ребята потом его носили по очереди на экзамены: посмотрит преподаватель – целинник, глядишь, поблажечка выйдет. Хотя, как правило, такие трюки мало помогали.
Да, а Беляеву этому я и говорю: вы лучше скажите, почему здесь выращивают море пшеницы, а продают только ржаной хлеб с песком, от которого целый день на зубах хрустит. В автолавке – только конфеты «Золотой ключик» – на всю жизнь след оставили на зубах. Ботинок – и тех нет, хотя многие из нас порядком поизносились, бродили без обуви, зато у каждого карманы были набиты деньгами, мы бы сами себе могли все купить.
Реакция секретаря была моментальной: вы, дескать, работник тут временный, вам не положено никаких таких товаров, лучше бы слушали, что вам старшие говорят.
А вам бы, возражаю, постоять у штурвала комбайна, да пыль поглотать, да камни бы поотбрасывать, да зерно жевать из бункера вместо хлеба.
Он быстро свернул программу и с собой увез Владиславлева, требовал исключить меня из комсомола, передать протокол в институт, чтобы тоже выгнали. Саша Владиславлев собрал комсомольскую организацию, меня обсуждали, но вожака не поддержали. Я со своим упрямством заявил: виноватым себя не считаю, Беляев не ответил на мои вопросы, вы все тому свидетели. Не очень настаивал и сам Саша на том, чтобы меня исключили. Ограничились замечанием, но преследовали меня до самой Москвы, говорят, даже были попытки из Алма-Аты надавить на институтское начальство, чтобы меня выперли, но подробностей я не знаю. А может, учитывая, что я учился хорошо, они на все это махнули рукой. Язык мой не раз меня подводил. Помню, однокашник Борис Стальнов пригласил отобедать у него дома, мы, ясное дело, не отказались. Отец у него был полковник КГБ, мамаша приветливая. Все было хорошо до того момента, пока я не шмальнул про Сталина, про репрессии: дескать, он не должен нами так почитаться, как теперь. Полковник побелел, а жена его чуть не выронила из рук гору тарелок. Правда, и на этот раз все мне сошло с рук, хотя Борису, думаю, досталось. Чтоб знал, кого в дом приглашал.
Учеба закончилась как-то неожиданно, и не таким распределением, о котором я мечтал. А мечтал я пойти «пускачом», то есть запускать автоматику новых комплексов, новых нефтяных промыслов, производств. Во сне видел себя в этой роли, и все вроде бы должно было получиться.
Я шел на распределение четвертым и мог надеяться, что мечта осуществится. Ведь при распределении первый выбирал из списка то, что хотел, второй – кроме того, что выбрал первый, и так далее. Никто не позарился на мое место. Но едва я вошел, как мне сказали: а вас мы направляем на ВНИИпластмасс, поскольку пленум ЦК проголосовал за химизацию и прочее, и прочее. Я отказался. Это, говорю, несправедливо. И ладно бы метил на тепленькое местечко, а то ведь согласен был на грязную, тяжелую работу, лишь бы по душе. А мне: вы, товарищ, не понимаете задачу, поставленную партией и правительством. Идите и подумайте. Примерно через месяц позвонила секретарша декана: Юра, говорит, ты можешь остаться без диплома, комиссия из министерства решает, что делать с теми, кто отказался.
