Страница:
– То есть как?
– А так. Ребята, сюда!
– Ничего себе! Они что, все это время за углом прятались?
– Ну да. Ребята, поехали увертюру!
– Ни фига себе! Такого я еще не видел! А откуда оркестр?
– Как откуда? Из театра. Вот из этого самого.
–То есть... а сейчас там кто играет? Спектакль же вот-вот начнется.
– Не начнется.
– Почему?
– Потому что некому начинать. Мы все здесь, на улице.
– Мы все? А вы тогда кто?
– Я? Я там пою. Онегина. Меня от него уже тошнит.
– От Онегина? Но почему? Онегин – это же...
– Так. Давайте договоримся: про Онегина ни слова. А то я за себя не отвечаю. У меня удар правой – двести килограмм.
– Да что вы такой нервный?
– Я эту роль ненавижу! Всю жизнь Ленского мечтал спеть. А они не дают. Штатное расписание менять, говорят, придется, путаница начнется в бухгалтерии, афиши новые печатать и так далее. Послал их подальше и ушел. Зато здесь могу петь, кого хочу. Хоть Татьяну.
– С ума сойти! А оркестр что – тоже хочет играть Ленского, а не Онегина?
– Оркестру все по барабану. Пол-литра на рыло, и они весь вечер мои. Дирижеру литр.
– Да-да, конечно... И что, завтра тоже так?
– Нет, почему же? Завтра «Лебединое озеро». Приходите за полцены. Вам одна барышня здесь на тротуаре так Одиллию станцует – закачаетесь. Только не вздумайте ее спрашивать про Одетту. У балерин удар ногой – до одной тонны. Ну, до завтра.
Из запасных книжек
Между корнями и кроной
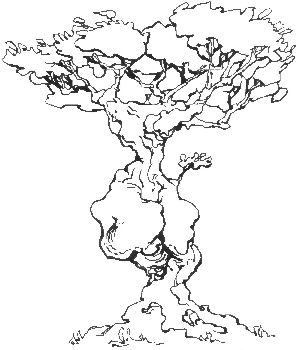
1
2
– А так. Ребята, сюда!
– Ничего себе! Они что, все это время за углом прятались?
– Ну да. Ребята, поехали увертюру!
– Ни фига себе! Такого я еще не видел! А откуда оркестр?
– Как откуда? Из театра. Вот из этого самого.
–То есть... а сейчас там кто играет? Спектакль же вот-вот начнется.
– Не начнется.
– Почему?
– Потому что некому начинать. Мы все здесь, на улице.
– Мы все? А вы тогда кто?
– Я? Я там пою. Онегина. Меня от него уже тошнит.
– От Онегина? Но почему? Онегин – это же...
– Так. Давайте договоримся: про Онегина ни слова. А то я за себя не отвечаю. У меня удар правой – двести килограмм.
– Да что вы такой нервный?
– Я эту роль ненавижу! Всю жизнь Ленского мечтал спеть. А они не дают. Штатное расписание менять, говорят, придется, путаница начнется в бухгалтерии, афиши новые печатать и так далее. Послал их подальше и ушел. Зато здесь могу петь, кого хочу. Хоть Татьяну.
– С ума сойти! А оркестр что – тоже хочет играть Ленского, а не Онегина?
– Оркестру все по барабану. Пол-литра на рыло, и они весь вечер мои. Дирижеру литр.
– Да-да, конечно... И что, завтра тоже так?
– Нет, почему же? Завтра «Лебединое озеро». Приходите за полцены. Вам одна барышня здесь на тротуаре так Одиллию станцует – закачаетесь. Только не вздумайте ее спрашивать про Одетту. У балерин удар ногой – до одной тонны. Ну, до завтра.
Из запасных книжек
• Экзамен – это место, где спрос превышает предложение.
• Мама, а правда, у Христа было 12 остолопов?
• Крах личной жизни: вчера не дала правая рука.
• Еда по-македонски: двумя ложками на бегу.
• Не твое доброе дело!
• Табличка на двери врача: «Лечитесь, а то умру!».
• Интроверт! Хочешь жить – умей экстравертеться.
• – Жене вчера исполнилось 30. Я ей купил букет роз по числу лет.
– Что, 30 роз?
– Нет, что ты! За 30 центов.
• Основная проблема современной поп-музыки – это синхронизация фонограммы с голограммой.
• От неграмотных тоже бывает польза. Один такой, например, изобрел письменность.
• – Алло, полиция? У меня уже вторую неделю по ночам какие-то странные звонки.
– С угрозами?
– Не знаю. Они говорят: «Береги себя, донор».
• Parking им. Горького.
• – Представляешь, на меня вчера наехали.
– Что, деньги задолжал?
– Нет, улицу переходил.
• Сатир без юмора – это просто козел.
• Каждое утро он бегал за пивом, но так ни разу его и не догнал.
• Итак, во сколько и где мне быть у тебя в восемь?
• Самое вкусное – это сочетание холестерина с канцерогеном.
• Ученые изобрели таблетки от голода: они очень большие и делаются из мяса.
• Избиратель, помни! Беспорядочное голосование ведет к преждевременному волеизъявлению.
• – Пап, а меня в капусте нашли?
– А как же. Затрахались искать.
• Хочешь сеять разумное, доброе, вечное? Тогда паши!
• В отделение банка вошел человек и вручил сотруднице записку со словами: «Это изнасилование».
• Работники одной из птицеферм доказали, что птичий грипп не передается от птицы человеку половым путем.
• Я хочу знать, что ваш сын сделал с моей дочерью, что она забеременела?
• Если бы я был артистом, я бы целыми днями ездил по банкетам, пил французский коньяк, жрал черную икру, трахал поклонниц, получал большие гонорары и ни хрена не делал. Вот за это я их, артистов, и ненавижу.
• Русский любовный треугольник: я люблю ее, она любит другого... Короче, третьим будешь?
• Соседку страстно он любил
И целовал ее в мечтах.
Потом поймал ее в кустах
И дважды стал насильно мил.
• Посторонним исход воспрещен.
• Только русский способен понять такую фразу: «Давай сначала по первой и тут же по второй, потом первое, потом по третьей и по четвертой, потом второе. А между вторым и третьим можно по пятой и по шестой».
• – Как насчет поужинать сегодня вдвоем?
– Сегодня не могу. В шесть придет водопроводчик.
– Что, трубы менять?
– Какие трубы, у нас любовь!
• «Гамар джоба» в переводе на русский означает «работу закончил».
• Если враг не сдается, его не арендуют.
• Ради нее он совершал всяческие безумства: надевал светлые брюки, ел мучное, а однажды вообще ушел с работы на семь минут раньше.
• Должность: замкосмополит.
• Какой же это разврат? Это – человеколюбие.
• Из двух зол следует выбирать то, которое дешевле.
• Сиди и не дивиди.
• Четыре года мать без сына,
На пятый все же родила.
• Его величество отвозлежал ногу.
• – Представляете, убил ее прямо у себя дома! Они разговаривали у открытого окна, и вдруг он ее туда столкнул.
– Так там же первый этаж.
– Ну и что? Окно было отравлено!
• Объявление в самолете: «Пассажиры, нарушающие правила, будут оставлены в первом классе на второй год».
• Полиция разыскивает нубийца, подозреваемого в двух нубийствах.
• Самое ужасное преступление – это геноцид (Крокодил Гена).
• У семи нянек дитя без глазу (Одиссей).
• Ну и рожа! Это даже не Пятница, это Пятница, 13-е (Робинзон Крузо).
• Что у бедного еврея на ужин? Гефилте шиш.
• Этикетка: «Набор хромосомный подарочный».
• Ой, это же такое жулье! У них в квартире даже воздух – и тот спертый.
• Машенька, сделай дяде ручкой. Только медленно!
• Мама, а правда, у Христа было 12 остолопов?
• Крах личной жизни: вчера не дала правая рука.
• Еда по-македонски: двумя ложками на бегу.
• Не твое доброе дело!
• Табличка на двери врача: «Лечитесь, а то умру!».
• Интроверт! Хочешь жить – умей экстравертеться.
• – Жене вчера исполнилось 30. Я ей купил букет роз по числу лет.
– Что, 30 роз?
– Нет, что ты! За 30 центов.
• Основная проблема современной поп-музыки – это синхронизация фонограммы с голограммой.
• От неграмотных тоже бывает польза. Один такой, например, изобрел письменность.
• – Алло, полиция? У меня уже вторую неделю по ночам какие-то странные звонки.
– С угрозами?
– Не знаю. Они говорят: «Береги себя, донор».
• Parking им. Горького.
• – Представляешь, на меня вчера наехали.
– Что, деньги задолжал?
– Нет, улицу переходил.
• Сатир без юмора – это просто козел.
• Каждое утро он бегал за пивом, но так ни разу его и не догнал.
• Итак, во сколько и где мне быть у тебя в восемь?
• Самое вкусное – это сочетание холестерина с канцерогеном.
• Ученые изобрели таблетки от голода: они очень большие и делаются из мяса.
• Избиратель, помни! Беспорядочное голосование ведет к преждевременному волеизъявлению.
• – Пап, а меня в капусте нашли?
– А как же. Затрахались искать.
• Хочешь сеять разумное, доброе, вечное? Тогда паши!
• В отделение банка вошел человек и вручил сотруднице записку со словами: «Это изнасилование».
• Работники одной из птицеферм доказали, что птичий грипп не передается от птицы человеку половым путем.
• Я хочу знать, что ваш сын сделал с моей дочерью, что она забеременела?
• Если бы я был артистом, я бы целыми днями ездил по банкетам, пил французский коньяк, жрал черную икру, трахал поклонниц, получал большие гонорары и ни хрена не делал. Вот за это я их, артистов, и ненавижу.
• Русский любовный треугольник: я люблю ее, она любит другого... Короче, третьим будешь?
• Соседку страстно он любил
И целовал ее в мечтах.
Потом поймал ее в кустах
И дважды стал насильно мил.
• Посторонним исход воспрещен.
• Только русский способен понять такую фразу: «Давай сначала по первой и тут же по второй, потом первое, потом по третьей и по четвертой, потом второе. А между вторым и третьим можно по пятой и по шестой».
• – Как насчет поужинать сегодня вдвоем?
– Сегодня не могу. В шесть придет водопроводчик.
– Что, трубы менять?
– Какие трубы, у нас любовь!
• «Гамар джоба» в переводе на русский означает «работу закончил».
• Если враг не сдается, его не арендуют.
• Ради нее он совершал всяческие безумства: надевал светлые брюки, ел мучное, а однажды вообще ушел с работы на семь минут раньше.
• Должность: замкосмополит.
• Какой же это разврат? Это – человеколюбие.
• Из двух зол следует выбирать то, которое дешевле.
• Сиди и не дивиди.
• Четыре года мать без сына,
На пятый все же родила.
• Его величество отвозлежал ногу.
• – Представляете, убил ее прямо у себя дома! Они разговаривали у открытого окна, и вдруг он ее туда столкнул.
– Так там же первый этаж.
– Ну и что? Окно было отравлено!
• Объявление в самолете: «Пассажиры, нарушающие правила, будут оставлены в первом классе на второй год».
• Полиция разыскивает нубийца, подозреваемого в двух нубийствах.
• Самое ужасное преступление – это геноцид (Крокодил Гена).
• У семи нянек дитя без глазу (Одиссей).
• Ну и рожа! Это даже не Пятница, это Пятница, 13-е (Робинзон Крузо).
• Что у бедного еврея на ужин? Гефилте шиш.
• Этикетка: «Набор хромосомный подарочный».
• Ой, это же такое жулье! У них в квартире даже воздух – и тот спертый.
• Машенька, сделай дяде ручкой. Только медленно!
Между корнями и кроной
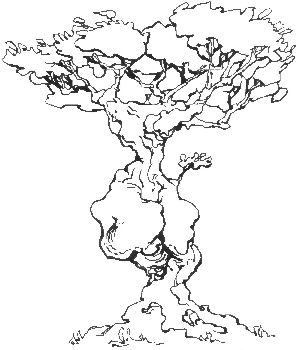
1
«...за что и подлежит казни через усыновление». Я вздрогнул и проснулся. Нелепая фраза из чьего-то чужого сна застряла в мозгу. Болела голова, левое колено и все ребра. Еще было холодно и мокро, и крепло ощущение, будто рядом происходит нечто скверное. Я осторожно разлепил веки, стараясь не перетруждаться. Шум стоял как на базаре, но понять что-либо спросонья в полутьме было невозможно. Когда глаза привыкли к слабому зеленовато-серому свету, падающему с набухшего тучами неба, мне удалось разглядеть кое-какие подробности, перечеркнутые косой сеткой дождя. Я лежал, спеленатый по рукам и ногам, в чем-то вроде гигантской авоськи, сплетенной из лиан и подвешенной к толстенной нижней ветви огромного дерева. Неподалеку, на расстоянии двух криков, возвышалась древняя, покрытая мхом зубчатая стена замка, по углам которой торчали мощные сторожевые башни. Несмотря на дождь, штурм был в самом разгаре. Низкорослые типы в мохнатых оранжевых шубах с кривыми мечами в заплечных ножнах ловко карабкались по длинным приставным лестницам, подбадривая себя пронзительными визгами на грани ультразвука. Ног у них, по-моему, было больше, чем по две, а с руками дело обстояло еще хуже. Защитники замка, тоже не слишком антропоморфные, в синих балахонах с какими-то пучками веревок на них, суетились на стене между зубцами. Оттуда на головы осаждающих летели камни и стрелы и лилась дымящаяся черная масса, но тем, похоже, было на все наплевать. Некоторых из них задевало, и задетые падали с лестницы, вопя уже басом, но остальные продолжали упорно лезть вверх, туда, где за зубцами стены маячили смутные силуэты защитников. На башне кто-то в черной мантии с алыми концентрическими окружностями – жрец? колдун? – замер, воздев когтистые пальцы к небу. Несколько наиболее одаренных оранжевых уже подобрались к самому гребню стены и уцепились за него крючьями. Дела у синих шли, казалось, хуже некуда, но тут хрипло взревела труба, и началось нечто неописуемое. Стена замка, сложенная из огромных плотно притесанных одна к другой гранитных глыб, вдруг зашевелилась и прогнулась, образовав широкую вертикальную вмятину, внутри которой оказались все приставные лестницы с облепившими их оранжевыми. По обеим сторонам вмятины вспучились два вертикальных выступа, отчего осаждающие оказались внутри огромной каменной складки. Затем выступы стали стремительно сближаться со звуком, с каким лезвие ножа трется о точильный камень, только во много раз сильнее. Победные крики сменились возгласами ужаса: осаждающие запоздало сообразили, какая участь им уготована. Некоторые из них в отчаянии прыгнули с лестниц и почти наверняка разбились о камни у подножия стены, кое-кто бросился наверх с утроенной скоростью, остальные замерли на месте, парализованные ужасом. Каменные челюсти сомкнулись с чавкающим треском, оборвав многоголосый вопль тех, кто оказался между ними. Еще минута – и выступы задрожали и разошлись, стена разгладилась и стала как прежде, за исключением большого красного скользкого пятна с налипшим на нем мясным фаршем (трагедия обернулась фаршем, некстати пронеслось в голове). Жрец на башне обернулся, и я увидел, что из-под капюшона у него торчит огромный черный зазубренный клюв. Этот клюв широко раскрылся, потом оглушительно щелкнул, и длинный коготь колдуна нацелился в меня...
На этом месте я заорал и проснулся окончательно. Так мне, во всяком случае, показалось, хотя дождь продолжал идти. Открывать глаза, исходя из прошлого опыта, не хотелось, и я некоторое время полежал так. Спустя несколько минут любопытство возобладало. Я осторожно приоткрыл один глаз. Чудовищный замок исчез, а вместо него прямо напротив меня имел место вполне земной и очень знакомый потолок. С потолка лилась вода. Тонкая струйка падала из середины зеленовато-серого пятна размером с оркестровую тарелку прямо мне на лицо. Соседа убью, подумал я. И закопаю с особым цинизмом. Сосед сверху по ночам мыл полы и при этом не жалел воды, которая, повинуясь закону тяготения, к утру иногда просачивалась вниз, то есть к нам. Днем он, должно быть, эти полы пачкал, и Авгию определенно нашлось бы чему у него поучиться.
Серый рассвет вставал за окном, заставленным цветочными горшками. На одном из них расположился огромный черный таракан. Он так нагло шевелил усами и выглядел таким самодостаточным, что захотелось врезать ему как следует, да лень было связываться. Из кухни тянуло заманчиво и слышались голоса. Голова все еще побаливала, хотя колено прошло, да и ребра, пожалуй, тоже. Я попытался вспомнить, какой сегодня день, но не смог. Дабы обрести опору если не в пространстве, то хотя бы во времени, я решил пока считать сегодняшний день субботой. А значит, можно было бы еще спать и спать, но уж очень не хотелось возвращаться в тот же сон. Постонав для порядка, я перелез из кровати в джинсы, погрозил таракану кулаком и поплелся, слегка пошатываясь от пережитого, на звук и запах по узкому темному коридору. В огромной нашей кухне горел свет. За столом сидел Эдик и вдумчиво осваивал солидную горку свежеиспеченных блинов, возвышающуюся на блюде. Блины он брал руками, сворачивал в трубочку и макал в миску с чем-то янтарно-тягучим. Соня стояла рядом и внимательно наблюдала за процессом с видом исследователя, фиксирующего рефлексы у подопытного экземпляра. У окна в углу дивана пристроился Сева. Перед ним на круглом мраморном столике горела настольная лампа и лежал какой-то замысловатый прибор, в котором Сева сосредоточенно ковырял отверткой, мурлыча вполголоса: «Мы шли под грохот канонады, поскольку было очень надо». За его спиной певец в телевизоре беззвучно разевал вместительный рот.
– Шалом, люди добрые. Что это вам в субботу не спится? Между прочим, жрать блины без меня очень вредно для здоровья, – сказал я, протягивая руку к блинам.
– Во первых, сегодня пятница. А во-вторых, Эдик проголодался, – Соня провела рукой по лохматому эдиковому затылку. При этом она, видимо, нажала случайно на какой-то нерв, потому что Эдик неожиданно лязгнул зубами и зажевал вдвое быстрее прежнего.
– Чем жрать, лучше бы спал ночью. И сам бы смотрел сны свои кошмарные, а не подсовывал другим.
– А что, опять? – невнятно спросил Эдик сквозь блин.
– Естественно.
– Расскажешь?
– Кофе сваришь – расскажу.
В свободное время Эдик пишет прозу в жанре нездорового фэнтези. Закончив одну вещь, он тут же забывает о ней и начинает следующую. Он даже не распечатывает их, так и хранит в своем компьютере, позволяя, впрочем, читать всем желающим. По его собственному утверждению, он, когда пишет, ничего специально не придумывает, а лишь описывает свои сновидения. А сновидения у него такие, что любой писатель продал бы за них свою бессмертную душу, если бы она у него имелась. Сны, как правило, идут сериями по несколько ночей подряд, всегда продолжаясь с того момента, где закончились накануне, и представляют собой нечто совершенно невообразимое по глубине и яркости сцен и по закрученности сюжета. У меня такое ощущение, что сны эти не являются целиком продуктом подсознания Эдика, а транслируются из какого-то внешнего источника. Во всяком случае, когда Эдик бодрствует, его сны запросто могут присниться другим людям, спящим неподалеку. О возможной природе этого внешнего источника я стараюсь не задумываться.
– Сделаю я тебе кофе, – сказала Соня, открывая дверцу шкафчика. – Правда, у нас только такой остался, без кофеина.
– Осталось, – уточнил я.
– Что осталось?
– Кофе. Без кофеина оно среднего рода. Для меня, во всяком случае.
Эдик проглотил блин и уставился на меня. Как всегда, под его взглядом возникло нереальное ощущение, будто мой вес разом уменьшился на пару десятков килограмм.
Я игриво подпрыгнул, встал на пуанты, кончиками пальцами оттянул джинсы на бедрах и пропищал дурным фальцетом:
– Я маленькая девочка, играю и пою, я Ленина не видела, но Сталину даю!
Эдик критически оглядел меня и погасил взгляд. Я тут же потяжелел обратно.
– М-да, – сказал Эдик. – Печальная картина. Музыка бездарная, вокал убогий, хореография сомнительная. И текст устарел.
– Подумаешь! – гордо ответил я. – Зато какой нравственный заряд.
– Это – да. Что есть, то есть. Куда там набоковской Лолите. Ладно, что у тебя там во сне-то было?
– Все было. Тебя вот только не было, а жаль. Между прочим, сироп-то кленовый! – Я постарался придать голосу осуждающую интонацию, но, похоже, не очень-то в этом преуспел. Возможно, оттого, что одновременно залез своим блином в упомянутую миску. – Поклон от канадских лесорубов.
– А кто вчера огурцами закусывал? – парировал Эдик. – Гиви узнает – зарэжет. И вообще, кто завтра в ванной мне в тапочки воды с похмелья нальет?
На это я ничего не ответил, поскольку за огурцы Гиви действительно может «зарэзать», а во всем, что касалось завтра, Эдик ошибается редко. Правда, у него получается, в основном, предсказывать всякие мелкие пакости, а не, скажем, выигрышные номера «Лото», но и это впечатляет и с непривычки вызывает оторопь. Я, впрочем, уже привык. Интересно, что по субботам у него это не выходит. От прихода и до исхода субботы его дар предвидения загадочным образом отключается. Но сегодня пятница, а значит, судя по всему, мне суждено вечером напиться, дабы, согласно пророчеству, обеспечить себе завтрашнее похмелье.
– Эдик, – спросил Сева, не поднимая головы. – Ты когда уже, наконец, книжку выпустишь?
– Точно, – оживился я. – Я бы почитал перед сном. Очень, наверное, способствует.
– Не знаю. Пока желающих издать не нашлось.
– А ты что, уже носил кому-то?
Эдик свернул очередной блин в трубочку и, прищурившись, посмотрел через него на Севу.
– Носил.
– Ну и как?
– А никак. Выкладки какие-то дурацкие стали мне показывать. И по этим выкладкам получается, что печатать им меня невыгодно. Не просить же их: «Издайте, Христа ради!»
– А если за свой счет? – кротко спросил я. – Нельзя же лишать мировую литературу такого вклада. Возвышенная проза и все такое.
– Придется, видно, мировой литературе захиреть без меня, – ответил Эдик, – поскольку на третьей Скрижали – той самой, которую Моисей оставил на горе Синай – среди прочих второстепенных заповедей была выбита и такая: «Не издавайся за свой счет». И правильно, потому что за свой счет издаваться так же безнравственно, как и отдаваться. Это как если бы актер платил театру за то, что он в нем играет. Нет уж, лучше я похожу в безвестных гениях. Тоже звание почетное.
– Конечно, – согласился я. – Особенно, если сам себя им наградил.
– Какая разница, кто наградил? Гений – понятие относительное. Для меня, допустим, Шостакович гений, а для кого-то он сумбур вместо музыки. А еще кто-то вообще слушает только попсу.
– Шостакович, между прочим, для миллионов гений.
– А для десятков миллионов он сумбур. Что же теперь, на большинство ориентироваться? Лучше уж я сам разберусь, что возвышенно, а что возниженно. Пока ты будешь статистику собирать.
– Слушай, ты, юноша бледный со взором горящим! Я, между прочим, тебя практически похвалил, а что имею в ответ? Похвала, конечно, тонкая, не всякому писателю доступная, но ведь я готов был снизойти до разъяснений. А теперь все, поезд ушел. Сейчас заберусь к тебе на Олимп и надеру уши.
Эдик снисходительно оглядел меня. В глазах его заплясали бесенята.
– Сынок, с кем ты связался? Ты своими небритыми ногами залез в святая святых, в творчество. А там все до боли неоднозначно. Ты на Олимп лучше не забирайся, тут холодно и ветер. И скинуть могут. Сиди вон у подножия, пиши свои программы. Они хоть и проще, зато за них платят. Согласны, сэр?
– Проще? – удивился я. – Как раз наоборот – сложнее. Видите ли, сэр, тут халтура не проходит, пыль в глаза не пустишь. Если программа не работает, это всем сразу видно. В отличие от романа или симфонии. И никакие аргументы типа «вы до моей символики еще не доросли» тут не канают.
– Юноша смуглый со взором потухшим, – вздохнул Эдик, – съешь блин и расслабься. Нельзя переть на рожон, толком не проснувшись.
С этим я не мог не согласиться. Тем более, что весь мой литературный опыт ограничивается одним-единственным рассказом, написанным в шестом классе. Рассказ назывался «Не соло нахлебавшись». В моем тогдашнем представлении это выражение означало, что кто-то нахлебался не в одиночку. Сюжет был прост, но динамичен. Пионер Изя плыл с родителями на прогулочном теплоходе по Волге, а на теплоход напал фашистский авианосец и взял их на абордаж. Все растерялись, кроме, естественно, пионера Изи, который, рискуя жизнью, утопил главный спасательный круг, чтобы тот не достался врагам. Рассказ даже напечатали в школьной стенгазете, только название исправили и пионера переименовали из Изи в Кузю.
– Эдик, а что это еще за третья Скрижаль? – спросила Соня, ставя передо мной чашку с горячим бесполым кофе. – И почему Моисей ее не взял?
– Сил не хватило за один раз все унести, Сонечка. Они ведь каменные.
– Дефицит ресурсов, – авторитетно заявил Сева. – Как следствие неправильного планирования. Я лично считаю: даруешь кому-то заповеди – даруй также и силу если не выполнять их, то хотя бы дотащить.
– Даем советы Всевышнему? – усмехнулся Эдик.
– А как же иначе? Если бы он еще им следовал...
– Ладно, – сказал я, – переживем как-нибудь без третьей Скрижали. Мы и те две не очень-то соблюдаем. Спасибо, Сонечка.
– Доброе утро, Саша – прошелестел сзади меня тихий голос. Я оглянулся. В кресле, стоявшем в нише между холодильником и буфетом, примостилась, поджав под себя ноги, похожая на куклу Барби девушка Лена, которую я вчера привел сюда. Привел так же, как два года назад привели меня.
На этом месте я заорал и проснулся окончательно. Так мне, во всяком случае, показалось, хотя дождь продолжал идти. Открывать глаза, исходя из прошлого опыта, не хотелось, и я некоторое время полежал так. Спустя несколько минут любопытство возобладало. Я осторожно приоткрыл один глаз. Чудовищный замок исчез, а вместо него прямо напротив меня имел место вполне земной и очень знакомый потолок. С потолка лилась вода. Тонкая струйка падала из середины зеленовато-серого пятна размером с оркестровую тарелку прямо мне на лицо. Соседа убью, подумал я. И закопаю с особым цинизмом. Сосед сверху по ночам мыл полы и при этом не жалел воды, которая, повинуясь закону тяготения, к утру иногда просачивалась вниз, то есть к нам. Днем он, должно быть, эти полы пачкал, и Авгию определенно нашлось бы чему у него поучиться.
Серый рассвет вставал за окном, заставленным цветочными горшками. На одном из них расположился огромный черный таракан. Он так нагло шевелил усами и выглядел таким самодостаточным, что захотелось врезать ему как следует, да лень было связываться. Из кухни тянуло заманчиво и слышались голоса. Голова все еще побаливала, хотя колено прошло, да и ребра, пожалуй, тоже. Я попытался вспомнить, какой сегодня день, но не смог. Дабы обрести опору если не в пространстве, то хотя бы во времени, я решил пока считать сегодняшний день субботой. А значит, можно было бы еще спать и спать, но уж очень не хотелось возвращаться в тот же сон. Постонав для порядка, я перелез из кровати в джинсы, погрозил таракану кулаком и поплелся, слегка пошатываясь от пережитого, на звук и запах по узкому темному коридору. В огромной нашей кухне горел свет. За столом сидел Эдик и вдумчиво осваивал солидную горку свежеиспеченных блинов, возвышающуюся на блюде. Блины он брал руками, сворачивал в трубочку и макал в миску с чем-то янтарно-тягучим. Соня стояла рядом и внимательно наблюдала за процессом с видом исследователя, фиксирующего рефлексы у подопытного экземпляра. У окна в углу дивана пристроился Сева. Перед ним на круглом мраморном столике горела настольная лампа и лежал какой-то замысловатый прибор, в котором Сева сосредоточенно ковырял отверткой, мурлыча вполголоса: «Мы шли под грохот канонады, поскольку было очень надо». За его спиной певец в телевизоре беззвучно разевал вместительный рот.
– Шалом, люди добрые. Что это вам в субботу не спится? Между прочим, жрать блины без меня очень вредно для здоровья, – сказал я, протягивая руку к блинам.
– Во первых, сегодня пятница. А во-вторых, Эдик проголодался, – Соня провела рукой по лохматому эдиковому затылку. При этом она, видимо, нажала случайно на какой-то нерв, потому что Эдик неожиданно лязгнул зубами и зажевал вдвое быстрее прежнего.
– Чем жрать, лучше бы спал ночью. И сам бы смотрел сны свои кошмарные, а не подсовывал другим.
– А что, опять? – невнятно спросил Эдик сквозь блин.
– Естественно.
– Расскажешь?
– Кофе сваришь – расскажу.
В свободное время Эдик пишет прозу в жанре нездорового фэнтези. Закончив одну вещь, он тут же забывает о ней и начинает следующую. Он даже не распечатывает их, так и хранит в своем компьютере, позволяя, впрочем, читать всем желающим. По его собственному утверждению, он, когда пишет, ничего специально не придумывает, а лишь описывает свои сновидения. А сновидения у него такие, что любой писатель продал бы за них свою бессмертную душу, если бы она у него имелась. Сны, как правило, идут сериями по несколько ночей подряд, всегда продолжаясь с того момента, где закончились накануне, и представляют собой нечто совершенно невообразимое по глубине и яркости сцен и по закрученности сюжета. У меня такое ощущение, что сны эти не являются целиком продуктом подсознания Эдика, а транслируются из какого-то внешнего источника. Во всяком случае, когда Эдик бодрствует, его сны запросто могут присниться другим людям, спящим неподалеку. О возможной природе этого внешнего источника я стараюсь не задумываться.
– Сделаю я тебе кофе, – сказала Соня, открывая дверцу шкафчика. – Правда, у нас только такой остался, без кофеина.
– Осталось, – уточнил я.
– Что осталось?
– Кофе. Без кофеина оно среднего рода. Для меня, во всяком случае.
Эдик проглотил блин и уставился на меня. Как всегда, под его взглядом возникло нереальное ощущение, будто мой вес разом уменьшился на пару десятков килограмм.
Я игриво подпрыгнул, встал на пуанты, кончиками пальцами оттянул джинсы на бедрах и пропищал дурным фальцетом:
– Я маленькая девочка, играю и пою, я Ленина не видела, но Сталину даю!
Эдик критически оглядел меня и погасил взгляд. Я тут же потяжелел обратно.
– М-да, – сказал Эдик. – Печальная картина. Музыка бездарная, вокал убогий, хореография сомнительная. И текст устарел.
– Подумаешь! – гордо ответил я. – Зато какой нравственный заряд.
– Это – да. Что есть, то есть. Куда там набоковской Лолите. Ладно, что у тебя там во сне-то было?
– Все было. Тебя вот только не было, а жаль. Между прочим, сироп-то кленовый! – Я постарался придать голосу осуждающую интонацию, но, похоже, не очень-то в этом преуспел. Возможно, оттого, что одновременно залез своим блином в упомянутую миску. – Поклон от канадских лесорубов.
– А кто вчера огурцами закусывал? – парировал Эдик. – Гиви узнает – зарэжет. И вообще, кто завтра в ванной мне в тапочки воды с похмелья нальет?
На это я ничего не ответил, поскольку за огурцы Гиви действительно может «зарэзать», а во всем, что касалось завтра, Эдик ошибается редко. Правда, у него получается, в основном, предсказывать всякие мелкие пакости, а не, скажем, выигрышные номера «Лото», но и это впечатляет и с непривычки вызывает оторопь. Я, впрочем, уже привык. Интересно, что по субботам у него это не выходит. От прихода и до исхода субботы его дар предвидения загадочным образом отключается. Но сегодня пятница, а значит, судя по всему, мне суждено вечером напиться, дабы, согласно пророчеству, обеспечить себе завтрашнее похмелье.
– Эдик, – спросил Сева, не поднимая головы. – Ты когда уже, наконец, книжку выпустишь?
– Точно, – оживился я. – Я бы почитал перед сном. Очень, наверное, способствует.
– Не знаю. Пока желающих издать не нашлось.
– А ты что, уже носил кому-то?
Эдик свернул очередной блин в трубочку и, прищурившись, посмотрел через него на Севу.
– Носил.
– Ну и как?
– А никак. Выкладки какие-то дурацкие стали мне показывать. И по этим выкладкам получается, что печатать им меня невыгодно. Не просить же их: «Издайте, Христа ради!»
– А если за свой счет? – кротко спросил я. – Нельзя же лишать мировую литературу такого вклада. Возвышенная проза и все такое.
– Придется, видно, мировой литературе захиреть без меня, – ответил Эдик, – поскольку на третьей Скрижали – той самой, которую Моисей оставил на горе Синай – среди прочих второстепенных заповедей была выбита и такая: «Не издавайся за свой счет». И правильно, потому что за свой счет издаваться так же безнравственно, как и отдаваться. Это как если бы актер платил театру за то, что он в нем играет. Нет уж, лучше я похожу в безвестных гениях. Тоже звание почетное.
– Конечно, – согласился я. – Особенно, если сам себя им наградил.
– Какая разница, кто наградил? Гений – понятие относительное. Для меня, допустим, Шостакович гений, а для кого-то он сумбур вместо музыки. А еще кто-то вообще слушает только попсу.
– Шостакович, между прочим, для миллионов гений.
– А для десятков миллионов он сумбур. Что же теперь, на большинство ориентироваться? Лучше уж я сам разберусь, что возвышенно, а что возниженно. Пока ты будешь статистику собирать.
– Слушай, ты, юноша бледный со взором горящим! Я, между прочим, тебя практически похвалил, а что имею в ответ? Похвала, конечно, тонкая, не всякому писателю доступная, но ведь я готов был снизойти до разъяснений. А теперь все, поезд ушел. Сейчас заберусь к тебе на Олимп и надеру уши.
Эдик снисходительно оглядел меня. В глазах его заплясали бесенята.
– Сынок, с кем ты связался? Ты своими небритыми ногами залез в святая святых, в творчество. А там все до боли неоднозначно. Ты на Олимп лучше не забирайся, тут холодно и ветер. И скинуть могут. Сиди вон у подножия, пиши свои программы. Они хоть и проще, зато за них платят. Согласны, сэр?
– Проще? – удивился я. – Как раз наоборот – сложнее. Видите ли, сэр, тут халтура не проходит, пыль в глаза не пустишь. Если программа не работает, это всем сразу видно. В отличие от романа или симфонии. И никакие аргументы типа «вы до моей символики еще не доросли» тут не канают.
– Юноша смуглый со взором потухшим, – вздохнул Эдик, – съешь блин и расслабься. Нельзя переть на рожон, толком не проснувшись.
С этим я не мог не согласиться. Тем более, что весь мой литературный опыт ограничивается одним-единственным рассказом, написанным в шестом классе. Рассказ назывался «Не соло нахлебавшись». В моем тогдашнем представлении это выражение означало, что кто-то нахлебался не в одиночку. Сюжет был прост, но динамичен. Пионер Изя плыл с родителями на прогулочном теплоходе по Волге, а на теплоход напал фашистский авианосец и взял их на абордаж. Все растерялись, кроме, естественно, пионера Изи, который, рискуя жизнью, утопил главный спасательный круг, чтобы тот не достался врагам. Рассказ даже напечатали в школьной стенгазете, только название исправили и пионера переименовали из Изи в Кузю.
– Эдик, а что это еще за третья Скрижаль? – спросила Соня, ставя передо мной чашку с горячим бесполым кофе. – И почему Моисей ее не взял?
– Сил не хватило за один раз все унести, Сонечка. Они ведь каменные.
– Дефицит ресурсов, – авторитетно заявил Сева. – Как следствие неправильного планирования. Я лично считаю: даруешь кому-то заповеди – даруй также и силу если не выполнять их, то хотя бы дотащить.
– Даем советы Всевышнему? – усмехнулся Эдик.
– А как же иначе? Если бы он еще им следовал...
– Ладно, – сказал я, – переживем как-нибудь без третьей Скрижали. Мы и те две не очень-то соблюдаем. Спасибо, Сонечка.
– Доброе утро, Саша – прошелестел сзади меня тихий голос. Я оглянулся. В кресле, стоявшем в нише между холодильником и буфетом, примостилась, поджав под себя ноги, похожая на куклу Барби девушка Лена, которую я вчера привел сюда. Привел так же, как два года назад привели меня.
2
Черт его знает, какое время года было два года назад. Помню лишь, что деревья, кусты, трава и все остальные растительные компоненты современного города остервенело зеленели, за исключением цветов, захвативших также и всю остальную видимую область спектра. Я гулял по тель-авивскому парку Ганей Иешуа и лениво размышлял о своих дальних и ближних перспективах. Как сказал один философ: «Раз уж нам приходится думать, желательно позаботиться о том, чтобы этот процесс проходил как можно менее болезненно». Лично мне лучше всего думается в лесу, хотя в городских условиях приходится ограничиваться парком. Я шел куда глаза глядят и крутил в руках сосновую веточку с длинными иголками и маленькой остроконечной шишкой.
Накануне я в компании своего выпуклого отражения в никелированном чайнике отметил год со дня развода с женой. Событие, в общечеловеческом понимании, печальное; в моем же частном случае – просто упорядочившее взаимоотношения двух далеких друг от друга людей. Телесной близости у нас с ней к тому времени не было уже более полугода, а что касается духовной, то ее, насколько я теперь могу судить, не было никогда. Если, конечно, не считать таковой наши еженедельные визиты к ее сестре с непременным прослушиванием всякий раз новых и неизменно бездарных песен под гитару, сочиняемых мужем той самой сестры в невероятных количествах с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Правда, стоило этому графоману (точнее, грифоману) положить гитару, как он мгновенно превращался в тонкого и эрудированного собеседника. Помимо песен, он увлекался историей и генеалогией шотландских кланов. Как сказала однажды в простоте душевной его жена: «Мой Гриша так обожает шотландцев – ни одной юбки не пропускает».
Сейчас, пытаясь осмыслить все, произошедшее со мной за последний год, я начинал понимать, что добытая мною в бою свобода – это лишь первое звено в той цепи, что опутывает нас по рукам и ногам, цепи, которую так тяжело сбросить. А те из нас, кто все же сумел это сделать, тут же, не успев издать победного крика, рассыпаются на части, потому эта цепь несвобод, оказывается – единственное, что удерживало нас в одном куске. Но до полного осознания этой основополагающей истины было еще далеко. Пока же я неторопливо бродил по дорожкам и анализировал свои ощущения, пытаясь понять, действительно ли мое либидо, нахально продремавшее последние полтора года и тем самым избавившее меня от массы мелких мужских проблем, подарив взамен одну большую, соизволило сегодня утром, наконец, проснуться, или мне это только показалось.
Я достал сигареты, поискал спички и огляделся вокруг. Неподалеку на скамейке сидели два парня и девушка и вполголоса что-то горячо обсуждали. Я направился к ним, держа сигарету наизготовку для вящей демонстрации несложности и, одновременно, неотложности своей просьбы, но они были так увлечены разговором, что не замечали ни меня, ни моих стараний. Парни (почему парни, подумал я? взрослые мужики) выглядели лет на тридцать пять – сорок. Один из них был очень тощим и, по-видимому, очень длинным. Скамейка была слишком низкой для него, и он скрючился так, что его острые колени почти упирались в еще более острый кадык. У него были длинные глаза, длинный нос, длинный рот и длинные уши, и все это было увенчано лохматой копной темно-рыжих волос того самого химически недостижимого оттенка, о котором мечтают все женщины, не желающие почему-либо стать блондинками. Всем этим, а также общей ехидностью облика он напоминал клоуна, забывшего разгримироваться после работы. Второй был массивный, в очках и с бородой, и в целом походил на физика из тех, что днюют и ночуют в лаборатории, спят на масс-спектрографе, умываются тяжелой водой и варят пельмени с помощью гамма-лазера, а отпуск считают загубленным, если не провисели его на крюке, вбитом в скальную стену где-нибудь у черта на куличках или хотя бы на Памире. Правой рукой он придерживал нечто вроде необструганной березовой дубинки с рогаткой на конце, не производившей, однако, впечатления оружия. Девушка была маленькой, пухленькой и длинносветловолосой. Кругленькая такая русалка. Отсюда было не видно, какого цвета у нее глаза, но что-то русалочье в ней, несомненно, присутствовало. На пышной ее груди лежали крупные бусы, сделанные из кипарисовых шишечек. Рядом с русалкой стоял декоративный цветочный горшок с большим полураскрытым лиловым бутоном в обрамлении темно-зеленых бархатных листьев. Эти листья она осторожно перебирала кончиками пальцев. Название страны исхода, казалось, было написано у всех троих на лбу большими буквами. Они заметили меня, когда я подошел чуть ли не вплотную, разом замолчали и с загадочным интересом уставились на сосновую веточку в моей руке, затем так же синхронно перевели вопросительный взгляд на меня. Глаза у девушки оказались, естественно, зелеными, у физика – карими, а у клоуна я не успел разглядеть, так как он их тут же опустил и уставился на свои ботинки.
– Простите, у вас не найдется спичек? – спросил я по-русски и небрежно помахал сигаретой как бы в подтверждение того, что спички мне нужны не для поджога окружающей среды, а исключительно для мелкой личной надобности.
Все трое переглянулись с непонятным разочарованием. Мне показалось, что они ожидали от меня чего-то совсем другого, а я их ожиданий не оправдал. Мысленно ругнув себя за ненаблюдательность, я уже собрался было повторить вопрос на иврите, но бородатый физик кивнул, пристроил свою дубинку между колен, полез в карман куртки и достал зажигалку. Под левым глазом у него имел место слегка запудренный треугольный синяк второй свежести.
Накануне я в компании своего выпуклого отражения в никелированном чайнике отметил год со дня развода с женой. Событие, в общечеловеческом понимании, печальное; в моем же частном случае – просто упорядочившее взаимоотношения двух далеких друг от друга людей. Телесной близости у нас с ней к тому времени не было уже более полугода, а что касается духовной, то ее, насколько я теперь могу судить, не было никогда. Если, конечно, не считать таковой наши еженедельные визиты к ее сестре с непременным прослушиванием всякий раз новых и неизменно бездарных песен под гитару, сочиняемых мужем той самой сестры в невероятных количествах с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Правда, стоило этому графоману (точнее, грифоману) положить гитару, как он мгновенно превращался в тонкого и эрудированного собеседника. Помимо песен, он увлекался историей и генеалогией шотландских кланов. Как сказала однажды в простоте душевной его жена: «Мой Гриша так обожает шотландцев – ни одной юбки не пропускает».
Сейчас, пытаясь осмыслить все, произошедшее со мной за последний год, я начинал понимать, что добытая мною в бою свобода – это лишь первое звено в той цепи, что опутывает нас по рукам и ногам, цепи, которую так тяжело сбросить. А те из нас, кто все же сумел это сделать, тут же, не успев издать победного крика, рассыпаются на части, потому эта цепь несвобод, оказывается – единственное, что удерживало нас в одном куске. Но до полного осознания этой основополагающей истины было еще далеко. Пока же я неторопливо бродил по дорожкам и анализировал свои ощущения, пытаясь понять, действительно ли мое либидо, нахально продремавшее последние полтора года и тем самым избавившее меня от массы мелких мужских проблем, подарив взамен одну большую, соизволило сегодня утром, наконец, проснуться, или мне это только показалось.
Я достал сигареты, поискал спички и огляделся вокруг. Неподалеку на скамейке сидели два парня и девушка и вполголоса что-то горячо обсуждали. Я направился к ним, держа сигарету наизготовку для вящей демонстрации несложности и, одновременно, неотложности своей просьбы, но они были так увлечены разговором, что не замечали ни меня, ни моих стараний. Парни (почему парни, подумал я? взрослые мужики) выглядели лет на тридцать пять – сорок. Один из них был очень тощим и, по-видимому, очень длинным. Скамейка была слишком низкой для него, и он скрючился так, что его острые колени почти упирались в еще более острый кадык. У него были длинные глаза, длинный нос, длинный рот и длинные уши, и все это было увенчано лохматой копной темно-рыжих волос того самого химически недостижимого оттенка, о котором мечтают все женщины, не желающие почему-либо стать блондинками. Всем этим, а также общей ехидностью облика он напоминал клоуна, забывшего разгримироваться после работы. Второй был массивный, в очках и с бородой, и в целом походил на физика из тех, что днюют и ночуют в лаборатории, спят на масс-спектрографе, умываются тяжелой водой и варят пельмени с помощью гамма-лазера, а отпуск считают загубленным, если не провисели его на крюке, вбитом в скальную стену где-нибудь у черта на куличках или хотя бы на Памире. Правой рукой он придерживал нечто вроде необструганной березовой дубинки с рогаткой на конце, не производившей, однако, впечатления оружия. Девушка была маленькой, пухленькой и длинносветловолосой. Кругленькая такая русалка. Отсюда было не видно, какого цвета у нее глаза, но что-то русалочье в ней, несомненно, присутствовало. На пышной ее груди лежали крупные бусы, сделанные из кипарисовых шишечек. Рядом с русалкой стоял декоративный цветочный горшок с большим полураскрытым лиловым бутоном в обрамлении темно-зеленых бархатных листьев. Эти листья она осторожно перебирала кончиками пальцев. Название страны исхода, казалось, было написано у всех троих на лбу большими буквами. Они заметили меня, когда я подошел чуть ли не вплотную, разом замолчали и с загадочным интересом уставились на сосновую веточку в моей руке, затем так же синхронно перевели вопросительный взгляд на меня. Глаза у девушки оказались, естественно, зелеными, у физика – карими, а у клоуна я не успел разглядеть, так как он их тут же опустил и уставился на свои ботинки.
– Простите, у вас не найдется спичек? – спросил я по-русски и небрежно помахал сигаретой как бы в подтверждение того, что спички мне нужны не для поджога окружающей среды, а исключительно для мелкой личной надобности.
Все трое переглянулись с непонятным разочарованием. Мне показалось, что они ожидали от меня чего-то совсем другого, а я их ожиданий не оправдал. Мысленно ругнув себя за ненаблюдательность, я уже собрался было повторить вопрос на иврите, но бородатый физик кивнул, пристроил свою дубинку между колен, полез в карман куртки и достал зажигалку. Под левым глазом у него имел место слегка запудренный треугольный синяк второй свежести.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
