Страница:
– Ну, поцелуй.
И склонилась ко мне. Я застыл на миг, потом быстро поцеловал ее и задохнулся. От внезапной легкости у меня выступили слезы. Я вскочил и отошел к столу проморгаться. Чувствуя стыд и радость, я вставил Мебиусу в рот выпавшую шпаргалку и вернулся, конфузливо улыбаясь.
Валя ласково кивнула.
– Не сердись, Эп! Все в порядке.
Читал я все равно скверно, зато с удовольствием, но Валя разбила меня в пух и прах. Замечания в общем-то сводились к одному: английский текст я читаю по-русски. Чтобы я глубже прочувствовал чудовищность своего произношения, Валя попросила записать на магнитофон ее и мое чтение отдельных фраз. Сам себя я часто прослушивал и не то чтобы восторгался своей тарабарщиной, но мне было как-то приятно, что вот я, русский пацан, шпарю по-аглицки, пусть непутево, но уж не до такой степени, чтобы настоящий англичанин не понял, ведь есть у них и заики и шепелявые, которых они как-то же понимают, но лишь тут, в сравнении, грустно убедился, что я беспросветный варвар…
Вместо получаса, первый урок длился полтора часа, да и то нас прервали – позвали есть. Валя навострилась было убежать домой, но папа поймал ее за руку.
– Куда?.. Аскольд, в чем дело?
– Не пускать! – сказал я.
– И не подумаю! Валя, ты сегодня наша гостья! Пусть Аскольд – недотепа, но мы люди симпатичные! – заверил отец и повел разулыбавшуюся Валю в гостиную.
– Ты бы вот, симпатичный, бороду сбрил, – ввернула мама, – а то пугаешь людей, как леший.
– А что, плохая борода?.. Валя, она тебе не нравится? Скажи «нет» – и давай ножницы.
– Скажи, скажи, Валюша! – подзадорила мама. – Поймаем его на слове, а то он все увиливает!
Валя повернулась к отцу и, оценивающе оглядев его, авторитетно заключила:
– Зачем же? Прекрасная борода. И она вам, Алексей Владимирович, очень идет. Я даже догадываюсь, почему. У вас продолговатый нос, не совсем по лицу, а борода удлиняет лицо, и все становится нормальным.
– Разве? – удивился отец, ощупывая нос и бороду. – Вот не подозревал, что борода мне и теоретически положена. Так что, Римма Михайловна, прошу любить и жаловать!
Мама махнула рукой.
– Да носи ты ее, носи, свою метлу, только следи, чтобы она псиной не пахла!
Валя чуть хохотнула, а я нервно поморщился. Меня бы сейчас и Никулин не рассмешил – такая во мне сидела настороженность. Будь я уверен, что весь обед пройдет в веселье и смехе, я бы, может, и расслабился, но, к сожалению, я был уверен в обратном: что родителям не до одних только шуток, когда к сыну пришла не просто девочка и не просто по делу – это-то они понимали. И мне ужасно хотелось, чтобы они понравились друг другу, поэтому я боялся за них за всех – как бы кто-нибудь не сказал или не сделал чего-то такого, что смутило бы или обидело другого. Особенно я опасался, конечно, за маму: она любила затевать скользкие разговоры, чтобы прозондировать моих друзей, как будто они были пришельцами из других миров и могли занести в наш дом неведомую заразу.
Мы сели крест-накрест, молодые и взрослые. Отец разложил салат. Есть я не хотел совершенно, но решил показать волчий аппетит, чтобы мама не придралась и не спросила опять, как у меня с утренним стулом.
Вилки затюкали по блюдцам.
Валя клевала отдельно горошины, отдельно кубики колбасы, отдельно кубики картошки. Мама торопилась, по привычке. Папа ел крупно и аккуратно, чтобы ни крошки с губ не сорвалось, иначе все будет в бороде. Молчали. Молчание меня тревожило, как и разговор. Быстрее всех прикончил салат папа и, убедившись, что борода в порядке, спросил:
– Валя, а не замаял тебя Аскольд?
– Что вы! Он на лету хватает!
– Почему же он в школе не хватает на лету? – слукавил отец, но, спохватившись, что ария немножко не из той оперы, быстро продолжил: – Да-а, жуткое дело – чужой язык!.. Я, например, немецкий шесть лет в школе долдонил да пять в институте, а в прошлом году отправили меня в ГДР опытом делиться – со стыда сгорел. Ни бэ ни мэ! Вот ведь какая кирилломефодика!.. А русский взять?.. Для иностранца это китайская грамота, какой свет не видел!..
– А знаете, есть, наверно, какое-то общешкольное отношение к иностранному, и его трудно изменить, – сказала Валя.
– Возможно, – согласился папа. – Даже наверняка. Вот у нас на заводах сплошь и рядом встречается такая вещь: не идет изделие – и все! Техническая сторона решена полностью, а не идет! Отношение! Пока не переломишь отношение – не жди успеха. Это ты, Валя, верно заметила.
Валя обрадованно подхватила:
– Конечно! А больше чем объяснить?.. Вот у Аскольда английский не любят, хотя сестра моя, по-моему, отличный преподаватель, а у нас, в седьмой школе, любят!
– Валя, а ты разве в седьмой учишься? – спросила мама.
– Да.
– Это не у вас перед Новым годом десятиклассница родила?
Пожалуйста, зонд пущен!
Странно, что именно вот такие любовно-свадебно-родильные разговоры вспыхивают вокруг меня в последнее время на каждом шагу. Тут не хочешь, да задумаешься об отношениях между мужчинами и женщинами. Но одно дело – думать, другое – говорить. Я кинул испуганный взгляд сперва на маму, потом искоса на Валю, которая, ничуть не смутившись, отозвалась:
– У нас… Ох и шума было!
– Еще бы!
– А почему? Родила же она не просто так.
– Просто так никто, Валюша, не рожает!
– Ну, я имею в виду, что у нее есть муж, одноклассник. Не настоящий, конечно, муж, а друг. Они пока не расписаны, но вот-вот. И у них любовь. – Мама гмыкнула. – Вы не верите, Римма Михайловна, что в десятом классе может быть любовь?
– Почему же, верю. Любовь может быть и даже необходима. Но у любви есть ступеньки, лестничные площадки, этажи, наконец! Любовь – это, если угодно, небоскреб, на который нужно умело подняться! – выговорила мама и повернулась к отцу. – Алексей Владимирович, это правильно по-инженерному?
Чуть пожав плечами папа ответил:
– По иженерному-то правильно…
– Ой, не знаю! – горячо вздохнула Валя, прикрыв ладонью глаза и тут же убрав руку. – По-моему, если любовь – это небоскреб, то – пусть это и неправильно по-инженерному – никаких там ступенек и этажей нет, а молниеносный лифт: раз – и на крыше!
– Да-да, – вроде бы поддакнула мама, – так и эти ребятки решили, раз – и на крыше, два – и ребенок!
– А разве это плохо – маленький гражданчик? – удивилась Валя.
– Гражданчиков выращивают граждане, а не зеленые стручки, у которых едва проклюнулось чувство, первенькое, чистенькое, как в него – бух! – пеленки и горшки!.. В голове сквозняк с транзисторным свистом, танцульки, хиханьки да хаханьки, а на руках – ребенок. Нелепость!.. И этот мальчишка вот-вот, зажавши уши, без оглядки удерет от своей возлюбленной! – сурово закончила мама.
Валя, потупившись, сказала:
– Да, он на время вернулся к своим.
– Уже? Вот видите!
– Это чтобы десятый класс закончить, – торопливо и неуверенно пояснила Валя.
– Ага! – воскликнула мама. – Ему, значит, надо десятый закончить, а на нее плевать?.. Вот так она, дитя в квадрате, и останется на бобах: с ребенком, без мужа и без образования!.. Далеко ходить не надо – вон, под нами, юная клушка сидит! Девочка, цветочек, а уже мать-одиночка! – Словно специально дождавшись этого момента, чтобы образней подкрепить мамину мысль, у Ведьмановых заиграло пианино. – Пожалуйста – тоску разгоняет!.. А вашей совсем худо. Ну, куда она теперь с девятью классами, с этим огарком?
– У вас, Римма Михайловна, очень мрачный взгляд на жизнь, – тихо сказала Валя.
– Не мрачный, Валюша, а точный!
Мне был до стыда неприятен этот спор, я силился вмешаться, но не находил никаких контрмыслей и в поисках спасения глянул на отца. Его, наверно, сейчас беспокоил не столько любовный небоскреб, сколько треснувшие цокольные панели, из-за которых ему грозила тюремная решетка, но тем не менее папа, кажется, внимательно слушал разговор. Поймав мой тревожный взгляд, он кивнул мне, постучал вилкой о блюдце и сказал:
– Нет-нет Римма Михайловна, именно мрачный. Хотя бы потому, что вы не даете нам супа.
– Ой, простите! – спохватилась мама. – Вечные вопросы!.. Отец, неси супницу!
– Я, мам, принесу!
Опасность миновала. Не знаю, что там вывела для себя мама, но я, несмотря на отвращение к этому зондированию, вывел, что Валя – молодец, не сдалась! Я подхватил тяжелую фарфоровую супницу и на радостях чуть не хряпнул ее о косяк.
Стол уже очистили для больших тарелок. Валя встала, чтобы помочь разливать суп, но мама усадила ее, говоря, что, мол, будь уж сегодня настоящей гостьей, а вот в следующий раз… И после короткого многозначительного молчания вдруг со взарпавдашней серьезностью упрекнула меня за то, что я не могу натренировать своего бездельника Мебиуса выполнять какую-нибудь кухонную операцию – вот хотя бы оборудовать поварешкой.
– Куда мне, с огарком, – буркнул я.
– Знаю, над чем ты подтруниваешь! Мол, мать лирику развела, а мы физики! У нас в туалетах музыка играет!.. А я вам и как физикам сделаю вливание, хотите?
– Я сдаюсь! – быстро сказала Валя.
– Ну-ка, мам!
– Пожалуйста. Только есть не забывайте. – Она налила последнюю тарелку – себе – и села. – У одной старушки из нашего дома в желудке нехорошая опухоль, не за едой будь сказано…
– У кого? – спросил я.
– Не имеет значения. Оперировать не дается – зарежут, говорит, чтобы пенсию не давать. Словом, оперироваться – ни в какую!
– У нее рак? – горько спросила Валя, щупая свой живот.
– Да.
– Ужас! – выдохнула Валя. – И не знают, как лечить?
– Знают. Существуют лучи, которые убивают злокачественные клетки, но они же убивают и здоровые. Как спасти человека?.. Физическая проблема. Спасайте!
Сначала я перебрал в уме всех бабок нашего дома – у кого же рак? – но ни к чему не пришел и углубился в физическую проблему. И тут же предложил:
– Сделать укол, чтобы здоровые ткани не боялись лучей!
– Такого препарата нет.
– Вывести желудок наружу! – торопливо, точно больная умирает на глазах, сказала Валя.
– Это опасная операция.
– А если сперва слабую дозу, а потом… – вслух подумал я, но сам же отверг идею.
– А через пищевод? – неуверенно спросила Валя.
– Все равно заденет ткани.
– А-а! – вдруг воскликнул я и аж вскочил, размахивая ложкой. – Надо пустить лучи рассеянным пучком, неопасным, а линзой сфокусировать их в желудке!
Мама, спокойно хлебавшая суп, перестала есть, удивленно вскинула брови и сказала:
– Верно.
– Ура-а! – крикнул я.
– Ура-а! – подхватила Валя.
– Ура! – коротко поддержал папа.
Я был на седьмом небе, как будто действительно спас неведомую бабушку, а заодно и себя, и Валю, и всех пятнадцатилетних вообще. Нет, уважаемая Римма Михайловна, восемь классов – это все же вам не свечной огарок!
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
И склонилась ко мне. Я застыл на миг, потом быстро поцеловал ее и задохнулся. От внезапной легкости у меня выступили слезы. Я вскочил и отошел к столу проморгаться. Чувствуя стыд и радость, я вставил Мебиусу в рот выпавшую шпаргалку и вернулся, конфузливо улыбаясь.
Валя ласково кивнула.
– Не сердись, Эп! Все в порядке.
Читал я все равно скверно, зато с удовольствием, но Валя разбила меня в пух и прах. Замечания в общем-то сводились к одному: английский текст я читаю по-русски. Чтобы я глубже прочувствовал чудовищность своего произношения, Валя попросила записать на магнитофон ее и мое чтение отдельных фраз. Сам себя я часто прослушивал и не то чтобы восторгался своей тарабарщиной, но мне было как-то приятно, что вот я, русский пацан, шпарю по-аглицки, пусть непутево, но уж не до такой степени, чтобы настоящий англичанин не понял, ведь есть у них и заики и шепелявые, которых они как-то же понимают, но лишь тут, в сравнении, грустно убедился, что я беспросветный варвар…
Вместо получаса, первый урок длился полтора часа, да и то нас прервали – позвали есть. Валя навострилась было убежать домой, но папа поймал ее за руку.
– Куда?.. Аскольд, в чем дело?
– Не пускать! – сказал я.
– И не подумаю! Валя, ты сегодня наша гостья! Пусть Аскольд – недотепа, но мы люди симпатичные! – заверил отец и повел разулыбавшуюся Валю в гостиную.
– Ты бы вот, симпатичный, бороду сбрил, – ввернула мама, – а то пугаешь людей, как леший.
– А что, плохая борода?.. Валя, она тебе не нравится? Скажи «нет» – и давай ножницы.
– Скажи, скажи, Валюша! – подзадорила мама. – Поймаем его на слове, а то он все увиливает!
Валя повернулась к отцу и, оценивающе оглядев его, авторитетно заключила:
– Зачем же? Прекрасная борода. И она вам, Алексей Владимирович, очень идет. Я даже догадываюсь, почему. У вас продолговатый нос, не совсем по лицу, а борода удлиняет лицо, и все становится нормальным.
– Разве? – удивился отец, ощупывая нос и бороду. – Вот не подозревал, что борода мне и теоретически положена. Так что, Римма Михайловна, прошу любить и жаловать!
Мама махнула рукой.
– Да носи ты ее, носи, свою метлу, только следи, чтобы она псиной не пахла!
Валя чуть хохотнула, а я нервно поморщился. Меня бы сейчас и Никулин не рассмешил – такая во мне сидела настороженность. Будь я уверен, что весь обед пройдет в веселье и смехе, я бы, может, и расслабился, но, к сожалению, я был уверен в обратном: что родителям не до одних только шуток, когда к сыну пришла не просто девочка и не просто по делу – это-то они понимали. И мне ужасно хотелось, чтобы они понравились друг другу, поэтому я боялся за них за всех – как бы кто-нибудь не сказал или не сделал чего-то такого, что смутило бы или обидело другого. Особенно я опасался, конечно, за маму: она любила затевать скользкие разговоры, чтобы прозондировать моих друзей, как будто они были пришельцами из других миров и могли занести в наш дом неведомую заразу.
Мы сели крест-накрест, молодые и взрослые. Отец разложил салат. Есть я не хотел совершенно, но решил показать волчий аппетит, чтобы мама не придралась и не спросила опять, как у меня с утренним стулом.
Вилки затюкали по блюдцам.
Валя клевала отдельно горошины, отдельно кубики колбасы, отдельно кубики картошки. Мама торопилась, по привычке. Папа ел крупно и аккуратно, чтобы ни крошки с губ не сорвалось, иначе все будет в бороде. Молчали. Молчание меня тревожило, как и разговор. Быстрее всех прикончил салат папа и, убедившись, что борода в порядке, спросил:
– Валя, а не замаял тебя Аскольд?
– Что вы! Он на лету хватает!
– Почему же он в школе не хватает на лету? – слукавил отец, но, спохватившись, что ария немножко не из той оперы, быстро продолжил: – Да-а, жуткое дело – чужой язык!.. Я, например, немецкий шесть лет в школе долдонил да пять в институте, а в прошлом году отправили меня в ГДР опытом делиться – со стыда сгорел. Ни бэ ни мэ! Вот ведь какая кирилломефодика!.. А русский взять?.. Для иностранца это китайская грамота, какой свет не видел!..
– А знаете, есть, наверно, какое-то общешкольное отношение к иностранному, и его трудно изменить, – сказала Валя.
– Возможно, – согласился папа. – Даже наверняка. Вот у нас на заводах сплошь и рядом встречается такая вещь: не идет изделие – и все! Техническая сторона решена полностью, а не идет! Отношение! Пока не переломишь отношение – не жди успеха. Это ты, Валя, верно заметила.
Валя обрадованно подхватила:
– Конечно! А больше чем объяснить?.. Вот у Аскольда английский не любят, хотя сестра моя, по-моему, отличный преподаватель, а у нас, в седьмой школе, любят!
– Валя, а ты разве в седьмой учишься? – спросила мама.
– Да.
– Это не у вас перед Новым годом десятиклассница родила?
Пожалуйста, зонд пущен!
Странно, что именно вот такие любовно-свадебно-родильные разговоры вспыхивают вокруг меня в последнее время на каждом шагу. Тут не хочешь, да задумаешься об отношениях между мужчинами и женщинами. Но одно дело – думать, другое – говорить. Я кинул испуганный взгляд сперва на маму, потом искоса на Валю, которая, ничуть не смутившись, отозвалась:
– У нас… Ох и шума было!
– Еще бы!
– А почему? Родила же она не просто так.
– Просто так никто, Валюша, не рожает!
– Ну, я имею в виду, что у нее есть муж, одноклассник. Не настоящий, конечно, муж, а друг. Они пока не расписаны, но вот-вот. И у них любовь. – Мама гмыкнула. – Вы не верите, Римма Михайловна, что в десятом классе может быть любовь?
– Почему же, верю. Любовь может быть и даже необходима. Но у любви есть ступеньки, лестничные площадки, этажи, наконец! Любовь – это, если угодно, небоскреб, на который нужно умело подняться! – выговорила мама и повернулась к отцу. – Алексей Владимирович, это правильно по-инженерному?
Чуть пожав плечами папа ответил:
– По иженерному-то правильно…
– Ой, не знаю! – горячо вздохнула Валя, прикрыв ладонью глаза и тут же убрав руку. – По-моему, если любовь – это небоскреб, то – пусть это и неправильно по-инженерному – никаких там ступенек и этажей нет, а молниеносный лифт: раз – и на крыше!
– Да-да, – вроде бы поддакнула мама, – так и эти ребятки решили, раз – и на крыше, два – и ребенок!
– А разве это плохо – маленький гражданчик? – удивилась Валя.
– Гражданчиков выращивают граждане, а не зеленые стручки, у которых едва проклюнулось чувство, первенькое, чистенькое, как в него – бух! – пеленки и горшки!.. В голове сквозняк с транзисторным свистом, танцульки, хиханьки да хаханьки, а на руках – ребенок. Нелепость!.. И этот мальчишка вот-вот, зажавши уши, без оглядки удерет от своей возлюбленной! – сурово закончила мама.
Валя, потупившись, сказала:
– Да, он на время вернулся к своим.
– Уже? Вот видите!
– Это чтобы десятый класс закончить, – торопливо и неуверенно пояснила Валя.
– Ага! – воскликнула мама. – Ему, значит, надо десятый закончить, а на нее плевать?.. Вот так она, дитя в квадрате, и останется на бобах: с ребенком, без мужа и без образования!.. Далеко ходить не надо – вон, под нами, юная клушка сидит! Девочка, цветочек, а уже мать-одиночка! – Словно специально дождавшись этого момента, чтобы образней подкрепить мамину мысль, у Ведьмановых заиграло пианино. – Пожалуйста – тоску разгоняет!.. А вашей совсем худо. Ну, куда она теперь с девятью классами, с этим огарком?
– У вас, Римма Михайловна, очень мрачный взгляд на жизнь, – тихо сказала Валя.
– Не мрачный, Валюша, а точный!
Мне был до стыда неприятен этот спор, я силился вмешаться, но не находил никаких контрмыслей и в поисках спасения глянул на отца. Его, наверно, сейчас беспокоил не столько любовный небоскреб, сколько треснувшие цокольные панели, из-за которых ему грозила тюремная решетка, но тем не менее папа, кажется, внимательно слушал разговор. Поймав мой тревожный взгляд, он кивнул мне, постучал вилкой о блюдце и сказал:
– Нет-нет Римма Михайловна, именно мрачный. Хотя бы потому, что вы не даете нам супа.
– Ой, простите! – спохватилась мама. – Вечные вопросы!.. Отец, неси супницу!
– Я, мам, принесу!
Опасность миновала. Не знаю, что там вывела для себя мама, но я, несмотря на отвращение к этому зондированию, вывел, что Валя – молодец, не сдалась! Я подхватил тяжелую фарфоровую супницу и на радостях чуть не хряпнул ее о косяк.
Стол уже очистили для больших тарелок. Валя встала, чтобы помочь разливать суп, но мама усадила ее, говоря, что, мол, будь уж сегодня настоящей гостьей, а вот в следующий раз… И после короткого многозначительного молчания вдруг со взарпавдашней серьезностью упрекнула меня за то, что я не могу натренировать своего бездельника Мебиуса выполнять какую-нибудь кухонную операцию – вот хотя бы оборудовать поварешкой.
– Куда мне, с огарком, – буркнул я.
– Знаю, над чем ты подтруниваешь! Мол, мать лирику развела, а мы физики! У нас в туалетах музыка играет!.. А я вам и как физикам сделаю вливание, хотите?
– Я сдаюсь! – быстро сказала Валя.
– Ну-ка, мам!
– Пожалуйста. Только есть не забывайте. – Она налила последнюю тарелку – себе – и села. – У одной старушки из нашего дома в желудке нехорошая опухоль, не за едой будь сказано…
– У кого? – спросил я.
– Не имеет значения. Оперировать не дается – зарежут, говорит, чтобы пенсию не давать. Словом, оперироваться – ни в какую!
– У нее рак? – горько спросила Валя, щупая свой живот.
– Да.
– Ужас! – выдохнула Валя. – И не знают, как лечить?
– Знают. Существуют лучи, которые убивают злокачественные клетки, но они же убивают и здоровые. Как спасти человека?.. Физическая проблема. Спасайте!
Сначала я перебрал в уме всех бабок нашего дома – у кого же рак? – но ни к чему не пришел и углубился в физическую проблему. И тут же предложил:
– Сделать укол, чтобы здоровые ткани не боялись лучей!
– Такого препарата нет.
– Вывести желудок наружу! – торопливо, точно больная умирает на глазах, сказала Валя.
– Это опасная операция.
– А если сперва слабую дозу, а потом… – вслух подумал я, но сам же отверг идею.
– А через пищевод? – неуверенно спросила Валя.
– Все равно заденет ткани.
– А-а! – вдруг воскликнул я и аж вскочил, размахивая ложкой. – Надо пустить лучи рассеянным пучком, неопасным, а линзой сфокусировать их в желудке!
Мама, спокойно хлебавшая суп, перестала есть, удивленно вскинула брови и сказала:
– Верно.
– Ура-а! – крикнул я.
– Ура-а! – подхватила Валя.
– Ура! – коротко поддержал папа.
Я был на седьмом небе, как будто действительно спас неведомую бабушку, а заодно и себя, и Валю, и всех пятнадцатилетних вообще. Нет, уважаемая Римма Михайловна, восемь классов – это все же вам не свечной огарок!
Глава четырнадцатая
В понедельник анкеты не появились – или Нэлка не смогла, или я все же не сумел ее очень сильно попросить. Надо было, видно, конфет купить или шоколадку!.. Появились они во вторник вечером. Вручая мне тяжелую, перехваченную шпагатом стопу бумаг, отец с довольной улыбкой проворчал, что мало мне отвлечь от работы главного инженера, так я еще и пол-управления мобилизовал. Листы, плотные и остро пахнущие нашатырным спиртом, были четко заполнены темным текстом, написанным чертежным шрифтом: вопросы – слева, место для ответов – справа. Молодец, Нэлка! Ух, какая молодчина!
Я так и отнес кипу в школу – не развязывая. От волнения глаза Васькины еще больше углубились и там, в глубине, расширились: видно, он только сейчас вполне оценил нешуточность нашей затеи. На первой же перемене комсорг торжественно раздал анкеты. Я бы мог еще дома отделить себе листы, но мне хотелось получить их принародно. И я получил и гордо сел рассматривать.
Напомнив, что анкета анонимная и что никого не вздуют и не потащат к директору ни за какие ответы, Забор объявил, что надо немедленно избрать комиссию из трех человек, штаб будущего форума, который будет изучать анкетные результаты. Девчонки тотчас выдвинули меня. Прослышав, что я целую дамам ручки, они прямо ошалели от восторга, улыбались, любезничали, всем я понадобился, только и слышно: «Эп!» да «Эп!» Надо было еще в первом классе поцеловать какую-нибудь Марусю – и был бы все десять лет счастливчиком! Или, наоборот, пропал бы, потому что девчачья любовь сводилась к выдвижению в начальство. Так что я не только влетел в комиссию, но и оказался ее председателем.
Проглядев анкеты, Шулин растерялся:
– Эп, а вот эти-то куда, в Черемшанку отсылать?
– Долго. Пусть тетка с дядькой заполнят.
– Да плевать они хотели!
– А ты объясни, что это важно.
– Объяснишь им!.. Слушай, Эп, приди-ка ты лучше сам и объясни. Они тебя случают. Да и мне поможешь, а то тут, смотри сколько понаворочено! «Способный ли ты?» А почем я знаю?
– Неужели не чувствуешь?
– Мало ли что я чувствую!
– Вот и напишешь.
– Нет, Эп, ты приди!.. А это что? «Мужской или женский пол умнее и развитее?» Мать честная!.. Мы же о девчонках и пацанах спрашивали!
– Это мы с Васькой обобщили!
– Сдурели! – воскликнул Авга. – Они обобщили, а мне отдувайся! Что я вам, академик?
– С тебя, балда, не научный трактат спрашивают, а личное мнение! Правильно или неправильно – все равно, лишь бы это были твои собственные мысли!
– Нет, Эп, ты приди.
– Ладно, приду… Да! – крикнул я, вскакивая. – Чтобы завтра же вернуть заполненные анкеты, иначе к субботе мы не успеем их проанализировать! – Во мне уже заговорил председатель комиссии. – И чтобы никаких отговорок!
– Значит, придешь? – не успокаивался Шулин.
– Приду. И, может, не один.
Я решил познакомить с Авгой Валю. Надо же когда-то размыкать наше одиночество, а то Валя и моих друзей почему-то избегает и со своими не сводит, даже провожать себя до дома не дает. Нам, конечно, и одним хорошо, но иногда тянет в общество.
И вот часов в пять, когда мы с ней отзанимались по английскому, я предложил прогулку в Гусиный Лог. Валя слышала об этом районе тот же миф – что там рассадник хулиганства, – но согласилась.
Мы отправились.
Солнце палило уже целую неделю. Тысячи тонн влаги унеслось в небо, у заборчиков высыпала травка, деревья и кусты окутались зеленой дымкой, и вообще природа, по-моему, перескочила из зимы в лето.
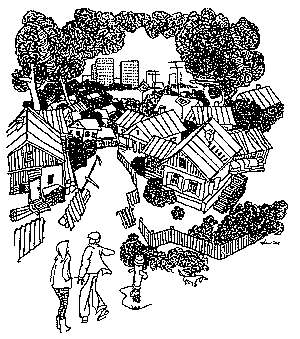 Асфальт кончался на следующем перекрестке вместе с нашими домами, и от него как будто начиналась деревня, откуда по утрам доносилось петушиное кукареканье. Здесь когда-то, в конце девятнадцатого века, родился наш город, и здесь постепенно умирал его старый облик. Через это деревянное поселение, изгибаясь коромыслом, тянулась к реке древняя булыжная мостовая, с проплешинами гравия, бетона или просто с ямами. Справа от мостовой и залегал Гусиный Лог – овраг, забитый домами. Через каждые шагов сорок в него врезались узкие улочки. С края, где лог только набирал уклон, домики стояли вольно и даже с огородиками, а дальше огородики сходили на нет, домики сближались. И всюду глухие заборы, прорези почтовых ящиков в них и таблички о злых собаках. Посреди улочки – промоина, забросанная шлаком, битым кирпичом, дырявой обувью и прочими отбросами. Ниже – круче, домики лезли на сваи и друг на друга, сеням уже не хватало места, и два дома иногда объединялись общим тамбурчиком: одному он подвал, другому – чердак. Не хватало места и заборам. И вообще улочка исчезала, это были просто как попало и куда попало ведущие ступеньки, сглаженные водой. Где-то там, на самом дне, протекала срамная, полупомойная Гусинка, птичий курорт. Что и когда загнало сюда и спрессовало людей в этой яме, не знаю. Город уже перешагнул ее: правее нашей улицы через лог перемахнул огромный, на всю ширину проспекта мост, за оврагом уже сахарились отделанные мраморной крошкой панельные дома и вырисовывался железобетонный скелет чего-то гигантского. Снизу, от реки, на Гусинку наступают, загоняя ее в трубы и замывая лог землесосами, но все это очень медленно, а пока – вот…
Асфальт кончался на следующем перекрестке вместе с нашими домами, и от него как будто начиналась деревня, откуда по утрам доносилось петушиное кукареканье. Здесь когда-то, в конце девятнадцатого века, родился наш город, и здесь постепенно умирал его старый облик. Через это деревянное поселение, изгибаясь коромыслом, тянулась к реке древняя булыжная мостовая, с проплешинами гравия, бетона или просто с ямами. Справа от мостовой и залегал Гусиный Лог – овраг, забитый домами. Через каждые шагов сорок в него врезались узкие улочки. С края, где лог только набирал уклон, домики стояли вольно и даже с огородиками, а дальше огородики сходили на нет, домики сближались. И всюду глухие заборы, прорези почтовых ящиков в них и таблички о злых собаках. Посреди улочки – промоина, забросанная шлаком, битым кирпичом, дырявой обувью и прочими отбросами. Ниже – круче, домики лезли на сваи и друг на друга, сеням уже не хватало места, и два дома иногда объединялись общим тамбурчиком: одному он подвал, другому – чердак. Не хватало места и заборам. И вообще улочка исчезала, это были просто как попало и куда попало ведущие ступеньки, сглаженные водой. Где-то там, на самом дне, протекала срамная, полупомойная Гусинка, птичий курорт. Что и когда загнало сюда и спрессовало людей в этой яме, не знаю. Город уже перешагнул ее: правее нашей улицы через лог перемахнул огромный, на всю ширину проспекта мост, за оврагом уже сахарились отделанные мраморной крошкой панельные дома и вырисовывался железобетонный скелет чего-то гигантского. Снизу, от реки, на Гусинку наступают, загоняя ее в трубы и замывая лог землесосами, но все это очень медленно, а пока – вот…
Валя держалась за мою руку и не о чем не спрашивала. Мы постояли у ступенек, хмуро-сосредоточенно поозирались, попринюхивались и вернулись немного назад – Авгина родня жила чуть выше, но тоже в тесноте. Маленький домик под толем, тополек между забором и окном да балка от калитки до сеней вдоль завалинки – и весь двор, а в полуметре, за штакетником, звенел тугим проводом и давился лаем чужой пес. Мы тихонько вошли в крохотные сени, целиком занятые тремя мешками картошки, ступили в кухоньку и чуть нечаянно не нырнули в открытое подполье, где трепетал бледный свет и откуда вырывалась веселая песня Шулина:
– Э-э-э! – завопил Авга, судорожно хватая ведро.
– Антракт! – пробасил я.
– Эп, ты?
– Я.
– Сдурел, мать честная! – громыхнул Шулин. – Ты же напугал меня, как этот!.. Фу, аж руки затряслись!
– Не ругаться: у нас дама.
Авга ухватился за край люка и, кряхтя, подтянулся, как на турнике. Увидя Валю, он вдруг разинул рот, качнулся и свалился вниз. Но тут же, улыбаясь, появился опять, рывком сел на пол и охлопал грязные руки.
– Познакомьтесь, – сказал я не совсем уверенно. – Это Валя. А это Август, мой друг.
– Август? – переспросила Валя.
– Да! – со смаком подтвердил Шулин и царски простер руку. – Тридцатый год правления Октавиана Августа считается первым годом новой эры!.. Новой эры не обещаю, но могу спорить, что во всех школах города Август – я единственный!
– Пожалуй! – согласилась Валя.
– Да и Аскольды на дорогах не валяются! – напомнил я.
– Точно, имена у нас аховские! – сказал Авга. – А это хорошо, что вы пришли. Только знаете что, займитесь чем-нибудь с полчасика, а? Я тут еще маленько повожусь. До тетки надо картошку перебрать. Мешка полтора осталось.
– А есть во что переодеться? – спросила Валя.
– Зачем?
– Поможем императору Августу перебрать картошку!
– Да бросьте вы!
– Да-да, Октавиан, давай тряпки! – сказал я.
Видя, что мы настроились решительно, Авга охотно отыскал нам кое-какую одежду. Валя шмыгнула в горницу, а я нетерпеливым кивком спросил Шулина: ну, мол, как моя знакомая? Авга лихо выставил большой палец и тут же вопросительно дернул подбородком: мол, кто такая и откуда. Я сделал торжественный жест: дескать, спокойнее, не все сразу. Путаясь в длинном подоле и оттопыривая излишнюю ширину пояса, где уместились бы еще мы с Авгой, появилась Валя и, еле сдерживая смех, покружилась перед нами. В этом стареньком цветастом платье она была так по-домашнему мила, что у меня защемило сердце… Авга же, хохоча нахлобучил нам еще кепки, и, словно беспризорники, мы сошли вниз.
У стены мерзко застыли ползущие вверх толстые бледно-фиолетовые ростки. Пламя свечи колебалось, в глубине шатались таинственные тени, резко пахло плесенью.
Хозяева прозевали переборку картошки: она уже сморщилась, одрябла и сильно проросла, сплетясь в один комок. Мы дружно захрумкали ростками и застучали картошинами по ведру. Валя сказала, что впервые сидит в подполье. Шулин заметил, что разве это подполье, вот у них, в Черемшанке, подполье так подполье – дворец, а не жалкая яма, там каждому овощу свой этаж и свой отсек. И пошел, пошел говорить, рассказывать про деревенское житье-бытье, и все Вале: приглянулась она ему, видно. И пусть, я рад.
Накопился мусор, Авга вылез, отнес бак с ростками куда-то на улицу, наверно, в ту же промоину, потом сел на корточки у люка и с широкой улыбкой, забавно перекосив голову, стал любоваться нами.
– Ты чего? – спросил я.
– Да уж больно вы сейчас на моих братцев и сестриц похожи, прямо вылитые. Ряженые и смешные. Так бы и не выпускал вас из подполья! – любовно заключил он.
– Август, – тихо спросила Валя, – а у вас дома все по месяцам названы?
– Только двое: я да телка Апреля, серьезно ответил он. – Остальные – кто как. Семья здоровая! Уйдем на Лебяжье болото – косить ли, по ягоду, – деревня как вымрет.
– Лебяжье болото?
– Ага.
– Хм, странно… – протянула Валя. – У вас Лебяжье болото, а у нас Лебединое озеро.
– Где это?
– В оперном.
– А-а, ну так в оперном!.. То сказочка, а то правда. Там феи, да принцы, да музыка волшебная, а у нас – о-о!.. Сядем на покосе перекурить, а из кустов – лось, вот с такой мордой-сапогом! А батя его матюгом как шуганет – только треск пойдет! Вот вам вся музыка и все феи! По правде всегда грубее… Я сегодня письмо от Райки получил. Помнишь ее, Эп?
– Райку-то, еще бы!
– Не письмо, а комедия. Хотите прочитаю?
– Ну-ка, – сказал я.
Иногда Шулин прямо завораживал меня – и я говорить начинал его словечками и с его интонацией, и слушал, по-шулински разинув рот. Я вообще какой-то переимчивый: что-нибудь да перехвачу у человека, который мне нравится, и порой ловлю себя на том, что вот проскользнуло отцовское, вот Васькино, а вот Авгино, и лишь от мамы ничего, кажется, не взял – неужели я ее мало люблю? И хорошо, если перенятое химически соединяется с моим кровным, а вдруг это простая смесь, как монеты в копилке, – стоит меня толком вытрясти, и я смертельно опустею?..
Авга принес конверт, сколупнул с него какие-то крошки, вынул листочки и, свесив ноги в подполье, стал читать:
– «Дорогой брат Август, Пишет тебе Рая. Во-первых строках своего письма сообщаю, что все мы живы и здоровы и желаем тебе того же самого. Правда, мама прихворнула маленько животом, но потом поправилась, а папка вчера снова напился, пришел и начал табуретки ломать. Которая из листвяка никак не ломалась. Он ее и на пол кидал и о порог бил, а потом принес топор. Мама с Петькой на руках выскочила в окно и спряталась у Сучковых. Папка бегал искать ее, но не нашел, а только топор потерял. А мы с Галкой залезли под кровать и давай реветь. Он вытащил нас. Лицо у него было в крови, он был в одних кальсонах и начал делать ласточку и велел нам держать ему руки и ноги. Но ласточка у него не получалась, он все падал и ругался, а потом упал на кровать и заснул. А утром чинил табуретки. У меня за год будет две тройки, остальные четверки. А как у тебя? Приезжай скорей, нынче будет много земляники. Я такая же: все хохочу, хохочу и сама не знаю над чем. Если у тебя есть красивые фантики, то вышли. Костя их копит и все время возле сельпо бегает. Но фантики у нас некрасивые или конфеты совсем без фантиков. Привет дяде Ване и тете Кате. Пока до свидания. Рая».
Авга замолчал и некоторое время задумчиво глядел на свечу, потом сунул листы в конверт и вздохнул:
– Вот такие у нас феи и принцы!..
Ни слова не говоря я выдрал, как из кошмы, пучок картошки и, медленно очищая, стал бросать в ведро. Валя присоединилась ко мне, потом спрыгнул и Шулин. Потихоньку мы снова разговорились, но ни о деревне, ни о письме больше не заикались, хотя делающий ласточку дядя Степа, окровавленный и в кальсонах, не выходил у меня из головы.
Я так и отнес кипу в школу – не развязывая. От волнения глаза Васькины еще больше углубились и там, в глубине, расширились: видно, он только сейчас вполне оценил нешуточность нашей затеи. На первой же перемене комсорг торжественно раздал анкеты. Я бы мог еще дома отделить себе листы, но мне хотелось получить их принародно. И я получил и гордо сел рассматривать.
Напомнив, что анкета анонимная и что никого не вздуют и не потащат к директору ни за какие ответы, Забор объявил, что надо немедленно избрать комиссию из трех человек, штаб будущего форума, который будет изучать анкетные результаты. Девчонки тотчас выдвинули меня. Прослышав, что я целую дамам ручки, они прямо ошалели от восторга, улыбались, любезничали, всем я понадобился, только и слышно: «Эп!» да «Эп!» Надо было еще в первом классе поцеловать какую-нибудь Марусю – и был бы все десять лет счастливчиком! Или, наоборот, пропал бы, потому что девчачья любовь сводилась к выдвижению в начальство. Так что я не только влетел в комиссию, но и оказался ее председателем.
Проглядев анкеты, Шулин растерялся:
– Эп, а вот эти-то куда, в Черемшанку отсылать?
– Долго. Пусть тетка с дядькой заполнят.
– Да плевать они хотели!
– А ты объясни, что это важно.
– Объяснишь им!.. Слушай, Эп, приди-ка ты лучше сам и объясни. Они тебя случают. Да и мне поможешь, а то тут, смотри сколько понаворочено! «Способный ли ты?» А почем я знаю?
– Неужели не чувствуешь?
– Мало ли что я чувствую!
– Вот и напишешь.
– Нет, Эп, ты приди!.. А это что? «Мужской или женский пол умнее и развитее?» Мать честная!.. Мы же о девчонках и пацанах спрашивали!
– Это мы с Васькой обобщили!
– Сдурели! – воскликнул Авга. – Они обобщили, а мне отдувайся! Что я вам, академик?
– С тебя, балда, не научный трактат спрашивают, а личное мнение! Правильно или неправильно – все равно, лишь бы это были твои собственные мысли!
– Нет, Эп, ты приди.
– Ладно, приду… Да! – крикнул я, вскакивая. – Чтобы завтра же вернуть заполненные анкеты, иначе к субботе мы не успеем их проанализировать! – Во мне уже заговорил председатель комиссии. – И чтобы никаких отговорок!
– Значит, придешь? – не успокаивался Шулин.
– Приду. И, может, не один.
Я решил познакомить с Авгой Валю. Надо же когда-то размыкать наше одиночество, а то Валя и моих друзей почему-то избегает и со своими не сводит, даже провожать себя до дома не дает. Нам, конечно, и одним хорошо, но иногда тянет в общество.
И вот часов в пять, когда мы с ней отзанимались по английскому, я предложил прогулку в Гусиный Лог. Валя слышала об этом районе тот же миф – что там рассадник хулиганства, – но согласилась.
Мы отправились.
Солнце палило уже целую неделю. Тысячи тонн влаги унеслось в небо, у заборчиков высыпала травка, деревья и кусты окутались зеленой дымкой, и вообще природа, по-моему, перескочила из зимы в лето.
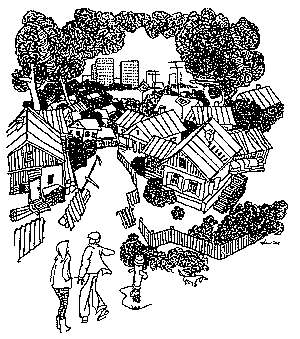
Валя держалась за мою руку и не о чем не спрашивала. Мы постояли у ступенек, хмуро-сосредоточенно поозирались, попринюхивались и вернулись немного назад – Авгина родня жила чуть выше, но тоже в тесноте. Маленький домик под толем, тополек между забором и окном да балка от калитки до сеней вдоль завалинки – и весь двор, а в полуметре, за штакетником, звенел тугим проводом и давился лаем чужой пес. Мы тихонько вошли в крохотные сени, целиком занятые тремя мешками картошки, ступили в кухоньку и чуть нечаянно не нырнули в открытое подполье, где трепетал бледный свет и откуда вырывалась веселая песня Шулина:
Мы заглянули вниз. Подполье было вырыто пирамидой и не глубоко. На земляной приступочке горела свеча. Шулин, закутавшись в фуфайку мотал головой в такт словам, отрывал от картошки ростки и швырял ее в ведро, привязанное к веревке.
Нам электричество
Глухую тьму разбудит,
Нам электричество
Пахать и сеять будет,
Нам электричество
Заменит всякий труд:
Нажал на кнопку – чик-чирик! –
Все тут как тут!
Я знал, что в следующем куплете электричество заменяло пап и мам, и, чтобы не рассекречивать этого дела, решить сорвать Шулину концерт и потянул за веревку.
Нас электричество
От голода избавит,
Нас электричество
Продуктами завалит,
Нам электричество
Даст водки с колбасой:
Нажал на кнопку – чик-чирик! –
И ты уже косой!
– Э-э-э! – завопил Авга, судорожно хватая ведро.
– Антракт! – пробасил я.
– Эп, ты?
– Я.
– Сдурел, мать честная! – громыхнул Шулин. – Ты же напугал меня, как этот!.. Фу, аж руки затряслись!
– Не ругаться: у нас дама.
Авга ухватился за край люка и, кряхтя, подтянулся, как на турнике. Увидя Валю, он вдруг разинул рот, качнулся и свалился вниз. Но тут же, улыбаясь, появился опять, рывком сел на пол и охлопал грязные руки.
– Познакомьтесь, – сказал я не совсем уверенно. – Это Валя. А это Август, мой друг.
– Август? – переспросила Валя.
– Да! – со смаком подтвердил Шулин и царски простер руку. – Тридцатый год правления Октавиана Августа считается первым годом новой эры!.. Новой эры не обещаю, но могу спорить, что во всех школах города Август – я единственный!
– Пожалуй! – согласилась Валя.
– Да и Аскольды на дорогах не валяются! – напомнил я.
– Точно, имена у нас аховские! – сказал Авга. – А это хорошо, что вы пришли. Только знаете что, займитесь чем-нибудь с полчасика, а? Я тут еще маленько повожусь. До тетки надо картошку перебрать. Мешка полтора осталось.
– А есть во что переодеться? – спросила Валя.
– Зачем?
– Поможем императору Августу перебрать картошку!
– Да бросьте вы!
– Да-да, Октавиан, давай тряпки! – сказал я.
Видя, что мы настроились решительно, Авга охотно отыскал нам кое-какую одежду. Валя шмыгнула в горницу, а я нетерпеливым кивком спросил Шулина: ну, мол, как моя знакомая? Авга лихо выставил большой палец и тут же вопросительно дернул подбородком: мол, кто такая и откуда. Я сделал торжественный жест: дескать, спокойнее, не все сразу. Путаясь в длинном подоле и оттопыривая излишнюю ширину пояса, где уместились бы еще мы с Авгой, появилась Валя и, еле сдерживая смех, покружилась перед нами. В этом стареньком цветастом платье она была так по-домашнему мила, что у меня защемило сердце… Авга же, хохоча нахлобучил нам еще кепки, и, словно беспризорники, мы сошли вниз.
У стены мерзко застыли ползущие вверх толстые бледно-фиолетовые ростки. Пламя свечи колебалось, в глубине шатались таинственные тени, резко пахло плесенью.
Хозяева прозевали переборку картошки: она уже сморщилась, одрябла и сильно проросла, сплетясь в один комок. Мы дружно захрумкали ростками и застучали картошинами по ведру. Валя сказала, что впервые сидит в подполье. Шулин заметил, что разве это подполье, вот у них, в Черемшанке, подполье так подполье – дворец, а не жалкая яма, там каждому овощу свой этаж и свой отсек. И пошел, пошел говорить, рассказывать про деревенское житье-бытье, и все Вале: приглянулась она ему, видно. И пусть, я рад.
Накопился мусор, Авга вылез, отнес бак с ростками куда-то на улицу, наверно, в ту же промоину, потом сел на корточки у люка и с широкой улыбкой, забавно перекосив голову, стал любоваться нами.
– Ты чего? – спросил я.
– Да уж больно вы сейчас на моих братцев и сестриц похожи, прямо вылитые. Ряженые и смешные. Так бы и не выпускал вас из подполья! – любовно заключил он.
– Август, – тихо спросила Валя, – а у вас дома все по месяцам названы?
– Только двое: я да телка Апреля, серьезно ответил он. – Остальные – кто как. Семья здоровая! Уйдем на Лебяжье болото – косить ли, по ягоду, – деревня как вымрет.
– Лебяжье болото?
– Ага.
– Хм, странно… – протянула Валя. – У вас Лебяжье болото, а у нас Лебединое озеро.
– Где это?
– В оперном.
– А-а, ну так в оперном!.. То сказочка, а то правда. Там феи, да принцы, да музыка волшебная, а у нас – о-о!.. Сядем на покосе перекурить, а из кустов – лось, вот с такой мордой-сапогом! А батя его матюгом как шуганет – только треск пойдет! Вот вам вся музыка и все феи! По правде всегда грубее… Я сегодня письмо от Райки получил. Помнишь ее, Эп?
– Райку-то, еще бы!
– Не письмо, а комедия. Хотите прочитаю?
– Ну-ка, – сказал я.
Иногда Шулин прямо завораживал меня – и я говорить начинал его словечками и с его интонацией, и слушал, по-шулински разинув рот. Я вообще какой-то переимчивый: что-нибудь да перехвачу у человека, который мне нравится, и порой ловлю себя на том, что вот проскользнуло отцовское, вот Васькино, а вот Авгино, и лишь от мамы ничего, кажется, не взял – неужели я ее мало люблю? И хорошо, если перенятое химически соединяется с моим кровным, а вдруг это простая смесь, как монеты в копилке, – стоит меня толком вытрясти, и я смертельно опустею?..
Авга принес конверт, сколупнул с него какие-то крошки, вынул листочки и, свесив ноги в подполье, стал читать:
– «Дорогой брат Август, Пишет тебе Рая. Во-первых строках своего письма сообщаю, что все мы живы и здоровы и желаем тебе того же самого. Правда, мама прихворнула маленько животом, но потом поправилась, а папка вчера снова напился, пришел и начал табуретки ломать. Которая из листвяка никак не ломалась. Он ее и на пол кидал и о порог бил, а потом принес топор. Мама с Петькой на руках выскочила в окно и спряталась у Сучковых. Папка бегал искать ее, но не нашел, а только топор потерял. А мы с Галкой залезли под кровать и давай реветь. Он вытащил нас. Лицо у него было в крови, он был в одних кальсонах и начал делать ласточку и велел нам держать ему руки и ноги. Но ласточка у него не получалась, он все падал и ругался, а потом упал на кровать и заснул. А утром чинил табуретки. У меня за год будет две тройки, остальные четверки. А как у тебя? Приезжай скорей, нынче будет много земляники. Я такая же: все хохочу, хохочу и сама не знаю над чем. Если у тебя есть красивые фантики, то вышли. Костя их копит и все время возле сельпо бегает. Но фантики у нас некрасивые или конфеты совсем без фантиков. Привет дяде Ване и тете Кате. Пока до свидания. Рая».
Авга замолчал и некоторое время задумчиво глядел на свечу, потом сунул листы в конверт и вздохнул:
– Вот такие у нас феи и принцы!..
Ни слова не говоря я выдрал, как из кошмы, пучок картошки и, медленно очищая, стал бросать в ведро. Валя присоединилась ко мне, потом спрыгнул и Шулин. Потихоньку мы снова разговорились, но ни о деревне, ни о письме больше не заикались, хотя делающий ласточку дядя Степа, окровавленный и в кальсонах, не выходил у меня из головы.
Глава пятнадцатая
Тетя Катя и дядя Ваня пришли в тот момент, когда мы, покончив с картошкой, выкарабкивались из подполья. Тетя Катя охнула, всплеснула руками и, суетясь, заприговаривала: ой, да кто же это у нас, да сколько помощничков, да сейчас она рыбы нажарит – как чуяла, полную сумку с аванса купила. Сиял и дядя Ваня, мужичок – кожа да кости. Авга познакомил хозяев с Валей, тетя Катя долго не выпускала Валину руку, все повторяя, что очень-очень радехонька, что девчата не заглядывали к ним, почитай с прошлого года, когда Петьку в армию проводили, что Август все робеет и что дай бог делу наладиться.
Или Авга когда-то нажужжал своим родным обо мне что-то хорошее чересчур, или еще по какой причине, но относились ко мне в этом доме слишком хорошо, так что даже неловко порой бывало, точно меня, как Хлестакова, принимали тут не за того и заблуждение это вот-вот разъяснится.
Валя заняла рукомойник в углу кухни, а мы с Авгой, налив из кадки полведра, вышли сполоснуться на крыльцо. Шулин напился через край и отдуваясь, сказал:
– Валя, значит? Снегирева?.. Я ее где-то видел, кажется. – Авга коротко хохотнул: – Тетя Катя шумнула посудой, а сама потихоньку спрашивает, мол, чья девчонка-то? Я кивнул на тебя. Она: «Так и думала, – говорит. – Где, – говорит, – тебе такую заиметь!» Ох, уж эти кумушки! – Он плеснул мне на руки. – А я-то думал – все, ты с той Ленкой закрутишь, у Садовкиных-то!
– Тише, балда!
– Молчу, как рыба об лед! – прошептал Авга. – А чего ж ты сиротой прикидывался?
– Да мы всего семь дней знакомы.
– А-а!.. Славная снегириха!
– Чш-ш! Дай-ка! – Я весь ковш ухнул Авге за шиворот, но он, черт, только блаженно закряхтел.
Или Авга когда-то нажужжал своим родным обо мне что-то хорошее чересчур, или еще по какой причине, но относились ко мне в этом доме слишком хорошо, так что даже неловко порой бывало, точно меня, как Хлестакова, принимали тут не за того и заблуждение это вот-вот разъяснится.
Валя заняла рукомойник в углу кухни, а мы с Авгой, налив из кадки полведра, вышли сполоснуться на крыльцо. Шулин напился через край и отдуваясь, сказал:
– Валя, значит? Снегирева?.. Я ее где-то видел, кажется. – Авга коротко хохотнул: – Тетя Катя шумнула посудой, а сама потихоньку спрашивает, мол, чья девчонка-то? Я кивнул на тебя. Она: «Так и думала, – говорит. – Где, – говорит, – тебе такую заиметь!» Ох, уж эти кумушки! – Он плеснул мне на руки. – А я-то думал – все, ты с той Ленкой закрутишь, у Садовкиных-то!
– Тише, балда!
– Молчу, как рыба об лед! – прошептал Авга. – А чего ж ты сиротой прикидывался?
– Да мы всего семь дней знакомы.
– А-а!.. Славная снегириха!
– Чш-ш! Дай-ка! – Я весь ковш ухнул Авге за шиворот, но он, черт, только блаженно закряхтел.
