Страница:
На печи уже шипела в двух сковородах камбала. Валя, переодетая, сидела в горнице за круглым столом, который едва помещался между кроватью, диваном и шифоньером. На белой свежей скатерти с еще не расправившимися сгибами стояли колбаса, соленые огурцы и холодная картошка в мундире. Тетя Катя принесла какую-то темную, с тряпичной пробкой бутылку, при виде которой у дяди Вани дернулся кадык, вытерла ее передником, спросила, не попробует ли кто из нас самогонки, и, убедившись, довольная, что никто, налила две стопки. Счастливо глянув на нашу троицу и сказав «ну», хозяева выпили. Тетя Катя выпила легко и празднично, а дядя Ваня как сморщился после глотка, так с минуту не мог расправить лица и вдохнуть. Потом зажевал огурцом и прошамкал:
– Меня вот что интересует. Вот вы друзья нашего Августа, и вот вы мне скажите начистоту: дотянет он десятилетку или нет?.. Только в глаза глядите!
– Дотяну-у! – уверил Авга.
– Не у тебя спрашиваю! – отрезал дядя Ваня. – Ты, я знаю, наплетешь сейчас семь верст до небес и все лесом. Болтун в отца! А я вот хочу умных людей послушать!
– Не только дотянет, дядя Ваня, но и закончит вполне прилично, – серьезно ответил я.
– Прилично? Вот ведь и вам успел напылить! – разочарованно сказал дядя Ваня, махнув рукой.
– А вы сомневаетесь? – спросила Валя.
– И очень даже, дочка!
– А почему? – удивился я.
– Да кто когда из Шулиных кончал десять классов? Кто?.. Я со Степаном – нет, тетя Тая – нет, тетя Маша – нет. Ну, нас-то со Степаном, положим, война подкузьмила. Возьмем молодых! Твои братья Венька и Витька – нет, мой Петька – нет, тети Таины обе дурехи – стрелочницы, тети Машин Семка еще не подрос, но и так видно – оболтус. Ну, никого! Бог не дал!
– Вот с меня и начнется, – сказал Авга.
– Эх, начинатель! Петр Первый!
– Август Первый, дядя Ваня! – поправил Шулин.
– Ага, вот дядьку поддеть ты мастак!
– Нет, правда, дядя Ваня, вот увидишь, как за мной из Лебяжьего болота косяк грамотных Шулиных вылетит! – примирительно-добродушно воскликнул Авга. – Ты у меня еще значок пощупаешь, когда я после института прикачу к тебе инженером-геологом! Ты мне еще бутылочку за это поставишь!
– Геолог! – усмехнулся дядя Ваня, оставшись, кажется, довольным речью племянника. – Какой ты геолог, когда я тебя уже десять раз просил накопать у Гусинки червей, а ты…
– Я тебе трижды накапывал! И они протухали. Даже сейчас вон тухлые под крыльцом стоят!
Я чувствовал, что тетя Катя вот-вот вмешается в разговор, не потому, что не о том говорят, а потому, что обходятся без нее. И она вмешалась:
– Постыдились бы людей, споруны! Да и мне ваша ерунда надоела. Молчи, старый! Как выпьешь, так начинаешь. Какое наше дело! Кончит – хорошо, нет – работать пойдет! Наше дело вот – накормить да обстирать!
– Работать – другой оборот! – оживился дядя Ваня, потянулся было к темной бутылке, но тетя Катя на лету отвела руку, и он опять куснул огурец. – Вот я и говорю Августу: не майся, говорю, а иди в рабочий класс! К нам! И будешь хозяином жизни!
– Да какой ты рабочий? – сказала тетя Катя. – Какой хозяин? Горе луковое! Умеет гвозди бить – и на том спасибо! Рвался, правда, лет двадцать назад в настоящие рабочие, переживал, бегал, читал что-то, а потом все выдуло.
– Ну-ну, мать! – придержал дядя Ваня.
– Что ну-ну то?.. Теперь, Август прав, тебя и на рыбалку не вытуришь, хоть и река под боком. Вон старик Перышкин два раза на дню бегает и каждый раз – по ведру!
– Старик Перышкин – бездельник, а я…
– Молчи уж! А вы, ребятки, учитесь, накачивайте головы! Голова, она никому не мешает, ни рабочему, ни инженеру. Голова – сама по себе ценность. С ней хоть куда!
– Ты, мать, не сталкивай поколения!
– А ты, поколение, ешь лучше! Нечего один огурец мусолить. И так гремишь костями! – выговорила тетя Катя и придвинула дяде Ване колбасу. – И вы ешьте, ребятки!
Воспользовавшись затишьем, я сказал, что и у нас есть к ним важный разговор. Они со смешным вниманием подобрались, и я пояснил дело с анкетами.
– Исполним! – твердо сказала тетя Катя. – Для вас-то, господи, что угодно исполним!
– Можете даже фамилию свою не подписывать, если будет неловко, – заметил я.
– Нет, зачем же? Все подпишем, как надо, по-людски! Чего нам прятаться? Подпишем, не беспокойтесь!
Появилась рыба, под которую дядя Ваня снова выпил, а затем несколько раз некстати включался в нашу беседу, потом махнул рукой, сказал, что лучше посмотреть телевизор, повалился с табуретки на кровать и мигом захрапел.
– Авга, – шепнул я, – всю анкету посмотрел?
– Всю.
– Много затруднений?
– Если нужно, как ты говоришь, именно мое мнение, то никаких. Свое-то мнение у меня есть.
– Ох, и жук!
– Нет, я просто тугодум. Мне нужно – как это там, в физике-то? – инерцию набрать. А наберу – держись только. Маховик у меня здоровый! – весело пояснил Шулин.
Спохватившись, что вечереет, мы поднялись. Прощаясь, устало разморенная тетя Катя просила извинить ее старика и почаще заглядывать к ним. Мы пообещали. Шулин проводил нас за ворота и, кивнув на свой дом, сказал:
– Видали?.. Вот такой парламент каждую пятницу. Считает свою жизнь меркой и заманивает. Хорошо, хоть злости в нем нет, как в бате, а то бы я покрякал. И тете Кате спасибо: понимает. Э-э, пустяк! Смотрите-ка! – кивнул он на ярко-красный закат. – Скоро первая гроза ухнет. Надо искупаться в ней: весь год будет везучим!
Низко летали стрижи, в овраге уже темнело, и от Гусинки сильно тянуло теплой, влажной затхлостью. Дальние домики казались улитками, выползающими из первобытной сырости.
Наверху оврага было светлей и радостней – бегали машины, гуляли люди, высились новые дома, а над ними кружили голуби, старательно перемешивая сгущающийся вечер и не давая ему отстояться.
– Август мне понравился, – тихо сказала Валя. – Это он хорошо заметил, что по правде бывает грубее.
– Ты о чем?
– Вообще о жизни.
– Да, Шулину, конечно, трудно, но он настырный, идет вперед напролом, как лось, не промажет! – сказал я, поймал Валину руку и стал качать ее.
Некоторое время мы опять молчали, потом Валя, остановив наши руки, вдруг спросила:
– Эп, а ту Раю ты откуда знаешь?
– Какую?
– Сестру Августа.
– А-а, был у них зимой.
– Она тебе нравится?
– Забавная.
– А сколько ей лет?
– В третьем классе.
– Всего лишь? – удивилась Валя. – А какое жуткое письмо!.. Я только раз помню отца пьяным, и то это было очень давно, еще до маминой смерти.
Я вздрогнул и спросил:
– А отец жив?
– Да, но он живет не с нами. Мы со Светой отпустили его к той женщине, которая любила его еще с института. У них уже свой ребенок, но папа бывает у нас. Он инженер, как и твой отец, только проектировщик. – Валя было взгрустнула, но оживилась опять. – Эп, а ты кем хочешь стать?
Я мигом воскресил перепалку за столом и решающие слова тети Кати. Проще тех слов и мудрее я ни от кого не слышал. Все было вокруг да около, а тут – сразу в десятку. Вот тебе и тетя Катя, кассирша с вокзала! Побольше бы нам таких тетей Кать. И я радостно ответил:
– Хочу стать с головой!
– А-а… – понимающе протянула Валя. Потом расцепила наши пальцы и двинулась по синусоиде, то отдаляясь, то приближаясь, а я, размышляя, топал прямехонько, как по оси абсцисс. – Эп, а вот скажи: то, что мы с тобой вместе, – это маленькое или большое? – внезапно спросила Валя, приблизившись ко мне и более уже не отдаляясь.
По моим плечам пробежали мурашки, и я ответил:
– Для меня большое.
– Для меня тоже. Поцелуй меня! – шепнула она. Я оглянулся, нет ли кого поблизости, и Валя сразу нахмурилась. – Бояка ты, Эп! Тебе бы только темные коридоры!
– Вовсе нет, – смущенно возразил я.
Валя свернула к скверику. Там, под вечерним навесом тополиных веток, я настиг ее. И осторожно поцеловал трижды, по-братски.
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
– Меня вот что интересует. Вот вы друзья нашего Августа, и вот вы мне скажите начистоту: дотянет он десятилетку или нет?.. Только в глаза глядите!
– Дотяну-у! – уверил Авга.
– Не у тебя спрашиваю! – отрезал дядя Ваня. – Ты, я знаю, наплетешь сейчас семь верст до небес и все лесом. Болтун в отца! А я вот хочу умных людей послушать!
– Не только дотянет, дядя Ваня, но и закончит вполне прилично, – серьезно ответил я.
– Прилично? Вот ведь и вам успел напылить! – разочарованно сказал дядя Ваня, махнув рукой.
– А вы сомневаетесь? – спросила Валя.
– И очень даже, дочка!
– А почему? – удивился я.
– Да кто когда из Шулиных кончал десять классов? Кто?.. Я со Степаном – нет, тетя Тая – нет, тетя Маша – нет. Ну, нас-то со Степаном, положим, война подкузьмила. Возьмем молодых! Твои братья Венька и Витька – нет, мой Петька – нет, тети Таины обе дурехи – стрелочницы, тети Машин Семка еще не подрос, но и так видно – оболтус. Ну, никого! Бог не дал!
– Вот с меня и начнется, – сказал Авга.
– Эх, начинатель! Петр Первый!
– Август Первый, дядя Ваня! – поправил Шулин.
– Ага, вот дядьку поддеть ты мастак!
– Нет, правда, дядя Ваня, вот увидишь, как за мной из Лебяжьего болота косяк грамотных Шулиных вылетит! – примирительно-добродушно воскликнул Авга. – Ты у меня еще значок пощупаешь, когда я после института прикачу к тебе инженером-геологом! Ты мне еще бутылочку за это поставишь!
– Геолог! – усмехнулся дядя Ваня, оставшись, кажется, довольным речью племянника. – Какой ты геолог, когда я тебя уже десять раз просил накопать у Гусинки червей, а ты…
– Я тебе трижды накапывал! И они протухали. Даже сейчас вон тухлые под крыльцом стоят!
Я чувствовал, что тетя Катя вот-вот вмешается в разговор, не потому, что не о том говорят, а потому, что обходятся без нее. И она вмешалась:
– Постыдились бы людей, споруны! Да и мне ваша ерунда надоела. Молчи, старый! Как выпьешь, так начинаешь. Какое наше дело! Кончит – хорошо, нет – работать пойдет! Наше дело вот – накормить да обстирать!
– Работать – другой оборот! – оживился дядя Ваня, потянулся было к темной бутылке, но тетя Катя на лету отвела руку, и он опять куснул огурец. – Вот я и говорю Августу: не майся, говорю, а иди в рабочий класс! К нам! И будешь хозяином жизни!
– Да какой ты рабочий? – сказала тетя Катя. – Какой хозяин? Горе луковое! Умеет гвозди бить – и на том спасибо! Рвался, правда, лет двадцать назад в настоящие рабочие, переживал, бегал, читал что-то, а потом все выдуло.
– Ну-ну, мать! – придержал дядя Ваня.
– Что ну-ну то?.. Теперь, Август прав, тебя и на рыбалку не вытуришь, хоть и река под боком. Вон старик Перышкин два раза на дню бегает и каждый раз – по ведру!
– Старик Перышкин – бездельник, а я…
– Молчи уж! А вы, ребятки, учитесь, накачивайте головы! Голова, она никому не мешает, ни рабочему, ни инженеру. Голова – сама по себе ценность. С ней хоть куда!
– Ты, мать, не сталкивай поколения!
– А ты, поколение, ешь лучше! Нечего один огурец мусолить. И так гремишь костями! – выговорила тетя Катя и придвинула дяде Ване колбасу. – И вы ешьте, ребятки!
Воспользовавшись затишьем, я сказал, что и у нас есть к ним важный разговор. Они со смешным вниманием подобрались, и я пояснил дело с анкетами.
– Исполним! – твердо сказала тетя Катя. – Для вас-то, господи, что угодно исполним!
– Можете даже фамилию свою не подписывать, если будет неловко, – заметил я.
– Нет, зачем же? Все подпишем, как надо, по-людски! Чего нам прятаться? Подпишем, не беспокойтесь!
Появилась рыба, под которую дядя Ваня снова выпил, а затем несколько раз некстати включался в нашу беседу, потом махнул рукой, сказал, что лучше посмотреть телевизор, повалился с табуретки на кровать и мигом захрапел.
– Авга, – шепнул я, – всю анкету посмотрел?
– Всю.
– Много затруднений?
– Если нужно, как ты говоришь, именно мое мнение, то никаких. Свое-то мнение у меня есть.
– Ох, и жук!
– Нет, я просто тугодум. Мне нужно – как это там, в физике-то? – инерцию набрать. А наберу – держись только. Маховик у меня здоровый! – весело пояснил Шулин.
Спохватившись, что вечереет, мы поднялись. Прощаясь, устало разморенная тетя Катя просила извинить ее старика и почаще заглядывать к ним. Мы пообещали. Шулин проводил нас за ворота и, кивнув на свой дом, сказал:
– Видали?.. Вот такой парламент каждую пятницу. Считает свою жизнь меркой и заманивает. Хорошо, хоть злости в нем нет, как в бате, а то бы я покрякал. И тете Кате спасибо: понимает. Э-э, пустяк! Смотрите-ка! – кивнул он на ярко-красный закат. – Скоро первая гроза ухнет. Надо искупаться в ней: весь год будет везучим!
Низко летали стрижи, в овраге уже темнело, и от Гусинки сильно тянуло теплой, влажной затхлостью. Дальние домики казались улитками, выползающими из первобытной сырости.
Наверху оврага было светлей и радостней – бегали машины, гуляли люди, высились новые дома, а над ними кружили голуби, старательно перемешивая сгущающийся вечер и не давая ему отстояться.
– Август мне понравился, – тихо сказала Валя. – Это он хорошо заметил, что по правде бывает грубее.
– Ты о чем?
– Вообще о жизни.
– Да, Шулину, конечно, трудно, но он настырный, идет вперед напролом, как лось, не промажет! – сказал я, поймал Валину руку и стал качать ее.
Некоторое время мы опять молчали, потом Валя, остановив наши руки, вдруг спросила:
– Эп, а ту Раю ты откуда знаешь?
– Какую?
– Сестру Августа.
– А-а, был у них зимой.
– Она тебе нравится?
– Забавная.
– А сколько ей лет?
– В третьем классе.
– Всего лишь? – удивилась Валя. – А какое жуткое письмо!.. Я только раз помню отца пьяным, и то это было очень давно, еще до маминой смерти.
Я вздрогнул и спросил:
– А отец жив?
– Да, но он живет не с нами. Мы со Светой отпустили его к той женщине, которая любила его еще с института. У них уже свой ребенок, но папа бывает у нас. Он инженер, как и твой отец, только проектировщик. – Валя было взгрустнула, но оживилась опять. – Эп, а ты кем хочешь стать?
Я мигом воскресил перепалку за столом и решающие слова тети Кати. Проще тех слов и мудрее я ни от кого не слышал. Все было вокруг да около, а тут – сразу в десятку. Вот тебе и тетя Катя, кассирша с вокзала! Побольше бы нам таких тетей Кать. И я радостно ответил:
– Хочу стать с головой!
– А-а… – понимающе протянула Валя. Потом расцепила наши пальцы и двинулась по синусоиде, то отдаляясь, то приближаясь, а я, размышляя, топал прямехонько, как по оси абсцисс. – Эп, а вот скажи: то, что мы с тобой вместе, – это маленькое или большое? – внезапно спросила Валя, приблизившись ко мне и более уже не отдаляясь.
По моим плечам пробежали мурашки, и я ответил:
– Для меня большое.
– Для меня тоже. Поцелуй меня! – шепнула она. Я оглянулся, нет ли кого поблизости, и Валя сразу нахмурилась. – Бояка ты, Эп! Тебе бы только темные коридоры!
– Вовсе нет, – смущенно возразил я.
Валя свернула к скверику. Там, под вечерним навесом тополиных веток, я настиг ее. И осторожно поцеловал трижды, по-братски.
Глава шестнадцатая
Вчера мать с отцом ходили в гости, вернулись в двенадцатом часу, и я, поняв по устало улыбающимся лицам, что им не до анкет, даже не заикнулся о них да и свою не заполнил. Проштрафилось полкласса. Срок оттянули до завтра. Собравшись было корябать ответы левой рукой, чтобы обеспечить анонимность, я внезапно сообразил, что все это может написать Валя – тем более что секретов от нее у меня не было. Валя предупреждала, что сегодня немного задержится, но шел уже пятый час… Я копался в телевизоре, который в последнее время бессовестно бросил, как и однорукого беднягу Мебиуса. Я все бросил, кроме английского. Вот и сейчас маг работал, два голоса разыгрывали на английском языке сцену в продовольственном магазине. Сначала я ничегошеньки не улавливал, а по совету Вали просто привыкал к чужим звукам, потом стали прорезаться знакомые слова: «колбаса», «цена», «чек», всякие любезности, – наконец при пятом прослушивании понял почти все и сам вклинился в разговор.
Вдруг откуда-то донесся глухой раскат.
Я выглянул в окно и обмер.
Из-за ломаного горизонта дальних новостроек, со стороны Гусиного Лога на город наползала необъятная фиолетово-синяя туча. Она еще не созрела, в недрах ее клубились и медленно перемещались первобытные массы, мелькала трусливая белизна, но синь мрачно заглатывала ее, на глазах темнея, тяжелея и угрожающе спускалась вниз.
Шулин как в воду смотрел.
Звякнул телефон. Это была Валя. Она сказала, что просит прощения за опоздание и что, если я не против, к пяти придет. Я закричал, что, конечно же, не против, поцеловал трубку и запрыгал по коридору.
На улице потемнело.
Закрыв окна и желая по наущению Авги стать счастливым, я разделся до плавок, выскочил на балкон и поднял лицо ко вздыбленным лохматым тучам.
Самая главная туча вдруг стриганула себя молнией по вздутому животу, и он кудлато-рыхло распустился до земли, прямо в Гусиный Лог – гроза началась. Я представил, с каким зверским воплем пляшет сейчас во дворе Шулин, и меня заранее пробрала дрожь.
Захлопали форточки, посыпались стекла, на балконах загремели всякие крышки и фанерки. По тротуарам и дороге, схватившись за головы, неслись отвыкшие от стихийных шалостей люди, а над ними подпираемые столбами пыли, кувыркались в очумелом пилотаже обрывки газет, полиэтиленовые кульки, тряпки. Все уносилось прочь от наступавшего ливня, как от лесного пожара, – по земле и по воздуху. Густая сеть дождя приближалась.
С избытком хватив целебного душа, я прыгнул в комнату. Часы пробили пять. Я вздрогнул – Валя! В пять она должна приехать и, похоже, не из дома – значит, без плаща и зонта!.. Через пять секунд, я уже летел по лестнице. На улице стояла шуршащая стена дождя. Водяные джунгли! По дороге, как по каналу, поток несся к Гусиному Логу. Я представил, какой там сейчас кавардак, и на миг замер перед потоком, точно с мыслью, нельзя ли остановить его. Потом напрямик помчался к трамвайной остановке.
– Эп! – раздалось вдруг.
– Валя!
Моя Валя – как я и думал, без плаща и зонтика – обрадованно юркнула ко мне под болоньевое крыло.
– Эп, молодчина!.. Ой, да ты голый!
– В плавках. Некогда было.
И как-то сразу, чтобы уютнее уместиться под плащом, мы обнялись – я ее за плечи, она меня за пояс – и пошли четырехногим безголовым существом. А дождь лупцевал нас собаками и кошками, как говорят англичане, то есть лил как из ведра, ни на минуту не ослабевая.
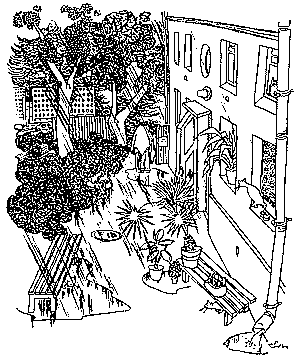 Мы еще ни разу не ходили вот так, тесно прижавшись друг к другу всем боком, от плеч до бедер. Мы вообще мало прогуливались, да, и, гуляя, сцепляли только пальцы. Я мельком подумал, что уж не первое ли это счастье, принесенное грозовым омовением?.. И в подъезде мы не сняли плаща, а так и поднимались – молча обнявшись и в ногу. Лишь в коридоре Валя выскользнула, а я, вдруг устыдившись своей пляжности, плотно запахнулся. Вид мой, наверно, был карикатурен – косматая голова да две худые голые ноги, – и Валя тихонько рассмеялась, но тут же обхватила меня за шею. Мои руки нерешительно выползли из-под плаща и сошлись у нее за спиной. Такого тоже пока не случалось, чтобы в первый миг встречи мы были как в миг последний. Наши свидания всегда начинались робко и скованно. А тут, видно, гроза повлияла. Валю тоже омыло, лицо ее было мокрым, и я стал осторожно целовать его, собирая губами дождевые капли. Она не открывала глаз, а только поворачивалась, улавливая, где лягут мои поцелуи. А капли все катились и катились из волос… А когда – после тысячи поцелуев! – лоб ее, щеки и подбородок высохли, я скользнул к уху и к шее. Валя замерла, сбив дыхание, потом медленно разняла руки и, уперев их мне в грудь, прошептала:
Мы еще ни разу не ходили вот так, тесно прижавшись друг к другу всем боком, от плеч до бедер. Мы вообще мало прогуливались, да, и, гуляя, сцепляли только пальцы. Я мельком подумал, что уж не первое ли это счастье, принесенное грозовым омовением?.. И в подъезде мы не сняли плаща, а так и поднимались – молча обнявшись и в ногу. Лишь в коридоре Валя выскользнула, а я, вдруг устыдившись своей пляжности, плотно запахнулся. Вид мой, наверно, был карикатурен – косматая голова да две худые голые ноги, – и Валя тихонько рассмеялась, но тут же обхватила меня за шею. Мои руки нерешительно выползли из-под плаща и сошлись у нее за спиной. Такого тоже пока не случалось, чтобы в первый миг встречи мы были как в миг последний. Наши свидания всегда начинались робко и скованно. А тут, видно, гроза повлияла. Валю тоже омыло, лицо ее было мокрым, и я стал осторожно целовать его, собирая губами дождевые капли. Она не открывала глаз, а только поворачивалась, улавливая, где лягут мои поцелуи. А капли все катились и катились из волос… А когда – после тысячи поцелуев! – лоб ее, щеки и подбородок высохли, я скользнул к уху и к шее. Валя замерла, сбив дыхание, потом медленно разняла руки и, уперев их мне в грудь, прошептала:
– Эп, милый, ты замерз… Оденься…
– Да, да, – бессильно вымолвил я, почувствовав такую слабость, как будто неделю не ел.
Взяв с дивана штаны и рубашку, я заперся в ванной и минут пятнадцать сидел под горячим душем. Сначала меня била дрожь, потом тело стало успокаиваться. От круглого зеркала, которое из-за натыканных вокруг него лепестков-шпаргалок походило на ромашку и к которому с тыла был приделан динамик, брызнули «Червонные гитары», и я стал одеваться, сильный и ловкий, как прежде.
Музыка гремела во всех комнатах: Валя научилась управлять моей механизацией. Она сидела в кресле, поджав под себя ноги и задумчиво обметая губы кончиком косы. Привычно взглянув на меня, искоса и чуть исподлобья, она выключила магнитофон и внезапно спросила:
– Эп, а что это за Лена?
– Где?
– А вот.
Валя взяла с колен измятую многочисленными сгибами бумажку и помахала ею. Это была записка, которую мне передала сегодня Садовкина. Наташка даже пожурила меня, мол, что я сделал с ее подругами – одна приветы передает, другая шлет записки. Я только польщенно улыбался. Меня открыли! Наконец-то!.. Лена писала, что вспоминает меня и даже хочет увидеть снова, и не смогу ли я прийти сегодня к шести часам в Дом спорта «Динамо» поболеть за нее: она баскетболистка.
– А-а, эта!.. Я познакомился с ней на дне рождения у нашей одноклассницы.
– Когда это?
– В субботу, когда ты стирала.
– Не сочиняй, Эп, я не стирала!
– Ну, не знаю, что делала. Ты позвонила в субботу и сказала, что мы не встретимся потому, что накопилось много дел. Неужели забыла? Вспомни!
– А-а, в субботу!.. Да-да.
– Ну и вот. А тут как раз у Садовкиной день рождения. Я хотел тебя пригласить, но… Видишь, оставила меня одного – и сразу влюбились!
– А ты и рад, да?
– Шучу. Никто в меня не влюблялся.
– А это? – Валя опять помахала запиской.
– Так это не на свидание, а поболеть.
– Поболеть!.. А почему она Шулина не приглашает поболеть? И почему вспоминает именно тебя? – Валя опустила ноги на пол. – Эп, у вас с ней что-то было!
– Ничегошеньки!
– Но ты же танцевал с ней?
– И с другими.
– Но с ней больше, да?
– Пожалуй.
– Ну и вот!.. И целовались, да?
– Что ты! Только проводили толпой всех девчонок, и у подъезда Лена пожала мне руку.
– А другим жала?
– Не заметил.
– Ну вот! А ты говоришь, ничего не было.
– Да не было и нет! – воскликнул я.
– Эп, одно ее существование что-то да значит, – тихо и предостерегающе проговорила Валя.
– И что теперь, убить ее?
– Я сама ее убью!.. Липучки несчастные! Чуть глянешь на них – и все, прилипли!
– Да никто ко мне не лип!
– Не заступайся, Эп, я их знаю. – Она шумно вздохнула и опять подобрала ноги, отвернувшись к окну. – И что будешь делать? Скоро шесть.
– Я уже ответил, что не смогу прийти.
– Почему?
– Потому что у меня уроки с тобой.
– А если бы не было, пошел бы?
– Наверно.
– Считай, что уроков нет! – сказала Валя и поднялась.
– Ва-аля! – протянул я с улыбкой.
– Ступай-ступай, Эп! А то невежливо получается: тебя девочка приглашает, а ты отказываешься! Получается, что я тебе мешаю со своим английским.
– Это нечестно! – крикнул я.
– А утаивать честно? – спросила она тихо, но так, что лучше бы тоже крикнула.
– Я не утаивал, – бессильно сказал я.
– Ну да! Спасибо, что я записку случайно нашла.
– Случайно в золе находят или в мусорном ящике, разорванное на сто клочков! А тут целехонькое лежит на столе. Я нарочно положил на виду.
Валя умолкла, удовлетворившись, кажется объяснением, потом, пристально глядя на меня, стала медленно рвать записку – раз, два, три, следя, не блеснет ли в моих глазах паника или тень скорби. Да, эта бумажка волновала меня, и, когда я писал Лене ответ, сердце мое сжималось от жалости, что не встретил ее до Валиной эры, когда я был готов полюбить всякого, кто полюбит меня, но теперь было поздно – Лена опоздала на какие-то три-четыре дня, а эти три-четыре дня стоили мне многих лет той прежней, пустынной жизни, где были десятки дней рождений, десятки вечеров и где никто ни разу не приветил меня… Что-то, видно, проскользнуло в моем взгляде, потому что Валя вдруг устыдилась своей инквизиторской выходки, спрятала клочки в карман и, опустившись в кресло, потупилась.
– Эп, я, наверное, дура, – прошептала она, глянув на меня снизу; я увидел слезы в ее глазах и сам, ощутив внезапное жжение под веками, присел перед нею на корточки, придерживаясь за ее колени. – Конечно, дура, – уверенней добавила она, – но я хочу, чтобы ты был только моим!.. А ты хочешь, чтобы я была только твоей?
– Хочу, – еле слышно ответил я.
– Ну и вот. Поэтому не сердись.
– Я не сержусь.
– Да? – Валя несмело улыбнулась и вытерла пальцами глаза. – А скажи это по-английски.
– Не знаю.
– Ты учил сегодня?.
– Учил.
– Тогда скажи что-нибудь по-английски.
– I want to kiss you. (Я хочу поцеловать тебя).
Я с тихой настойчивостью потянул ее к себе. Валя опустила на мое плечо руку и опять спросила:
– А ты правда не целовался с Леной?
– Правда.
– Что «правда»?
– Не целовался. Ну, как же я мог?.. И почему ты так легко говоришь это слово?
– Какое?
– «Целоваться».
– А как же его говорить?
– Не знаю, но я боюсь его…
– Ты-то боишься?.. А кто начал, а?
– Я, но… не говорил. Я написал.
Валя посерьезнела, вглядываясь в меня с новым вниманием.
– И потом не говорил… И даже сейчас сказал по-английски!
– Ну, ну! А я, значит, легко болтаю! Я, значит, легкомысленная болтушка, так, Эп? – Я замотал головой. – Нет, ты именно так и думаешь!.. Хорошо же, тогда я и тебя сделаю легкомысленным! – заявила она и бросила вторую руку на мое плечо. – Скажи: «Я хочу…»
– Я хочу…
– «… поцеловать тебя!»
– … поцеловать тебя! – без промедления повторил я.
– Ну, вот, теперь и ты болтун! И мы равны!.. Ох, Эп! – легко вздохнула Валя и стрельнула взглядом через мое плечо. – А Пушкин-то подглядывает!
– Он не осудит! Он сам это любил.
Валя осторожно подалась ко мне, и я коснулся губами ее холодных губ. И комната вдруг вспыхнула от солнечного света. Мы вскочили, как застигнутые врасплох… Это кончилась гроза, и от освобожденного солнца с вороватым сожалением отползали последние обрывки туч.
Вдруг откуда-то донесся глухой раскат.
Я выглянул в окно и обмер.
Из-за ломаного горизонта дальних новостроек, со стороны Гусиного Лога на город наползала необъятная фиолетово-синяя туча. Она еще не созрела, в недрах ее клубились и медленно перемещались первобытные массы, мелькала трусливая белизна, но синь мрачно заглатывала ее, на глазах темнея, тяжелея и угрожающе спускалась вниз.
Шулин как в воду смотрел.
Звякнул телефон. Это была Валя. Она сказала, что просит прощения за опоздание и что, если я не против, к пяти придет. Я закричал, что, конечно же, не против, поцеловал трубку и запрыгал по коридору.
На улице потемнело.
Закрыв окна и желая по наущению Авги стать счастливым, я разделся до плавок, выскочил на балкон и поднял лицо ко вздыбленным лохматым тучам.
Самая главная туча вдруг стриганула себя молнией по вздутому животу, и он кудлато-рыхло распустился до земли, прямо в Гусиный Лог – гроза началась. Я представил, с каким зверским воплем пляшет сейчас во дворе Шулин, и меня заранее пробрала дрожь.
Захлопали форточки, посыпались стекла, на балконах загремели всякие крышки и фанерки. По тротуарам и дороге, схватившись за головы, неслись отвыкшие от стихийных шалостей люди, а над ними подпираемые столбами пыли, кувыркались в очумелом пилотаже обрывки газет, полиэтиленовые кульки, тряпки. Все уносилось прочь от наступавшего ливня, как от лесного пожара, – по земле и по воздуху. Густая сеть дождя приближалась.
С избытком хватив целебного душа, я прыгнул в комнату. Часы пробили пять. Я вздрогнул – Валя! В пять она должна приехать и, похоже, не из дома – значит, без плаща и зонта!.. Через пять секунд, я уже летел по лестнице. На улице стояла шуршащая стена дождя. Водяные джунгли! По дороге, как по каналу, поток несся к Гусиному Логу. Я представил, какой там сейчас кавардак, и на миг замер перед потоком, точно с мыслью, нельзя ли остановить его. Потом напрямик помчался к трамвайной остановке.
– Эп! – раздалось вдруг.
– Валя!
Моя Валя – как я и думал, без плаща и зонтика – обрадованно юркнула ко мне под болоньевое крыло.
– Эп, молодчина!.. Ой, да ты голый!
– В плавках. Некогда было.
И как-то сразу, чтобы уютнее уместиться под плащом, мы обнялись – я ее за плечи, она меня за пояс – и пошли четырехногим безголовым существом. А дождь лупцевал нас собаками и кошками, как говорят англичане, то есть лил как из ведра, ни на минуту не ослабевая.
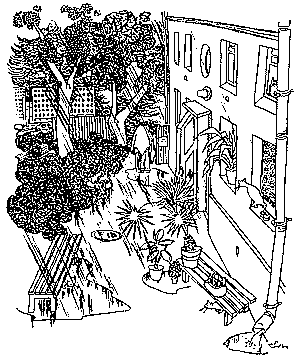
– Эп, милый, ты замерз… Оденься…
– Да, да, – бессильно вымолвил я, почувствовав такую слабость, как будто неделю не ел.
Взяв с дивана штаны и рубашку, я заперся в ванной и минут пятнадцать сидел под горячим душем. Сначала меня била дрожь, потом тело стало успокаиваться. От круглого зеркала, которое из-за натыканных вокруг него лепестков-шпаргалок походило на ромашку и к которому с тыла был приделан динамик, брызнули «Червонные гитары», и я стал одеваться, сильный и ловкий, как прежде.
Музыка гремела во всех комнатах: Валя научилась управлять моей механизацией. Она сидела в кресле, поджав под себя ноги и задумчиво обметая губы кончиком косы. Привычно взглянув на меня, искоса и чуть исподлобья, она выключила магнитофон и внезапно спросила:
– Эп, а что это за Лена?
– Где?
– А вот.
Валя взяла с колен измятую многочисленными сгибами бумажку и помахала ею. Это была записка, которую мне передала сегодня Садовкина. Наташка даже пожурила меня, мол, что я сделал с ее подругами – одна приветы передает, другая шлет записки. Я только польщенно улыбался. Меня открыли! Наконец-то!.. Лена писала, что вспоминает меня и даже хочет увидеть снова, и не смогу ли я прийти сегодня к шести часам в Дом спорта «Динамо» поболеть за нее: она баскетболистка.
– А-а, эта!.. Я познакомился с ней на дне рождения у нашей одноклассницы.
– Когда это?
– В субботу, когда ты стирала.
– Не сочиняй, Эп, я не стирала!
– Ну, не знаю, что делала. Ты позвонила в субботу и сказала, что мы не встретимся потому, что накопилось много дел. Неужели забыла? Вспомни!
– А-а, в субботу!.. Да-да.
– Ну и вот. А тут как раз у Садовкиной день рождения. Я хотел тебя пригласить, но… Видишь, оставила меня одного – и сразу влюбились!
– А ты и рад, да?
– Шучу. Никто в меня не влюблялся.
– А это? – Валя опять помахала запиской.
– Так это не на свидание, а поболеть.
– Поболеть!.. А почему она Шулина не приглашает поболеть? И почему вспоминает именно тебя? – Валя опустила ноги на пол. – Эп, у вас с ней что-то было!
– Ничегошеньки!
– Но ты же танцевал с ней?
– И с другими.
– Но с ней больше, да?
– Пожалуй.
– Ну и вот!.. И целовались, да?
– Что ты! Только проводили толпой всех девчонок, и у подъезда Лена пожала мне руку.
– А другим жала?
– Не заметил.
– Ну вот! А ты говоришь, ничего не было.
– Да не было и нет! – воскликнул я.
– Эп, одно ее существование что-то да значит, – тихо и предостерегающе проговорила Валя.
– И что теперь, убить ее?
– Я сама ее убью!.. Липучки несчастные! Чуть глянешь на них – и все, прилипли!
– Да никто ко мне не лип!
– Не заступайся, Эп, я их знаю. – Она шумно вздохнула и опять подобрала ноги, отвернувшись к окну. – И что будешь делать? Скоро шесть.
– Я уже ответил, что не смогу прийти.
– Почему?
– Потому что у меня уроки с тобой.
– А если бы не было, пошел бы?
– Наверно.
– Считай, что уроков нет! – сказала Валя и поднялась.
– Ва-аля! – протянул я с улыбкой.
– Ступай-ступай, Эп! А то невежливо получается: тебя девочка приглашает, а ты отказываешься! Получается, что я тебе мешаю со своим английским.
– Это нечестно! – крикнул я.
– А утаивать честно? – спросила она тихо, но так, что лучше бы тоже крикнула.
– Я не утаивал, – бессильно сказал я.
– Ну да! Спасибо, что я записку случайно нашла.
– Случайно в золе находят или в мусорном ящике, разорванное на сто клочков! А тут целехонькое лежит на столе. Я нарочно положил на виду.
Валя умолкла, удовлетворившись, кажется объяснением, потом, пристально глядя на меня, стала медленно рвать записку – раз, два, три, следя, не блеснет ли в моих глазах паника или тень скорби. Да, эта бумажка волновала меня, и, когда я писал Лене ответ, сердце мое сжималось от жалости, что не встретил ее до Валиной эры, когда я был готов полюбить всякого, кто полюбит меня, но теперь было поздно – Лена опоздала на какие-то три-четыре дня, а эти три-четыре дня стоили мне многих лет той прежней, пустынной жизни, где были десятки дней рождений, десятки вечеров и где никто ни разу не приветил меня… Что-то, видно, проскользнуло в моем взгляде, потому что Валя вдруг устыдилась своей инквизиторской выходки, спрятала клочки в карман и, опустившись в кресло, потупилась.
– Эп, я, наверное, дура, – прошептала она, глянув на меня снизу; я увидел слезы в ее глазах и сам, ощутив внезапное жжение под веками, присел перед нею на корточки, придерживаясь за ее колени. – Конечно, дура, – уверенней добавила она, – но я хочу, чтобы ты был только моим!.. А ты хочешь, чтобы я была только твоей?
– Хочу, – еле слышно ответил я.
– Ну и вот. Поэтому не сердись.
– Я не сержусь.
– Да? – Валя несмело улыбнулась и вытерла пальцами глаза. – А скажи это по-английски.
– Не знаю.
– Ты учил сегодня?.
– Учил.
– Тогда скажи что-нибудь по-английски.
– I want to kiss you. (Я хочу поцеловать тебя).
Я с тихой настойчивостью потянул ее к себе. Валя опустила на мое плечо руку и опять спросила:
– А ты правда не целовался с Леной?
– Правда.
– Что «правда»?
– Не целовался. Ну, как же я мог?.. И почему ты так легко говоришь это слово?
– Какое?
– «Целоваться».
– А как же его говорить?
– Не знаю, но я боюсь его…
– Ты-то боишься?.. А кто начал, а?
– Я, но… не говорил. Я написал.
Валя посерьезнела, вглядываясь в меня с новым вниманием.
– И потом не говорил… И даже сейчас сказал по-английски!
– Ну, ну! А я, значит, легко болтаю! Я, значит, легкомысленная болтушка, так, Эп? – Я замотал головой. – Нет, ты именно так и думаешь!.. Хорошо же, тогда я и тебя сделаю легкомысленным! – заявила она и бросила вторую руку на мое плечо. – Скажи: «Я хочу…»
– Я хочу…
– «… поцеловать тебя!»
– … поцеловать тебя! – без промедления повторил я.
– Ну, вот, теперь и ты болтун! И мы равны!.. Ох, Эп! – легко вздохнула Валя и стрельнула взглядом через мое плечо. – А Пушкин-то подглядывает!
– Он не осудит! Он сам это любил.
Валя осторожно подалась ко мне, и я коснулся губами ее холодных губ. И комната вдруг вспыхнула от солнечного света. Мы вскочили, как застигнутые врасплох… Это кончилась гроза, и от освобожденного солнца с вороватым сожалением отползали последние обрывки туч.
Глава семнадцатая
Валя охотно согласилась заполнить анкету и даже ладони потерла, ну, мол, сейчас я тебя насквозь разгляжу, хотя я и так был перед нею как стеклышко. Она села в кресло за журнальный столик, я – на диван. Мне был приятен этот миг, приятно было сознавать, что вот я, Аскольд Алексеевич Эпов, до сих пор живший сам в себе, открываюсь для других.
С вопросами я столько навозился, что все ответы я выдавал без задержки. Если мой ответ совпадал с Валиным, она удовлетворенно кивала, если нет – вскидывала брови.
– Твой любимый классический поэт?
– Пушкин.
– Так… А современный?
– Пушкин.
– Ты что, Эп, современных не читаешь?
– Не почитаю.
– Значит, не дорос еще.
– От Пушкина-то дорастать?
– Ладно-ладно, оставайся со своим Пушкиным, – сдалась Валя. – Твои любимые предметы?
– Математика и физика.
– Так… Нелюбимые?
– Один русский.
– Ой ли? – усомнилась Валя. – А английский?
– М-м…
– Не бойся, не обижусь.
– Я не боюсь. Просто мне стало интереснее. Нет, правда! Кстати, переведи одну фразу!.. Сейчас… М-м, ага! Here’s a health to thee Mary!
– Твое здоровье, Мери.
– Правильно! А знаешь, откуда это?.. Эпиграф к стихам Пушкина:
– Эп, я же говорила, что в тебе спит англичанин и что я разбужу его! Кажется, разбудила.
– А знаешь, Валя, он, по-моему, не спал, а дремал. Еще до тебя я Вовке Желтышеву придумал кличку Елоу. Все подхватили, но, конечно, на русский лад – Еловый!
Валя засмеялась, но тут же нахмурилась.
– Ага, значит, ты сам дремал, сам проснулся, а я тут ни при чем? – спросила она.
– Ну, что ты!.. Без тебя я бы, может, так и умер в полудреме! – признался я, и Валя просияла. – Кстати, я и тебе прозвище нашел – «Буллфинч».
Действительно, я прямо спятил с этим английским. Ложусь с ним и встаю, ем и пью, кричу и пою, даже спорю по-нерусски с Мебиусом. О том, что я все хватаю на лету, Валя сказала в тот раз нарочно, для родительского успокоения, она и сама еще не знала, как я потяну лямку, но скажи она это теперь – была бы права. Во мне вдруг пробились какие-то неведомые родники, просветленно-жгучие, и били без устали, освежая и обновляя меня. Казалось бы, ну что можно успеть за считанные дни, а вот успел!..
Анкетный свиток развивался дальше.
– О, приготовься, Эп! – оживилась Валя и впилась в меня лукавым взглядом. – Есть ли у тебя подруга?
Я гмыкнул и спросил:
– А ты как думаешь?
– Эп, не юли!
– Кажется, есть.
– Так и писать – «кажется»?
– Не знаю.
Валя испытующе посмотрела на меня, печально-осуждающе качнула головой и написала: «есть» – без «кажется». Слабый я человек: во мне что-то дрогнуло, и к векам мгновенно подступил влажный жар. А Валя продолжала:
– Куришь? Нет, – сама же ответила она. – Пьешь? Нет.
– Пью.
– Как пьешь?
– Как нальют: полстакана – полстакана, рюмку – рюмку. По праздникам, конечно.
– Ну и пьяница – насмешил! – развеселилась Валя. – По праздникам и я пью. Это не считается.
– А мы решили считать.
– Тогда у вас все алкоголиками будут.
– Вот и проверим.
– Ох, и влетит вам!.. Ну, ладно, поехали дальше… Хочешь ли ты оставить школу?
Сейчас острота этого вопроса притупилась, а последние дни все больше убеждали меня в том, что десятилетку оканчивать надо, иначе можно вывихнуть свою жизнь, но тут я решил проверить Валю и твердо ответил:
– Хочу.
– Эп, да ты что! – валя бросила ручку и выпрямилась. – Хочешь остаться со свечным огарком, как говорила Римма Михайловна?
– У нее же мрачный взгляд.
– Но и точный!.. Я это поняла! А в точности всегда, наверно, есть доля мрачности.
– А тебе ни разу не хотелось бежать из школы?
– Наоборот! Мне всегда хотелось бежать в школу, и только в школу, чтобы, кроме уроков, ни о чем не заботиться, а уроки для меня делать – это семечки щелкать! – Валя уже отвлеклась от моих дел и подключила свои переживания. – Правда, Эп! Та, будущая самостоятельность меня пугает!.. А вдруг это будет очень трудно? Вдруг я не справлюсь?
– Не пугайся, у тебя не будет самостоятельности, – сказал я, чувствуя, что готовлюсь к сальто-мортале.
– Почему это?
– Выйдешь замуж – и все! – крутанул я.
– А замуж – это что, не самостоятельность?
– Нет.
– Ух, ты, какой философ!
– А что, вон Евгений Онегин был философом в осьмнадцать лет, – напомнил я, возвращаясь в свой диапазон. – Мне вот-вот шестнадцать, пора начинать философствовать.
– Как, Эп, тебе разве будет шестнадцать? – удивилась Валя.
– Да, – печально подтвердил я. – Я с пятьдесят седьмого.
– А я с пятьдесят восьмого, и мне в июле будет уже пятнадцать, – радостно сообщила Валя.
– Дитя!.. А что было в пятьдесят восьмом?
Валя задумалась.
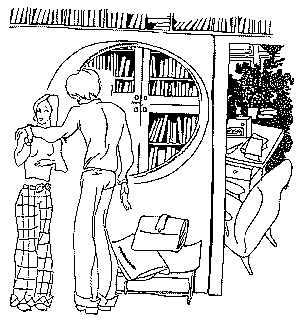 Конечно, сам по себе год рождения человека ничего не значит для его жизни. Например, отец мой родился в год смерти Репина, а мама – в год смерти Горького, но папа не стал художником, а мама не стала писателем. А я вот появился на свет вечером 3 октября 1957 года, а 4 октября у нас запустили первый искусственный спутник Земли – как бы в честь меня. Это ли не намек на мое будущее? И я, полюбив физику с математикой, действительно рванулся туда. Пусть это смешно и даже глупо – стыковать случайные вещи, ведь в том же октябре родились еще тысячи самых разных людей, в том числе и ненавидящих физику с математикой, но уж очень хотелось увязать свою судьбу с мировыми событиями.
Конечно, сам по себе год рождения человека ничего не значит для его жизни. Например, отец мой родился в год смерти Репина, а мама – в год смерти Горького, но папа не стал художником, а мама не стала писателем. А я вот появился на свет вечером 3 октября 1957 года, а 4 октября у нас запустили первый искусственный спутник Земли – как бы в честь меня. Это ли не намек на мое будущее? И я, полюбив физику с математикой, действительно рванулся туда. Пусть это смешно и даже глупо – стыковать случайные вещи, ведь в том же октябре родились еще тысячи самых разных людей, в том числе и ненавидящих физику с математикой, но уж очень хотелось увязать свою судьбу с мировыми событиями.
– Не помню. А зачем?
– Да так.
– Ой, темнишь, Эп! – Валя погрозила мне пальцем. – Или это и называется философствовать?.. А знаешь, мне иногда кажется по твоим глазам, голосу, мыслям, что ты взрослый и только прикидываешься мальчишкой. Правда, правда!
– А это плохо?
– Наоборот! Приятно иметь другом мальчишку и взрослого в одном лице. Как-то надежнее, – прошептала Валя. – Стой, а почему ты не в девятом?
– Я долго во втором классе проболел… Как подумаю, что остался бы всего год, так аж зубы ломит!
– Ничего, Эп, два года – тоже пустяк! Выдюжишь! Я тебе не дам скучать! – загадочно щурясь и подбадривающе кивая, сказала Валя. – Так я пишу «нет»?
С вопросами я столько навозился, что все ответы я выдавал без задержки. Если мой ответ совпадал с Валиным, она удовлетворенно кивала, если нет – вскидывала брови.
– Твой любимый классический поэт?
– Пушкин.
– Так… А современный?
– Пушкин.
– Ты что, Эп, современных не читаешь?
– Не почитаю.
– Значит, не дорос еще.
– От Пушкина-то дорастать?
– Ладно-ладно, оставайся со своим Пушкиным, – сдалась Валя. – Твои любимые предметы?
– Математика и физика.
– Так… Нелюбимые?
– Один русский.
– Ой ли? – усомнилась Валя. – А английский?
– М-м…
– Не бойся, не обижусь.
– Я не боюсь. Просто мне стало интереснее. Нет, правда! Кстати, переведи одну фразу!.. Сейчас… М-м, ага! Here’s a health to thee Mary!
– Твое здоровье, Мери.
– Правильно! А знаешь, откуда это?.. Эпиграф к стихам Пушкина:
У меня даже мысль появилась – выбрать из Пушкина все на английском языке, так, для интереса, хотя кто-то, наверно, давно уже выбрал и, может быть, даже защитил диссертацию.
Пью за здравие Мери.
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.
– Эп, я же говорила, что в тебе спит англичанин и что я разбужу его! Кажется, разбудила.
– А знаешь, Валя, он, по-моему, не спал, а дремал. Еще до тебя я Вовке Желтышеву придумал кличку Елоу. Все подхватили, но, конечно, на русский лад – Еловый!
Валя засмеялась, но тут же нахмурилась.
– Ага, значит, ты сам дремал, сам проснулся, а я тут ни при чем? – спросила она.
– Ну, что ты!.. Без тебя я бы, может, так и умер в полудреме! – признался я, и Валя просияла. – Кстати, я и тебе прозвище нашел – «Буллфинч».
Действительно, я прямо спятил с этим английским. Ложусь с ним и встаю, ем и пью, кричу и пою, даже спорю по-нерусски с Мебиусом. О том, что я все хватаю на лету, Валя сказала в тот раз нарочно, для родительского успокоения, она и сама еще не знала, как я потяну лямку, но скажи она это теперь – была бы права. Во мне вдруг пробились какие-то неведомые родники, просветленно-жгучие, и били без устали, освежая и обновляя меня. Казалось бы, ну что можно успеть за считанные дни, а вот успел!..
Анкетный свиток развивался дальше.
– О, приготовься, Эп! – оживилась Валя и впилась в меня лукавым взглядом. – Есть ли у тебя подруга?
Я гмыкнул и спросил:
– А ты как думаешь?
– Эп, не юли!
– Кажется, есть.
– Так и писать – «кажется»?
– Не знаю.
Валя испытующе посмотрела на меня, печально-осуждающе качнула головой и написала: «есть» – без «кажется». Слабый я человек: во мне что-то дрогнуло, и к векам мгновенно подступил влажный жар. А Валя продолжала:
– Куришь? Нет, – сама же ответила она. – Пьешь? Нет.
– Пью.
– Как пьешь?
– Как нальют: полстакана – полстакана, рюмку – рюмку. По праздникам, конечно.
– Ну и пьяница – насмешил! – развеселилась Валя. – По праздникам и я пью. Это не считается.
– А мы решили считать.
– Тогда у вас все алкоголиками будут.
– Вот и проверим.
– Ох, и влетит вам!.. Ну, ладно, поехали дальше… Хочешь ли ты оставить школу?
Сейчас острота этого вопроса притупилась, а последние дни все больше убеждали меня в том, что десятилетку оканчивать надо, иначе можно вывихнуть свою жизнь, но тут я решил проверить Валю и твердо ответил:
– Хочу.
– Эп, да ты что! – валя бросила ручку и выпрямилась. – Хочешь остаться со свечным огарком, как говорила Римма Михайловна?
– У нее же мрачный взгляд.
– Но и точный!.. Я это поняла! А в точности всегда, наверно, есть доля мрачности.
– А тебе ни разу не хотелось бежать из школы?
– Наоборот! Мне всегда хотелось бежать в школу, и только в школу, чтобы, кроме уроков, ни о чем не заботиться, а уроки для меня делать – это семечки щелкать! – Валя уже отвлеклась от моих дел и подключила свои переживания. – Правда, Эп! Та, будущая самостоятельность меня пугает!.. А вдруг это будет очень трудно? Вдруг я не справлюсь?
– Не пугайся, у тебя не будет самостоятельности, – сказал я, чувствуя, что готовлюсь к сальто-мортале.
– Почему это?
– Выйдешь замуж – и все! – крутанул я.
– А замуж – это что, не самостоятельность?
– Нет.
– Ух, ты, какой философ!
– А что, вон Евгений Онегин был философом в осьмнадцать лет, – напомнил я, возвращаясь в свой диапазон. – Мне вот-вот шестнадцать, пора начинать философствовать.
– Как, Эп, тебе разве будет шестнадцать? – удивилась Валя.
– Да, – печально подтвердил я. – Я с пятьдесят седьмого.
– А я с пятьдесят восьмого, и мне в июле будет уже пятнадцать, – радостно сообщила Валя.
– Дитя!.. А что было в пятьдесят восьмом?
Валя задумалась.
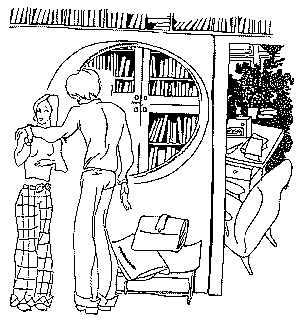
– Не помню. А зачем?
– Да так.
– Ой, темнишь, Эп! – Валя погрозила мне пальцем. – Или это и называется философствовать?.. А знаешь, мне иногда кажется по твоим глазам, голосу, мыслям, что ты взрослый и только прикидываешься мальчишкой. Правда, правда!
– А это плохо?
– Наоборот! Приятно иметь другом мальчишку и взрослого в одном лице. Как-то надежнее, – прошептала Валя. – Стой, а почему ты не в девятом?
– Я долго во втором классе проболел… Как подумаю, что остался бы всего год, так аж зубы ломит!
– Ничего, Эп, два года – тоже пустяк! Выдюжишь! Я тебе не дам скучать! – загадочно щурясь и подбадривающе кивая, сказала Валя. – Так я пишу «нет»?
