Страница:
«Надо быть справедливыми, – сказала Мартина, – в случае с Алексом нельзя всю вину валить только на папу, хотя он и занял неверную позицию. Если бы Алекс любил меня по-настоящему, он продолжал бы любить меня, несмотря на все домашние неурядицы – вспомни Ромео и Джульетту!»
Их имена не больно много мне говорят. Я знаю только, что они оба в финале пьесы каким-то образом покончили с собой. Поэтому я был рад, что Мартина разлюбила Алекса.
«Но папа все равно неправ, – продолжила Мартина, потому что он ополчился на Алекса из-за его длинных волос и круглых дешевых очков. А кто судит о людях по таким чисто внешним признакам, тот далек от справедливости!» Недостаток Алекса, по мнению Мартины, состоит в том, что он еще не созрел для отношений «Он + Она». Я в этих делах профан. Но мне было до чертиков приятно, что у нас с Мартиной такие хорошие отношения «Он + Она» и что это = (равняется) ежедневным занятиям по математике.
Хаслингер все еще болел, у него какая-то штуковина в печени – долгая канитель. По математике у нас теперь молодой учитель, вот уж кто молодчага! Меня он считает хорошим учеником. После того как Славик Берти сказал ему, что я в классе самый никудышный, он полез в мою тетрадь. И слегка ошалел. Как он выразился, для него это – кроссворд. У одноклассничков челюсти отвисли от изумления. Они загалдели: со мной, должно быть, занимался маг и чародей. А Шестак, самый слабый в классе, если не считать меня, долго выклянчивал адрес чудо-репетитора. Он никак не хотел верить, что со мной занималась только моя сестра. Шестак сказал: «Ну, теперь ни у кого язык не повернется утверждать, что потрясный симпомпончик еще и не зверь в математике!»
Я в душе порадовался, что мою сестру считают потрясным симпомпончиком.
Как-то, дело было вечером, у нас зазвонил телефон, а папа в это время шел из кухни через прихожую, держа в руках проросшую картошку. Он снял трубку. «46-65-625. Хогельман у аппарата», – отрапортовал он. Папа по телефону всегда так обстоятельно докладывается. Странно, как это он еще и адрес не называет.
Он напряженно приник к трубке, и на лице его появилось выражение полной растерянности. Через каждые две секунды он повторял: «Да, да, фрау Шестак» и «Ну что Вы, ну что вы, фрау Шестак». Наконец он сказал: «Целую ручку, фрау Шестак, всего доброго, фрау Шестак» – и повесил трубку.
Мы знаем только одну фрау Шестак – мать Шестака, с которым я учусь. Папа всегда адски любезен с Шестаками, потому что господин Шестак – директор автостраха. Но не того, где служит папа.
Положив трубку, папа перевел взгляд на нас, затем он откашлялся. Заметно было, что с нами он разговаривает через силу. Он сказал: «Я с фрау Шестак говорил!»
Надо же, а мы и не догадывались! Особенно после того, как он только что раз сто произнес «фрау Шестак».
Далее папа сказал: «По всей видимости, моя дочь гениальная репетиторша! Но разве в этом доме можно хоть что-нибудь друг от друга узнать? Стоишь, понимаешь, у телефона как круглый идиот, и ни черта не понимаешь! В принципе я против того, чтобы несовершеннолетние девочки зарабатывали деньги. Лучше бы Мартина больше внимания уделяла занятиям. Она еще тоже всех высот не достигла! Но мне пришлось сделать исключение только ради семьи Шестак! Папа в упор взглянул на Мартину: – Завтра позвонишь фрау Шестак и обговоришь с ней все в подробностях! Деньги положишь на сберкнижку!»
Мартина сделала большие глаза: «Что я должна обговорить? Какие такие деньги?»
Папа уже двигался к своей комнате. Он обернулся: «Со следующей недели ты будешь заниматься по математике с Титусом Шестаком. А деньги, которые за это получишь, пойдут на сберкнижку! – Уже держась за ручку двери, он добавил: – Во всяком случае, часть денег!» И скрылся в своей комнате.
«Папа, папа! – закричал Ник. – Ты забыл королевский ужин!»
Возле телефона лежала проросшая картошка. Ник взял картошку и помчался к папе. Я слышал, как папа сказал: «Спасибо, мой дорогой сыночек!»
Мартина рвала и метала. Она ничего не имеет против занятий с Титусом Шестаком, совсем наоборот. Она уже давно подумывала об учениках. Просто везде, как правило, приглашают семи-восьмиклассников. Даже против откладывания части денег на сберкнижку она ничего не имеет, но она против того, чтобы папа все так просто за нее решал. Он мог бы, на худой конец, поинтересоваться, хочет она этого или нет. И вообще тактичный отец прямо в начале телефонного– разговора сказал бы: «Милая фрау Шестак, это уж как моя дочь решит. Одну секундочку, я приглашу ее к аппарату!»
Мама успокаивала Мартину. Главное, говорила она, что занятия с Титусом Шестаком ей не претят и что за них деньги идут.
Я вышел в сад. Люблю побродить иногда по растворяющемуся в вечерних сумерках саду. Окно папиной комнаты было открыто, только наглухо зашторено. До меня доносились голоса папы и Ника. Ник смеялся. Я не стал подходить к окну. Я ведь не шпик какой-нибудь, вроде куми-орского предводителя. Мне стало грустно. Я подумал: «Бедный Ник! Пока еще все у тебя в жизни прекрасно. Пока еще у тебя дивные отношения с папой. Но через пару лет все это уйдет!»
Я-то сам отлично помню, как мы с папой жили душа в душу. Хорошее было времечко. Маленьких детей папа обожает. Он и в домино с тобой сыграет, и конструктор соберет и разберет, и сказочку расскажет. И на прогулках всегда было весело-превесело. Он в прятки с нами играл. И в салочки. И я верил, что у меня замечательный папа.
Уже не могу припомнить, в какой, собственно говоря, момент наши отношения дали трещину, но его вдруг абсолютно все перестало устраивать. То я слишком плохо мылся, то невежливо отвечал. Я завел дурных друзей, отпустил слишком длинные волосы, ногти на моих руках были грязные. Жевательная резинка его раздражала. Мои джемперы казались ему слишком пестрыми. А школьные отметки слишком плохими. Я слишком мало бывал дома. А если был дома, то слишком много смотрел телевизор. А если не смотрел телевизор, то встревал во взрослые разговоры или спрашивал о вещах, меня никакой стороной не касающихся. А если я совсем ничего не делал, то он попрекал меня тем, что я совсем ничего не делаю, а только слоняюсь из угла в угол.
Мартина говорит, с ней это точно так же происходило. Корень зла в том, считает она, что папа не может усвоить простую истину: дети – люди, как и все; у них есть свои – взгляды и желание быть самостоятельными. Папе это не по нутру. Почему так получается, Мартина тоже не знает.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
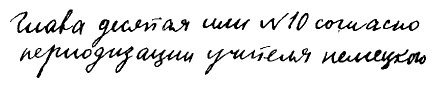
Я решил добраться в этом деле до самого дна. Дно находится на большой глубине. Песочных формочек Ника ждут там как манну небесную, и они действительно появляются с неба.
С того момента, как мы отобрали свои вещи у куми-орского короля, он больше не объявлялся. Я полагаю, он теперь прочно засел в папиной комнате. Во всяком случае, скрипы и шорохи прекратились. Вещи Мартины и мои были в целости и сохранности.
На улице пригревало уже совсем по-весеннему. В один прекрасный день после школы – дед ушел на кегли – ко мне подкатился Ник. Он попросил укрепить ему качели на дубе. Мартины дома не было. Она сидела у Шестака Титуса, давала ему доп. урок. Титус, говорит Мартина, твердый орешек. Он не схватывает все на лету, как я. И вообще, он ее в упор не видит и не слышит. Она знай себе тараторит без умолку, вдалбливает ему, что минус на минус дает плюс, а он сидит как сфинкс и кивает, и думает при этом наверняка о чем-то другом. Когда она его потом спрашивает, что дает минус на минус, он смотрит на нее, как баран на новые ворота.
Да, так вот, я приладил качели для Ника и стал его раскачивать, потому что ему самому слабо раскачаться как следует. Вдруг Ник меня спрашивает: «Вы все еще ненавидите славного королика?»
Я сказал: «Ник, сделай одолжение, не говори об огуречной черепушке, как родного брата прошу!»
Но Ник не повел себя как родной брат. Он еще бог знает сколько нес всякую околесицу. Будто Огурцарь мечтает о малиновой мантии. Он видел в сборнике сказок у Ника сказочного короля в мантии из парчи. И теперь желает такую же. И что Мартина вполне могла бы сшить Огурцарю мантию. Нику так хочется повеселить Огурцаря, а то он такой несчастный, и глаза у него все время на мокром месте.
«Знаешь, Вольфи, – сказал Ник, – бедный король совсем нос повесил. Он ведь думал, что подвалюд позовет его обратно. А подвалюд все не идет да не идет. Король-то у нас уже ой-ой-ой как давно! Эти подданные и впрямь дрянные людишки, а?»
Я бросил качели и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, пошел. Вообще-то я хотел пойти в бассейн, но тут мне в голову пришла идея. Я подумал: «А проверю-ка я, в конце концов, не загнул ли Огурцарь насчет куми-орских подданных».
Я удивился, как это мне раньше в голову не пришло.
Я вернулся домой. Прокрался мимо кухонной двери. В кухне возилась мама. Мне не хотелось, чтобы она видела, как я лезу в подвал.
Я осторожно потянул на себя дверцу. Потом включил подвальное освещение и бесшумно прикрыл ее за собой. Спустился по лестнице в верхний подвал. Здесь все как обычно: полки с дедушкиным инструментом, трехколесный велик Ника, баночки с конфитюром. Я подошел к дверце нижнего подвала. В ней было выпилено квадратное отверстие, так примерно пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Дед уверял, что это, вне всякого сомнения, сделано для кошки. Прежний хозяин дома, очевидно, держал кошку и дыру вырезал, чтобы кошка могла сновать туда-сюда.
Теперь же кошачий лаз был залеплен какими-то странноватыми комочками земли. Несколько месяцев назад, когда я последний раз спускался в подвал, дырка еще была. Я попробовал открыть дверцу. Она не подалась. Я не стал ее дергать, чтобы Ник или мама не услышали. Я выбрал из дедушкиного набора длинный остроносый напильник и просунул его под дверцу (мой учитель физики сказал бы: «Применен закон рычага!»).
С законом рычага получилось законно – замок с хрустом отделился от двери. Но дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Я тянул изо всех сил. Все, чего я достиг, – дверца отошла на толщину пальца. Она была приклеена по периметру к дверной раме густой сетью липких коричневых ниточек. Вход замуровали совсем недавно – нити еще сырые. Можно было четко определить, что заклеивали дверь изнутри, со стороны нижнего подвала.
Я взял с дедушкиных полок здоровые садовые ножницы и в два счета отчикал всю липкую сеть.
Дверца подалась.
В нижний подвал мы электричества не проводили. Я включил карманный фонарик, он же гоночный автомобиль, и полез вниз. Ступени были сырые и скользкие. И все стены кругом тоже были сырые. Лестница оказалась очень длинной. Я считал ступеньки, их было тридцать семь. Тридцать семь очень высоких ступенек. Я очутился в довольно просторном помещении. Посветил фонариком на стены. Выглядели они зловеще, были не гладкие и ровные, а сплошь в выбоинах, трещинах, буграх, подтеках, от света фонарика по стенам поползли причудливые тени.
Внизу, в углах, я обнаружил множество отверстий. Каждое диаметром сантиметров пятнадцать – двадцать. На одной стене на уровне колена зияла огромная дыра шириной в полметра. По ее окружности шла чудная отделка из микроскопических шариков – то ли земляных, то ли глиняных.
Я посветил в украшенное отверстие и увидел просторный ход, также выложенный улиточьими ракушками, камушками и подземными корневыми побегами. А дальше виднелась узкая норка. Но ее я различал с трудом: свет от фонарика туда почти не доставал.
Я лег на землю и пустил луч в одну из маленьких норок. Внутри зашуршало и закопошилось. Даже показалось, будто что-то промелькнуло. А может быть, мне это только показалось? Я вышел на середину подвала и сказал: «Ау, есть тут кто-нибудь?»
Шуршание возобновилось.
Я опять говорю: «Ау, ау». При этом сознаю всю нелепость своего положения. Эхо дважды повторило «ау, ау». С удивлением отметил, что мне нисколечко не страшно.
В норках что-то заерзало, донесся легкий шепот.
Предельно четко и предельно спокойно я сказал: «Я ваш друг! Я не собираюсь причинять вам зла, куми-орскйе подданные!»
Положение мое было теперь – глупее не придумаешь. В голове пронеслось: «Выступаешь ну чисто как миссионер в девственном лесу!»
Тут меня осенило: а вдруг куми-орцы нормального языка не понимают? Тогда я попробовал так: «Я вашина другзя-тина! Мы ничехочем и нежелатин заделать вам обижанец, куроимские погребешки!»
Шептание усилилось и переросло в слитное глухое бормотание. Я крикнул: «Вылизывайте сюда! Ничехвост вашастому не заделаем!»
Неожиданно из одной норки раздался тоненький голосок: «Эй вы, голова два уха! Перестаньте молоть чепуху. С нами можно разговаривать нормальным языком!»
Мое положение стало уже таким, что я готов был провалиться сквозь землю – еще глубже. Я промямлил: «Извините, но у нас там, в комнате, один типчик, так он такие перлы выдает, ну я и подумал…»
В большой норе поднялся сильный гомон. Затем из отверстия высунулись пять маленьких человечков. Они смахивали на куми-орского короля, только были не огуречно-тыквенного цвета, а картофельно-серо-коричневого. Я посветил на них. Они зажмурились и заслонили глаза руками. Их руки отличались от лапок Огурцаря. Для лилипутского роста руки куми-орцев казались просто крупными грубыми лапищами с толстыми мясистыми пальцами.

«Чего тебе от нас нужно?» – спросил один из пяти.
«У нас наверху ваш король», – ответил я.
«Во-первых, нам это известно», – сказал другой член пятерки, крайний слева.
«Во-вторых, он уже для нас не король», – сказал его сосед.
«В-третьих, мы ничего о нем слышать не желаем», – сказал тот, что стоял посередине.
«В-четвертых, у нас дел невпроворот. Так что не мешай нам», – сказал четвертый.
«В-пятых, мы прекрасно обходимся без посторонних и не имеем ни малейшего желания якшаться со всякими любопытствующими», – сказал последний.
Я стоял огорошенный, не зная, что возразить, но так как мне все же очень хотелось разговорить куми-орцев, я задал вопрос: «Не могу ли я быть вам хоть чем-нибудь полезен? Вы мне гораздо симпатичнее, чем этот бритый гусь в короне. Я с удовольствием сделал бы для вас чего-нибудь!»
В норках сразу стало тихо.
Тот, что стоял посередине, воскликнул: «Граждане Куми-Ории! Верите ли вы мальчику?»
Из всех дыр выставились серо-коричневые головки куми-орцев и повернулись ко мне. Я постарался изобразить на лице максимально приветливое выражение, осклабился, как овечка, и опять показался себе миссионером в девственном лесу. Граждане Куми-Ории разглядывали меня с нескрываемым любопытством. В норах вспыхнул и погас доброжелательный ропот.
«Должны ли мы доверять ему?» – спросила пятерка из большой норы. Отовсюду раздалось: «Да, да!»
Меня распирала гордость оттого, что удалось произвести на куми-орцев хорошее впечатление.
«Добро, – сказал один из пяти, – мы доверяем ему».
Все пятеро выпрыгнули из большой дыры, и каждый пожал мне руку. Ладони у них были твердые, сильные. Не то что сырое тесто. Подошли куми-орцы из маленьких нор, обступили меня. Были они все серо-коричневые, ростом меньше Огурцаря и суше, но вот руки и ступни ног у них были покрупнее огурцарских.
Я спросил еще раз, чем можно им помочь.
Один куми-орец сказал, что им понадобятся инструменты. До них дошел слух, что наверху, на земле, есть инструменты. В таких вещах у них острая потребность, им уже очень давно все приходится делать вручную: и копать, и прорывать ходы, и перемешивать раствор, и все-все. Еще несколько иголок пригодились бы. И, пожалуй, пара мотков проволоки. Все пойдет в дело. Они думают построить школу, ратушу и стадион. Да еще им предстоит перекопать подземные картофельные поля.
В былые времена, поделился со мной другой гражданин Куми-Ории, в те времена, когда Огурцарь был еще государем-правителем, у них не было ни школы, ни ратуши, ни стадиона. Они сиднем сидели на одном месте, как болванчики, и безостановочно скатывали во рту мелкие земляные шарики. Из них и строился огромный дворец для Огурцаря. Слюна куми-орцев вязкая, как клейстер, она-то и скрепляла шарики-кирпичики. Огурцарский дворец они мне показать не могли, потому что он находился внутри стены, за большой норой. Но один куми-орец указал на облицовку норы и грустно-прегрустно сказал: «Только над этим трудились всю жизнь три поколения моей родни!» Пока господствовали Подземлинги, дети куми-орцев не имели права посещать школу. Школа была доступна лишь деткам подвалецов и подвализ. А на подземных картофельных полях куми-орцам дозволялось выращивать картошки ровно столько, чтобы не протянуть ноги. Все остальное время они должны были выжевывать и слюнявить украшения для королевского дворца.
А еще один гражданин Куми-Ории объяснил мне: у них теперь такой завал работы, потому что слишком многое приходится наверстывать. Сплошь да рядом чего-то не хватает. Но они справятся, заверили меня пятеро из большой норы.
Я бросился в верхний подвал и сгреб в кучу все, что могло пригодиться куми-орцам. В три приема я перетаскал вниз целую гору.
Самую большую радость вызвали песочные формочки Ника. Они привели куми-орцев в неописуемый восторг. Куми-орцы сказали, что при случае я могу запросто навестить их еще раз. И они мне очень-преочень благодарны. Один даже пообещал поставить мне памятник. Но другие подняли шум – памятники у них теперь отменены. Я заявил, что памятник мне и даром не нужен, а формочки Ника совсем бросовые и все равно никакой ценности не имеют. Да у него и новые есть.
Наверх я вылез перепачканный с головы до ног. Мама сказала, что от меня идет какой-то дурной запах. Хотела бы она знать, где это меня носило. Я промолчал, потому что это бы ее только лишний раз выбило из колеи. Но Мартине я открыл все без утайки, и мы тут же порешили насобирать где только можно старые песочные формочки – у друзей и так, где придется. Я говорю: «Слушай, Мартина, а если нас спросят, зачем нам эта дребедень?»
Мартина рассмеялась: «Скажем, что для негритянских детей! В это они как пить дать поверят!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
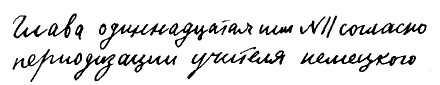
В школе поговаривают, будто у меня шарики за ролики заехали. Даже не представлял, что существует такое «бескорыстное» отношение к неграм. Засоряю мусоропровод. Маме ничего не удается у нас выведать. В этой главе, ради разнообразия, нервы сдают у деда.
Ребята из нашего класса начали поговаривать: «У Вольфганга Хогельмана шарики за ролики заехали!» Во-первых, я ни с того ни с сего стал здорово решать задачки. И, во-вторых, я попросил всех принести мне старые формочки и совочки.
Хубер Эрих, которому везде психология мерещится, сказал, что ему тут все яснее ясного: мозг Вольфганга в настоящий момент разламывается от уравнений. Все клетки мозга, все маленькие серенькие клеточки считают как осатанелые. Но делать им это неохота. С большим удовольствием они занялись бы чем-нибудь другим. В силу этого в маленьких сереньких клеточках разгорается тоска по годам детства, когда им не приходилось как осатанелым считать и считать. И серенькие клеточки подают Вольфи команду: собирай формочки и совочки. Они заинтересованы, чтобы Вольфи снова впал в детство. Тогда им не придется перенапрягаться! Это заявление всех рассмешило. А расскажи им, зачем я на самом деле собираю формочки, они бы и подавно сочли меня психом.

Кстати, Титус Шестак притащил мне шестнадцать сверкающих, совершенно новеньких песочных наборов. Все – его младшей сестры, которая свихнулась на почве приобретательства. Каждую неделю она получает новый набор. Требуя их, она визжит, как наш школьный звонок. Фрау Шестак сказала, что уж лучше платить двадцать шиллингов в неделю (цена одного набора) – здоровье дороже.
Короче говоря, у меня уже собралось тридцать шесть наборов: формочки, ведерки, грабли, совки. Я выпросил у дворника здоровенный мешок, чтобы дотащить все это до дома.
По дороге мне повстречалась грузная дама. Грузная дама спросила, что я собираюсь делать с таким огромным мешком игрушек. Я кротко ответил, все собрано для бедных негритянских деток. Грузная дама пришла в восторг, сказала, что это восхитительно, очаровательно и что она тоже непременно должна внести свою лепту. Она затащила меня в высокий дом, и я против воли поплелся за ней на пятый этаж. Через старомодную переднюю мы прошли в кухню. Там стояла длинная скамья, оказавшаяся на поверку рундуком. Она открыла его и извлекла на свет целую кучу всякого барахла: обрезки материи, поношенные носки, песочные часы, бечевку для сушки белья, пластмассовое ведерко, пустые горчичницы, грязное белье, соломенную шляпку и облезлых мишек, которыми играли еще при царе Горохе, и много-много прочей рухляди. Одновременно она приговаривала: «Куда же запропастились формочки? Они тут уже лет десять вылеживаются!»
Заодно она показала мне фотокарточки ее Гансика. На одной он сидит с лопаточкой в песочнице, на другой – направляется на конфирмацию, на третьей – женится, на четвертой держит на руках нового маленького Гансика.
Она снова принялась искать, бормоча: «Да, надо делать добрые дела! Добрые дела! Для бедненьких негритят!» И еще: «У них ведь там в пустыне так много песка и ни одного ведерочка, ни одного совочка!»
Наконец обнажилось дно рундука. Формочек в нем так и не оказалось. Я мечтал поскорее вырваться отсюда, торчать здесь вовсе не входило в мои планы. Как назло, грузная дама вцепилась в меня как клещ. Она подыщет для негритят что-нибудь другое, успокоила она. Я попытался внушить ей, что нас интересуют исключительно игрушки для песочницы, но она пропустила мои слова мимо ушей. Она сунула мне под мышку дряхлого, полысевшего мишку. Она сказала, я не должен быть таким скромником, она-де от всего сердца, ведь речь идет о. бедненьких неграх!
Какое-то время в кухне вертелась еще одна женщина. Ей якобы нужно было одолжить яйцо. По-видимому, она услышала о моей коллекции. Когда я спускался по лестнице с мишкой и разбухшим мешком, все двери распахивались и люди вытаскивали вещи для негров. Я увиливал, как мог, но тщетно. Изо всех дверей доносились обеденные запахи. Я уже изрядно проголодался.
Когда я наконец выбрался на улицу, то уже был обладателем не только формочек, совков и облезлого медведя, но и трех кукол без глаз, двух без волос и еще одной без руки, а также паровоза без колес, серой выцветшей пижамы, кувшинчика «напейся, но не облейся» без носика, пакета сухого молока, книжки-картинки с изображениями маленьких негритят и пары разношенных шлепанцев. Весь хлам эти «добряки» рассовали по целлофановым пакетикам. Я бы с великим удовольствием бросил их прямо у подъезда, но, как нарочно, следом за мной спускалась дворничиха. Увешанный пакетами, как Дед-Мороз, я побрел по улице, не сворачивая. Пакеты трещали и лопались. Барахло сыпалось на тротуар. По дороге я трижды делал попытку избавиться от него, но всякий раз меня кто-нибудь нагонял с криком: «Ай-ай-ай, такой маленький, а уже такой рассеянный! Все свои вещи растерял!»
Я говорил «спасибо» и опять превращался в Деда-Мороза. Как это все-таки удивительно! Неделю назад из моего кармана выпали две пятишиллинговые монеты. Никто за мной тогда не несся на всех парах, чтобы вручить их мне!

У садовой калитки меня поджидала мама. Она волновалась, потому что я никогда так поздно не приходил.
«С этим „старье берем“ я тебя в дом не пущу!» – сказала она.
Я упрекнул ее в плохом отношении к негритянским детям. Она, сказал я, бойкотирует сбор пожертвований в пользу негров. Мама вытащила из одного пакета полинялые пижамные штаны. Одной штаниной, судя по всему, уже давно наводили глянец на обувь.
«Негритянские дети плевать хотели на это утильсырье!»
«Что правда, то правда», – согласился я и запихнул все, что принес, в мусоропровод. Разумеется, кроме формочек и совков.
Мама адски удивилась. Она высказалась в том духе, что, мол, большей глупости и нарочно не придумаешь: он, видите ли, ходит, побирается лишь затем, чтобы забивать мусоропровод в собственном доме.
В этот момент появилась Мартина, и глаза у мамы совсем округлились, потому что Мартина тоже тащила куль с песочными наборами. Увидев нас, она еще издали прокричала: «У меня семнадцать штук!»
«У меня тридцать шесть!» – гордо объявил я.
«Итого пятьдесят три, – сказала мама, – теперь негритянские дети смогут перелопатить всю Сахару!»
Покачивая головой, она ушла в дом.
Я прихватил оба куля и рванул в подвал. Мартина осталась караулить наверху у двери. Лестница была скользкая, и я кубарем скатился по ней в нижний подвал. Не ушибся, потому что приземлился на кули. Я сразу подошел к большой дыре и прокричал: «Приволок пятьдесят три набора!»
Куми-орцы высыпали из нор. То-то была радость! Они удивленно разглядывали целлофановые пакетики и спрашивали, что это за материал. Я пообещал объяснить им все в другой раз, а то сейчас опаздываю к обеду и вовсе не хочу, чтобы мама, чего доброго, принялась меня разыскивать и чтобы ей, чего доброго, пришло в голову наведаться в нижний подвал.
Куми-орцам тоже не захотелось, чтобы мама наведалась в нижний подвал. Один из них даже сказал мне: «Да, да, ваша правда! У нас по горло внутренних проблем, мы не в состоянии противостоять еще давлению извне!»
Я спросил, можно ли мне в следующий раз привести с собой сестру. Особого восторга по этому поводу куми-орцы не выразили, но сказали, что если она приблизительно такая, как я, то они уж как-нибудь потерпят.
Их имена не больно много мне говорят. Я знаю только, что они оба в финале пьесы каким-то образом покончили с собой. Поэтому я был рад, что Мартина разлюбила Алекса.
«Но папа все равно неправ, – продолжила Мартина, потому что он ополчился на Алекса из-за его длинных волос и круглых дешевых очков. А кто судит о людях по таким чисто внешним признакам, тот далек от справедливости!» Недостаток Алекса, по мнению Мартины, состоит в том, что он еще не созрел для отношений «Он + Она». Я в этих делах профан. Но мне было до чертиков приятно, что у нас с Мартиной такие хорошие отношения «Он + Она» и что это = (равняется) ежедневным занятиям по математике.
Хаслингер все еще болел, у него какая-то штуковина в печени – долгая канитель. По математике у нас теперь молодой учитель, вот уж кто молодчага! Меня он считает хорошим учеником. После того как Славик Берти сказал ему, что я в классе самый никудышный, он полез в мою тетрадь. И слегка ошалел. Как он выразился, для него это – кроссворд. У одноклассничков челюсти отвисли от изумления. Они загалдели: со мной, должно быть, занимался маг и чародей. А Шестак, самый слабый в классе, если не считать меня, долго выклянчивал адрес чудо-репетитора. Он никак не хотел верить, что со мной занималась только моя сестра. Шестак сказал: «Ну, теперь ни у кого язык не повернется утверждать, что потрясный симпомпончик еще и не зверь в математике!»
Я в душе порадовался, что мою сестру считают потрясным симпомпончиком.
Как-то, дело было вечером, у нас зазвонил телефон, а папа в это время шел из кухни через прихожую, держа в руках проросшую картошку. Он снял трубку. «46-65-625. Хогельман у аппарата», – отрапортовал он. Папа по телефону всегда так обстоятельно докладывается. Странно, как это он еще и адрес не называет.
Он напряженно приник к трубке, и на лице его появилось выражение полной растерянности. Через каждые две секунды он повторял: «Да, да, фрау Шестак» и «Ну что Вы, ну что вы, фрау Шестак». Наконец он сказал: «Целую ручку, фрау Шестак, всего доброго, фрау Шестак» – и повесил трубку.
Мы знаем только одну фрау Шестак – мать Шестака, с которым я учусь. Папа всегда адски любезен с Шестаками, потому что господин Шестак – директор автостраха. Но не того, где служит папа.
Положив трубку, папа перевел взгляд на нас, затем он откашлялся. Заметно было, что с нами он разговаривает через силу. Он сказал: «Я с фрау Шестак говорил!»
Надо же, а мы и не догадывались! Особенно после того, как он только что раз сто произнес «фрау Шестак».
Далее папа сказал: «По всей видимости, моя дочь гениальная репетиторша! Но разве в этом доме можно хоть что-нибудь друг от друга узнать? Стоишь, понимаешь, у телефона как круглый идиот, и ни черта не понимаешь! В принципе я против того, чтобы несовершеннолетние девочки зарабатывали деньги. Лучше бы Мартина больше внимания уделяла занятиям. Она еще тоже всех высот не достигла! Но мне пришлось сделать исключение только ради семьи Шестак! Папа в упор взглянул на Мартину: – Завтра позвонишь фрау Шестак и обговоришь с ней все в подробностях! Деньги положишь на сберкнижку!»
Мартина сделала большие глаза: «Что я должна обговорить? Какие такие деньги?»
Папа уже двигался к своей комнате. Он обернулся: «Со следующей недели ты будешь заниматься по математике с Титусом Шестаком. А деньги, которые за это получишь, пойдут на сберкнижку! – Уже держась за ручку двери, он добавил: – Во всяком случае, часть денег!» И скрылся в своей комнате.
«Папа, папа! – закричал Ник. – Ты забыл королевский ужин!»
Возле телефона лежала проросшая картошка. Ник взял картошку и помчался к папе. Я слышал, как папа сказал: «Спасибо, мой дорогой сыночек!»
Мартина рвала и метала. Она ничего не имеет против занятий с Титусом Шестаком, совсем наоборот. Она уже давно подумывала об учениках. Просто везде, как правило, приглашают семи-восьмиклассников. Даже против откладывания части денег на сберкнижку она ничего не имеет, но она против того, чтобы папа все так просто за нее решал. Он мог бы, на худой конец, поинтересоваться, хочет она этого или нет. И вообще тактичный отец прямо в начале телефонного– разговора сказал бы: «Милая фрау Шестак, это уж как моя дочь решит. Одну секундочку, я приглашу ее к аппарату!»
Мама успокаивала Мартину. Главное, говорила она, что занятия с Титусом Шестаком ей не претят и что за них деньги идут.
Я вышел в сад. Люблю побродить иногда по растворяющемуся в вечерних сумерках саду. Окно папиной комнаты было открыто, только наглухо зашторено. До меня доносились голоса папы и Ника. Ник смеялся. Я не стал подходить к окну. Я ведь не шпик какой-нибудь, вроде куми-орского предводителя. Мне стало грустно. Я подумал: «Бедный Ник! Пока еще все у тебя в жизни прекрасно. Пока еще у тебя дивные отношения с папой. Но через пару лет все это уйдет!»
Я-то сам отлично помню, как мы с папой жили душа в душу. Хорошее было времечко. Маленьких детей папа обожает. Он и в домино с тобой сыграет, и конструктор соберет и разберет, и сказочку расскажет. И на прогулках всегда было весело-превесело. Он в прятки с нами играл. И в салочки. И я верил, что у меня замечательный папа.
Уже не могу припомнить, в какой, собственно говоря, момент наши отношения дали трещину, но его вдруг абсолютно все перестало устраивать. То я слишком плохо мылся, то невежливо отвечал. Я завел дурных друзей, отпустил слишком длинные волосы, ногти на моих руках были грязные. Жевательная резинка его раздражала. Мои джемперы казались ему слишком пестрыми. А школьные отметки слишком плохими. Я слишком мало бывал дома. А если был дома, то слишком много смотрел телевизор. А если не смотрел телевизор, то встревал во взрослые разговоры или спрашивал о вещах, меня никакой стороной не касающихся. А если я совсем ничего не делал, то он попрекал меня тем, что я совсем ничего не делаю, а только слоняюсь из угла в угол.
Мартина говорит, с ней это точно так же происходило. Корень зла в том, считает она, что папа не может усвоить простую истину: дети – люди, как и все; у них есть свои – взгляды и желание быть самостоятельными. Папе это не по нутру. Почему так получается, Мартина тоже не знает.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
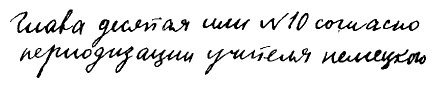
Я решил добраться в этом деле до самого дна. Дно находится на большой глубине. Песочных формочек Ника ждут там как манну небесную, и они действительно появляются с неба.
С того момента, как мы отобрали свои вещи у куми-орского короля, он больше не объявлялся. Я полагаю, он теперь прочно засел в папиной комнате. Во всяком случае, скрипы и шорохи прекратились. Вещи Мартины и мои были в целости и сохранности.
На улице пригревало уже совсем по-весеннему. В один прекрасный день после школы – дед ушел на кегли – ко мне подкатился Ник. Он попросил укрепить ему качели на дубе. Мартины дома не было. Она сидела у Шестака Титуса, давала ему доп. урок. Титус, говорит Мартина, твердый орешек. Он не схватывает все на лету, как я. И вообще, он ее в упор не видит и не слышит. Она знай себе тараторит без умолку, вдалбливает ему, что минус на минус дает плюс, а он сидит как сфинкс и кивает, и думает при этом наверняка о чем-то другом. Когда она его потом спрашивает, что дает минус на минус, он смотрит на нее, как баран на новые ворота.
Да, так вот, я приладил качели для Ника и стал его раскачивать, потому что ему самому слабо раскачаться как следует. Вдруг Ник меня спрашивает: «Вы все еще ненавидите славного королика?»
Я сказал: «Ник, сделай одолжение, не говори об огуречной черепушке, как родного брата прошу!»
Но Ник не повел себя как родной брат. Он еще бог знает сколько нес всякую околесицу. Будто Огурцарь мечтает о малиновой мантии. Он видел в сборнике сказок у Ника сказочного короля в мантии из парчи. И теперь желает такую же. И что Мартина вполне могла бы сшить Огурцарю мантию. Нику так хочется повеселить Огурцаря, а то он такой несчастный, и глаза у него все время на мокром месте.
«Знаешь, Вольфи, – сказал Ник, – бедный король совсем нос повесил. Он ведь думал, что подвалюд позовет его обратно. А подвалюд все не идет да не идет. Король-то у нас уже ой-ой-ой как давно! Эти подданные и впрямь дрянные людишки, а?»
Я бросил качели и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, пошел. Вообще-то я хотел пойти в бассейн, но тут мне в голову пришла идея. Я подумал: «А проверю-ка я, в конце концов, не загнул ли Огурцарь насчет куми-орских подданных».
Я удивился, как это мне раньше в голову не пришло.
Я вернулся домой. Прокрался мимо кухонной двери. В кухне возилась мама. Мне не хотелось, чтобы она видела, как я лезу в подвал.
Я осторожно потянул на себя дверцу. Потом включил подвальное освещение и бесшумно прикрыл ее за собой. Спустился по лестнице в верхний подвал. Здесь все как обычно: полки с дедушкиным инструментом, трехколесный велик Ника, баночки с конфитюром. Я подошел к дверце нижнего подвала. В ней было выпилено квадратное отверстие, так примерно пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Дед уверял, что это, вне всякого сомнения, сделано для кошки. Прежний хозяин дома, очевидно, держал кошку и дыру вырезал, чтобы кошка могла сновать туда-сюда.
Теперь же кошачий лаз был залеплен какими-то странноватыми комочками земли. Несколько месяцев назад, когда я последний раз спускался в подвал, дырка еще была. Я попробовал открыть дверцу. Она не подалась. Я не стал ее дергать, чтобы Ник или мама не услышали. Я выбрал из дедушкиного набора длинный остроносый напильник и просунул его под дверцу (мой учитель физики сказал бы: «Применен закон рычага!»).
С законом рычага получилось законно – замок с хрустом отделился от двери. Но дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Я тянул изо всех сил. Все, чего я достиг, – дверца отошла на толщину пальца. Она была приклеена по периметру к дверной раме густой сетью липких коричневых ниточек. Вход замуровали совсем недавно – нити еще сырые. Можно было четко определить, что заклеивали дверь изнутри, со стороны нижнего подвала.
Я взял с дедушкиных полок здоровые садовые ножницы и в два счета отчикал всю липкую сеть.
Дверца подалась.
В нижний подвал мы электричества не проводили. Я включил карманный фонарик, он же гоночный автомобиль, и полез вниз. Ступени были сырые и скользкие. И все стены кругом тоже были сырые. Лестница оказалась очень длинной. Я считал ступеньки, их было тридцать семь. Тридцать семь очень высоких ступенек. Я очутился в довольно просторном помещении. Посветил фонариком на стены. Выглядели они зловеще, были не гладкие и ровные, а сплошь в выбоинах, трещинах, буграх, подтеках, от света фонарика по стенам поползли причудливые тени.
Внизу, в углах, я обнаружил множество отверстий. Каждое диаметром сантиметров пятнадцать – двадцать. На одной стене на уровне колена зияла огромная дыра шириной в полметра. По ее окружности шла чудная отделка из микроскопических шариков – то ли земляных, то ли глиняных.
Я посветил в украшенное отверстие и увидел просторный ход, также выложенный улиточьими ракушками, камушками и подземными корневыми побегами. А дальше виднелась узкая норка. Но ее я различал с трудом: свет от фонарика туда почти не доставал.
Я лег на землю и пустил луч в одну из маленьких норок. Внутри зашуршало и закопошилось. Даже показалось, будто что-то промелькнуло. А может быть, мне это только показалось? Я вышел на середину подвала и сказал: «Ау, есть тут кто-нибудь?»
Шуршание возобновилось.
Я опять говорю: «Ау, ау». При этом сознаю всю нелепость своего положения. Эхо дважды повторило «ау, ау». С удивлением отметил, что мне нисколечко не страшно.
В норках что-то заерзало, донесся легкий шепот.
Предельно четко и предельно спокойно я сказал: «Я ваш друг! Я не собираюсь причинять вам зла, куми-орскйе подданные!»
Положение мое было теперь – глупее не придумаешь. В голове пронеслось: «Выступаешь ну чисто как миссионер в девственном лесу!»
Тут меня осенило: а вдруг куми-орцы нормального языка не понимают? Тогда я попробовал так: «Я вашина другзя-тина! Мы ничехочем и нежелатин заделать вам обижанец, куроимские погребешки!»
Шептание усилилось и переросло в слитное глухое бормотание. Я крикнул: «Вылизывайте сюда! Ничехвост вашастому не заделаем!»
Неожиданно из одной норки раздался тоненький голосок: «Эй вы, голова два уха! Перестаньте молоть чепуху. С нами можно разговаривать нормальным языком!»
Мое положение стало уже таким, что я готов был провалиться сквозь землю – еще глубже. Я промямлил: «Извините, но у нас там, в комнате, один типчик, так он такие перлы выдает, ну я и подумал…»
В большой норе поднялся сильный гомон. Затем из отверстия высунулись пять маленьких человечков. Они смахивали на куми-орского короля, только были не огуречно-тыквенного цвета, а картофельно-серо-коричневого. Я посветил на них. Они зажмурились и заслонили глаза руками. Их руки отличались от лапок Огурцаря. Для лилипутского роста руки куми-орцев казались просто крупными грубыми лапищами с толстыми мясистыми пальцами.

«Чего тебе от нас нужно?» – спросил один из пяти.
«У нас наверху ваш король», – ответил я.
«Во-первых, нам это известно», – сказал другой член пятерки, крайний слева.
«Во-вторых, он уже для нас не король», – сказал его сосед.
«В-третьих, мы ничего о нем слышать не желаем», – сказал тот, что стоял посередине.
«В-четвертых, у нас дел невпроворот. Так что не мешай нам», – сказал четвертый.
«В-пятых, мы прекрасно обходимся без посторонних и не имеем ни малейшего желания якшаться со всякими любопытствующими», – сказал последний.
Я стоял огорошенный, не зная, что возразить, но так как мне все же очень хотелось разговорить куми-орцев, я задал вопрос: «Не могу ли я быть вам хоть чем-нибудь полезен? Вы мне гораздо симпатичнее, чем этот бритый гусь в короне. Я с удовольствием сделал бы для вас чего-нибудь!»
В норках сразу стало тихо.
Тот, что стоял посередине, воскликнул: «Граждане Куми-Ории! Верите ли вы мальчику?»
Из всех дыр выставились серо-коричневые головки куми-орцев и повернулись ко мне. Я постарался изобразить на лице максимально приветливое выражение, осклабился, как овечка, и опять показался себе миссионером в девственном лесу. Граждане Куми-Ории разглядывали меня с нескрываемым любопытством. В норах вспыхнул и погас доброжелательный ропот.
«Должны ли мы доверять ему?» – спросила пятерка из большой норы. Отовсюду раздалось: «Да, да!»
Меня распирала гордость оттого, что удалось произвести на куми-орцев хорошее впечатление.
«Добро, – сказал один из пяти, – мы доверяем ему».
Все пятеро выпрыгнули из большой дыры, и каждый пожал мне руку. Ладони у них были твердые, сильные. Не то что сырое тесто. Подошли куми-орцы из маленьких нор, обступили меня. Были они все серо-коричневые, ростом меньше Огурцаря и суше, но вот руки и ступни ног у них были покрупнее огурцарских.
Я спросил еще раз, чем можно им помочь.
Один куми-орец сказал, что им понадобятся инструменты. До них дошел слух, что наверху, на земле, есть инструменты. В таких вещах у них острая потребность, им уже очень давно все приходится делать вручную: и копать, и прорывать ходы, и перемешивать раствор, и все-все. Еще несколько иголок пригодились бы. И, пожалуй, пара мотков проволоки. Все пойдет в дело. Они думают построить школу, ратушу и стадион. Да еще им предстоит перекопать подземные картофельные поля.
В былые времена, поделился со мной другой гражданин Куми-Ории, в те времена, когда Огурцарь был еще государем-правителем, у них не было ни школы, ни ратуши, ни стадиона. Они сиднем сидели на одном месте, как болванчики, и безостановочно скатывали во рту мелкие земляные шарики. Из них и строился огромный дворец для Огурцаря. Слюна куми-орцев вязкая, как клейстер, она-то и скрепляла шарики-кирпичики. Огурцарский дворец они мне показать не могли, потому что он находился внутри стены, за большой норой. Но один куми-орец указал на облицовку норы и грустно-прегрустно сказал: «Только над этим трудились всю жизнь три поколения моей родни!» Пока господствовали Подземлинги, дети куми-орцев не имели права посещать школу. Школа была доступна лишь деткам подвалецов и подвализ. А на подземных картофельных полях куми-орцам дозволялось выращивать картошки ровно столько, чтобы не протянуть ноги. Все остальное время они должны были выжевывать и слюнявить украшения для королевского дворца.
А еще один гражданин Куми-Ории объяснил мне: у них теперь такой завал работы, потому что слишком многое приходится наверстывать. Сплошь да рядом чего-то не хватает. Но они справятся, заверили меня пятеро из большой норы.
Я бросился в верхний подвал и сгреб в кучу все, что могло пригодиться куми-орцам. В три приема я перетаскал вниз целую гору.
Самую большую радость вызвали песочные формочки Ника. Они привели куми-орцев в неописуемый восторг. Куми-орцы сказали, что при случае я могу запросто навестить их еще раз. И они мне очень-преочень благодарны. Один даже пообещал поставить мне памятник. Но другие подняли шум – памятники у них теперь отменены. Я заявил, что памятник мне и даром не нужен, а формочки Ника совсем бросовые и все равно никакой ценности не имеют. Да у него и новые есть.
Наверх я вылез перепачканный с головы до ног. Мама сказала, что от меня идет какой-то дурной запах. Хотела бы она знать, где это меня носило. Я промолчал, потому что это бы ее только лишний раз выбило из колеи. Но Мартине я открыл все без утайки, и мы тут же порешили насобирать где только можно старые песочные формочки – у друзей и так, где придется. Я говорю: «Слушай, Мартина, а если нас спросят, зачем нам эта дребедень?»
Мартина рассмеялась: «Скажем, что для негритянских детей! В это они как пить дать поверят!»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
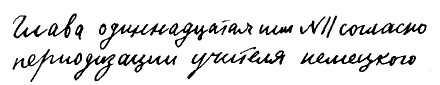
В школе поговаривают, будто у меня шарики за ролики заехали. Даже не представлял, что существует такое «бескорыстное» отношение к неграм. Засоряю мусоропровод. Маме ничего не удается у нас выведать. В этой главе, ради разнообразия, нервы сдают у деда.
Ребята из нашего класса начали поговаривать: «У Вольфганга Хогельмана шарики за ролики заехали!» Во-первых, я ни с того ни с сего стал здорово решать задачки. И, во-вторых, я попросил всех принести мне старые формочки и совочки.
Хубер Эрих, которому везде психология мерещится, сказал, что ему тут все яснее ясного: мозг Вольфганга в настоящий момент разламывается от уравнений. Все клетки мозга, все маленькие серенькие клеточки считают как осатанелые. Но делать им это неохота. С большим удовольствием они занялись бы чем-нибудь другим. В силу этого в маленьких сереньких клеточках разгорается тоска по годам детства, когда им не приходилось как осатанелым считать и считать. И серенькие клеточки подают Вольфи команду: собирай формочки и совочки. Они заинтересованы, чтобы Вольфи снова впал в детство. Тогда им не придется перенапрягаться! Это заявление всех рассмешило. А расскажи им, зачем я на самом деле собираю формочки, они бы и подавно сочли меня психом.

Кстати, Титус Шестак притащил мне шестнадцать сверкающих, совершенно новеньких песочных наборов. Все – его младшей сестры, которая свихнулась на почве приобретательства. Каждую неделю она получает новый набор. Требуя их, она визжит, как наш школьный звонок. Фрау Шестак сказала, что уж лучше платить двадцать шиллингов в неделю (цена одного набора) – здоровье дороже.
Короче говоря, у меня уже собралось тридцать шесть наборов: формочки, ведерки, грабли, совки. Я выпросил у дворника здоровенный мешок, чтобы дотащить все это до дома.
По дороге мне повстречалась грузная дама. Грузная дама спросила, что я собираюсь делать с таким огромным мешком игрушек. Я кротко ответил, все собрано для бедных негритянских деток. Грузная дама пришла в восторг, сказала, что это восхитительно, очаровательно и что она тоже непременно должна внести свою лепту. Она затащила меня в высокий дом, и я против воли поплелся за ней на пятый этаж. Через старомодную переднюю мы прошли в кухню. Там стояла длинная скамья, оказавшаяся на поверку рундуком. Она открыла его и извлекла на свет целую кучу всякого барахла: обрезки материи, поношенные носки, песочные часы, бечевку для сушки белья, пластмассовое ведерко, пустые горчичницы, грязное белье, соломенную шляпку и облезлых мишек, которыми играли еще при царе Горохе, и много-много прочей рухляди. Одновременно она приговаривала: «Куда же запропастились формочки? Они тут уже лет десять вылеживаются!»
Заодно она показала мне фотокарточки ее Гансика. На одной он сидит с лопаточкой в песочнице, на другой – направляется на конфирмацию, на третьей – женится, на четвертой держит на руках нового маленького Гансика.
Она снова принялась искать, бормоча: «Да, надо делать добрые дела! Добрые дела! Для бедненьких негритят!» И еще: «У них ведь там в пустыне так много песка и ни одного ведерочка, ни одного совочка!»
Наконец обнажилось дно рундука. Формочек в нем так и не оказалось. Я мечтал поскорее вырваться отсюда, торчать здесь вовсе не входило в мои планы. Как назло, грузная дама вцепилась в меня как клещ. Она подыщет для негритят что-нибудь другое, успокоила она. Я попытался внушить ей, что нас интересуют исключительно игрушки для песочницы, но она пропустила мои слова мимо ушей. Она сунула мне под мышку дряхлого, полысевшего мишку. Она сказала, я не должен быть таким скромником, она-де от всего сердца, ведь речь идет о. бедненьких неграх!
Какое-то время в кухне вертелась еще одна женщина. Ей якобы нужно было одолжить яйцо. По-видимому, она услышала о моей коллекции. Когда я спускался по лестнице с мишкой и разбухшим мешком, все двери распахивались и люди вытаскивали вещи для негров. Я увиливал, как мог, но тщетно. Изо всех дверей доносились обеденные запахи. Я уже изрядно проголодался.
Когда я наконец выбрался на улицу, то уже был обладателем не только формочек, совков и облезлого медведя, но и трех кукол без глаз, двух без волос и еще одной без руки, а также паровоза без колес, серой выцветшей пижамы, кувшинчика «напейся, но не облейся» без носика, пакета сухого молока, книжки-картинки с изображениями маленьких негритят и пары разношенных шлепанцев. Весь хлам эти «добряки» рассовали по целлофановым пакетикам. Я бы с великим удовольствием бросил их прямо у подъезда, но, как нарочно, следом за мной спускалась дворничиха. Увешанный пакетами, как Дед-Мороз, я побрел по улице, не сворачивая. Пакеты трещали и лопались. Барахло сыпалось на тротуар. По дороге я трижды делал попытку избавиться от него, но всякий раз меня кто-нибудь нагонял с криком: «Ай-ай-ай, такой маленький, а уже такой рассеянный! Все свои вещи растерял!»
Я говорил «спасибо» и опять превращался в Деда-Мороза. Как это все-таки удивительно! Неделю назад из моего кармана выпали две пятишиллинговые монеты. Никто за мной тогда не несся на всех парах, чтобы вручить их мне!

У садовой калитки меня поджидала мама. Она волновалась, потому что я никогда так поздно не приходил.
«С этим „старье берем“ я тебя в дом не пущу!» – сказала она.
Я упрекнул ее в плохом отношении к негритянским детям. Она, сказал я, бойкотирует сбор пожертвований в пользу негров. Мама вытащила из одного пакета полинялые пижамные штаны. Одной штаниной, судя по всему, уже давно наводили глянец на обувь.
«Негритянские дети плевать хотели на это утильсырье!»
«Что правда, то правда», – согласился я и запихнул все, что принес, в мусоропровод. Разумеется, кроме формочек и совков.
Мама адски удивилась. Она высказалась в том духе, что, мол, большей глупости и нарочно не придумаешь: он, видите ли, ходит, побирается лишь затем, чтобы забивать мусоропровод в собственном доме.
В этот момент появилась Мартина, и глаза у мамы совсем округлились, потому что Мартина тоже тащила куль с песочными наборами. Увидев нас, она еще издали прокричала: «У меня семнадцать штук!»
«У меня тридцать шесть!» – гордо объявил я.
«Итого пятьдесят три, – сказала мама, – теперь негритянские дети смогут перелопатить всю Сахару!»
Покачивая головой, она ушла в дом.
Я прихватил оба куля и рванул в подвал. Мартина осталась караулить наверху у двери. Лестница была скользкая, и я кубарем скатился по ней в нижний подвал. Не ушибся, потому что приземлился на кули. Я сразу подошел к большой дыре и прокричал: «Приволок пятьдесят три набора!»
Куми-орцы высыпали из нор. То-то была радость! Они удивленно разглядывали целлофановые пакетики и спрашивали, что это за материал. Я пообещал объяснить им все в другой раз, а то сейчас опаздываю к обеду и вовсе не хочу, чтобы мама, чего доброго, принялась меня разыскивать и чтобы ей, чего доброго, пришло в голову наведаться в нижний подвал.
Куми-орцам тоже не захотелось, чтобы мама наведалась в нижний подвал. Один из них даже сказал мне: «Да, да, ваша правда! У нас по горло внутренних проблем, мы не в состоянии противостоять еще давлению извне!»
Я спросил, можно ли мне в следующий раз привести с собой сестру. Особого восторга по этому поводу куми-орцы не выразили, но сказали, что если она приблизительно такая, как я, то они уж как-нибудь потерпят.
