Страница:
— Акт симуляции. Немедленно вызовите врача для освидетельствования состояния подследственного, — и мне: «Сейчас мы, Алексей Николаевич, составим акт, и Ваше положение усугубится до неузнаваемости».
Для освидетельствования отвели к корпусному врачу. Врач молча померяла давление, температуру, прослушала сердце.
— Ну, что? — спросил приведший меня дежурный.
— Ничего, — зло ответила женщина. — Можно вести в камеру.
— Как в камеру? Его следователь ждёт.
— Подождёт ещё.
— Он спрашивает, может ли участвовать в следственных действиях.
— Конечно, нет.
— Но тогда нужно написать справку, — недоуменно возразил сопровождающий таким тоном, что стало понятно: этого врач сделать не посмеет.
— Сейчас напишу, — спокойно ответила врач.
Позже мне удалось ознакомиться с результатами осмотра: Давление 160/120, сердечная аритмия, частота пульса 120-130 ударов в минуту, температура 38,4. Диагноз: «Нитроциркулярная дистония. В следственных мероприятиях участвовать не может».
В камере отлежался под решкой на свежем воздухе, пришёл в себя.
— Кто был, — следак?
— Да.
— И что?
— К врачу отвели.
— Что врач?
— Температуру мерял.
— Сколько?
— Тридцать восемь и четыре.
— Как нагнал?
— Усилием воли.
— Правда, что ли? — в голосе Вовы сомнение.
— А я экстрасенс и ясновидящий.
На удивление, Вова не принял это за шутку:
— Сколько там орехов? — спросил он серьёзно, указав на пластмассовую банку с арахисом.
— 316, — не задумываясь сказал я.
— Цыган! Иди сюда. Помой руки, садись за дубок, посчитай орехи.
Цыган посчитал. Триста шестнадцать. Бывают же совпадения. Отогнав надоевшего кота Васю, я отвернулся в своей берлоге к стене и заснул. Утром опять на вызов. Пришёл Косуля.
— Как тебе удалось справку достать? — звенящим от негодования и изумления голосом начал он, разве что вслух не добавив: «Сволочь!» (Интонации те же, что у кума, когда тот делал внушение Славяну: «Гад! Ты мне всю картину портишь».) — Я написал следствию ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Отзывы о тебе сокамерников и отношение следователя позволяют надеяться на успех. Кстати, что это за фокусы — почему твои письма получают на воле не через меня? Через кого передаёшь? Ты с ума сошёл? Что ты написал? Кому?
— Вас же не было долго, Александр Яковлевич, вот и передал, тут много через кого можно это сделать, — невинно ответил я. — Все так делают. Я и написал родным, знакомым разным, а то ведь многие ничего не знают.
Косуля задышал в шоке. Что ж, это правда, удалось мне переправить одну маляву на волю. Теперь игра не в одни ворота. Во всяком случае, опасность теперь грозит больше мне, а не тем, кто раньше этого и не подозревал. Как я предполагал и надеялся, маляву Вова через своего адвоката передал, для того чтобы получить от меня кре-дит доверия; кумом она наверняка прочитана, только до Косули её содержание дошло поздно, иначе бы перекрыл кислород любыми средствами.
— Да Вы, Александр Яковлевич, не беспокойтесь. Я понимаю, как Вы заняты, а в моем деле гласность — это главное. Вот я и попросил разных друзей и знакомых помочь. Вам одному трудно, а они найдут ещё адвоката. Кстати, Александр Яковлевич, если я не буду иметь еженедельных письменных подтверждений от моих родных и близких о том, что у них все в порядке, я буду плохо себя чувствовать, могут и нервы не выдержать. Пора бы на свободу. Какие у нас в плане действия?
— У тебя с головой все в порядке? Ты ничего не перепутал? — тихо и совсем не по-адвокатски прошипел Косуля, громко шурша целлофановым пакетом.
— Движение — это жизнь, Александр Яковлевич. Прогресс на месте не стоит, и компромисс есть примирение противоречий. Давайте не будем ссориться. Кстати, недавно по телевизору показывали документальные кадры: в здешних кабинетах столь чувствительные микрофоны, что если я услышал, то они подавно.
Так. Держать инициативу. Больше уверенности и тумана, пусть думает, ему полезно. Если противник тебя хотя бы немного боится, он сам додумается до таких твоих преимуществ, которых ты за собой не только не замечаешь, но и вообще иметь не можешь.
— Что ты собираешься делать? — металлическим голосом осведомился Косуля, и опять буквально обозначилось в воздухе нехорошее слово.
— План у меня есть, — задушевно ответил я.
План, действительно, был, и я его изложил: последовательное обращение в ряд надзорных, судебных и общественных организаций, от тюремной администрации до комитета по защите прав человека при Президенте РФ.
— У вас в камере есть кто-то с юридическим образованием? — недоуменно спросил Косуля.
— Нет. Карнеги говорил, что образование — это способность преодолевать жизненные трудности.
— Я тебе, Алексей, не помощник. Все, что ты задумал, нереально. Ты плохо знаешь нашу систему, в ней некоторые законы не работают. Есть теория, а есть практика.
— Александр Яковлевич! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. — От такого высказывания Косуля против воли просветлел. Кажется, я на правильном пути. То есть в начале лезвия ножа.
Возвратившись в камеру, принято делиться впечатлениями от встречи с адвокатом или следователем. Тут я и поделился. Накопленные эмоции не испаряются — либо трансформируются, либо находят выход. Моё преимущество в том, что скрывать мне почти нечего, поэтому моя гневная, лишённая морально-этических границ речь произвела на камеру впечатление, тем более что мой русский язык ранее отличался отсутствием крепких выражений, услышать их в моем исполнении не ожидали. Наверно, кто-нибудь из стукачей написал в отчёте что-нибудь типа «в красочных нецензурных выражениях цинично обливал грязью сотрудников следственного изолятора, особенно всех начальников, включая начальника спецчасти, следователя, генерала Сукова, Генерального прокурора и адвоката». Хата притихла, а кое-кто делал вид, что не слышит. Что ни говори, а мусоров поругать все горазды, да только абстрактно — страшно все-таки. Разрядив ружьё, я решил плавно перейти на шутку. Первым это понял Леха Террорист, проснувшийся от необычной речуги, — и весьма удачно, мне в тон, неожиданно заоравший на всю тюрьму:
— Свободу Лехе-альпинисту!!!
Дружный хохот сгладил возникшую было неловкость.
— Бери весло. Я супчика запарил. Пока тебя не было, мне дачка зашла. Перекусим? Я твою шлемку взял, ничего? — Артём успокоил окончательно.
— Давай, Артём, сначала чифирнем.
— Чифир и еда несовместимы. Может, попозже чифирнем?
— Давай попозже. Прогулка была?
— Да. Ты пропустил.
— Ничего, не последняя. Это тебе. Подгон босяцкий. У адвоката взял.
— От души. У меня такой ручки ещё нет. Знаешь, какая-то страсть к собиранию ручек появилась, — как бы признаваясь в чем-то запретном, поведал Артём. — Хочешь, покажу свою коллекцию?
— Обязательно. Но сначала суп. Остынет.
Комментарий к УПК из хаты исчез, юридическая литература тоже. Вова стал настаивать: на допросах молчать нельзя, а то — на общак. Я же перестал на это обращать внимание. За жизнь поговорить — пожалуйста, в шашки и шахматы — тоже, картинки повырезать — с удовольствием, а с этими вашими хитростями пора завязывать, надоело. Юридические конспекты есть, адреса организаций тоже, по тюремным законам имею право о делюге вообще не говорить. Как-то раз после долгого раздумья Вова воскликнул:
— Так что же это? Получается, ты к делу вообще непричастен?
— Володя, — говорю, — ты очень проницательный человек, тебе удаётся понять то, что генералу не под силу.
— Это шутка? — с угрозой отозвался Вова.
— Нет. Искренно как никогда. Так что насчёт твоего адвоката?
— Подожди, пока не получается… Но ты — здесь, значит, это кому-то нужно!
— Володя, ты по-прежнему на высоте.
— Кому? — встрепенулся Вова.
— Следователю.
— Понятно, — улыбнулся Володя и надолго оставил меня в покое.
Май 1998 года был тёплым и солнечным. На воле зацвели тополя, белый пух метелью кружил над столицей, пробираясь в камеру. С изменившимся моим положением в хате появилась возможность лазать на решку, чего не очень одобрял Леха Террорист, видя, с каким напряжением мне это даётся, и опасаясь, что упаду. В узкую щель в ресничках можно было наблюдать тюремный двор, свежую зелень тополей за кирпичным забором с колючей проволокой. Объяснилась загадочная фраза Вовы, который иногда, залезая на решку, говорил: «А хозбандиты опять в волейбол играют…» То есть это была правда. Что бы ты сейчас отдал за то, чтобы побродить по двору, хотя бы и тюремному? Или за баню, настоящую, с парилкой? Эх, ходить на все прогулки — это правильно, но видеть синее небо через решётку, пасущих где-то над головой мусоров — издевательство. Чтобы вынести одеяло (вся хата выносит одеяла и вытряхивает их во дворике от неизвестно откуда берущейся пыли, отчего стоит туман, будто трясут половики), нужно им обмотаться под верхней одеждой, и тогда вертухай не будет иметь претензий, хотя и выглядит хата как сборище толстяков. Стоит только попробовать пронести одеяло в руках, обязательно остановят и разъяснят: не положено. Салтыков-Щедрин говорил, что строгость российских законов смягчается необязательностью их применения. Для полноты описания правового поля Йотенгейма не стоит забывать и пословицу: закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Что в большом, что в малом. Для лишённого всех человеческих прав арестанта разницы нет. В одном из прогулочных двориков через отверстие для стока воды у самого пола можно увидеть город, набережную Яузы. Чтобы отвели в этот дворик, нужно дать дежурному пачку хороших сигарет. Тюремщики с их нищенскими зарплатами насквозь продажны и оскотинены, даже вонючее мясо в баланде до арестантов почти не доходит, его вылавливает из бачков и пожирает обслуживающий персонал, включая офице-ров. Сколько раз я проезжал по этой набережной, не зная точно, где тюрьма, но всегда испытывая неприязнь к этому району. Не замечал и того, что за рекой огромную площадь занимают корпуса каких-то ржавых заводов. Десятки лет ездил мимо и не видел. Странная особенность человека — смотреть и не видеть. Взволновала неожиданная мысль: солнце одновременно видят люди, разделённые тысячами километров. Кончится же это когда-нибудь.
В камере с большим трудом удаётся думать, каждую мысль приходится прорабатывать, складывая логические звенья, как тяжёлые камни. Нужен целый день, чтобы написать недлинное заявление. Просматривая написанное, замечаешь много ошибок, пропусков. Каждую мысль проталкиваешь до стадии формулировки сквозь звон, туман и какое-то немыслимое вращение, ощущение которого не исчезает и с закрытыми глазами, отчего укачивает, как на карусели. Почерк получается незнакомый, как курица лапой. В довершение всему, песни по телевизору, которые на воле, может, и не привлекли бы внимание, здесь рвут душу на части, наподобие того, как арестанты на сборках рвут полосами полотенца, поджигают их и кипятят воду для чифира. Каждая мысль, каждое чувство становятся обособленными, почти дискретными, трудно сменяемыми. От некоторых стараешься избавиться, а к другим возвращаешься как домой, к таким, например: «скорей бы заснуть», «когда-нибудь это кончится». Расплылись воспоминания, забылись лица, даже увиденное в узкую щель с решки гасло тотчас, стоило лишь отвести взгляд. Лучше всего было бы заснуть и не просыпаться до самого освобождения.
— «Павлов!» — «Есть!» — крикнет кто-нибудь. — «На вызов!» Назовут твою фамилию, и подпрыгнет сердце в тот напряжённый миг, пока следующая фраза за тормозами не внесёт некоторую ясность: «на вызов», «с вещами» (самые волнующие слова), «по сезону» (выезд за пределы тюрьмы, на следственный эксперимент,вольную больницу и т.д.), «к врачу», ещё может быть письмо, вещевая или продуктовая передача, ларёк, сообщение из спецчасти (ответы на жалобы, информация об отправленных письмах, ходатайствах, продление срока содержания под стражей, бухгалтерия и т.д.). Что-то ждёшь со страхом, что-то с надеждой. Страх — порок, от которого трудно избавиться. Трудно, но можно. Арестант, победивший страх, становится неуязвим. Но до этого ещё далеко.
На следственной сборке (знакомая прокуренная, набитая людьми комната), а теперь перед допросом или встречей с адвокатом помещают только туда, про отдельные боксики остаётся только мечтать.
— Какая хата? — интересуются сразу, как зайдёшь.
— Два два шесть.
— Спец?
— Да.
— Бакинский у вас?
— Нет, он в два два восемь.
— А был в два два шесть.
— Хаты тусанули. Их к нам, нас к ним.
— Почему?
— За пьянку.
— Ясно. Словишься с Бакинским, — передай от Вахи привет, скажи, я на общаке. Маляву тусанешь? От нас дорога долгая.
— Могу, но не ручаюсь: обыскивают досконально.
— Статья тяжёлая?
— От пяти до десяти.
— Ясно. Не надо. На словах передай.
В широком, как площадь, коридоре следственного корпуса ходят холёные адвокаты, старающиеся быть подчёркнуто серьёзными, за приоткрытыми дверями кабинетов мельком можно увидеть выразительные картинки: арестант, следователь и адвокат, каждый со своим, характерным выражением лица. «Павлов? Кабинет такой-то. Вон там, в конце коридора» Идёшь себе, как вольный человек, метров 10-20 без сопровождения (а куда ты с подводной лодки денешься), и это, безусловно, отдых. В кабинете Ионычев.
— Здравствуйте, Павлов. Сегодня Вы себя нормально чувствуете?
— Как в тюрьме.
Ответ сразу выводит следователя из равновесия:
— Ты что меня за дурака держишь!! — кричит он.
— Я Вас, Вениамин Петрович, не держу.
— Нет, держишь! А как иначе?
Похоже, мой следователь действительно дурак. Хорошо это или плохо…
— Я отказываюсь от показаний.
— На каком основании? Здоровье? Я Вам не верю. Да, у нас есть тут справка, но так Вы же могли и нагнать давление. Так какие основания Вы предъявите сегодня?
— Прежде всего, отсутствие адвоката.
— Он мне звонил, он опоздает. Начнём без него.
— Без него мы уже начали. На этом и закончим.
— Сколько у вас в камере человек?
— Не считал. Вам лучше знать.
— А знаете, какие ещё камеры есть? Туда хотите?
— Это я уже слышал.
— Ладно, хотите, просто поговорим?
— Не хочу.
— Почему?
— Потому что просто — это … — я осёкся. Однако Ионычев больше не стал спрашивать, почему.
— Вы хотите, чтобы мы показали Вам документы, на основании которых Вас арестовали? Вот постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Подпишите.
Трудно было понять, что это, сон или прикол. Сто двенадцать миллионов превратились в 237 миллионов. Долларов. На листе, кроме текста, ни подписей, ни печатей. Похоже на неореалистическое кино, в основе которого абсурд лежит как творческий метод.
— Вениамин Петрович, мне кажется, хотя я могу иошибаться, что за дурака меня держите Вы, а не наоборот. Я ничего не подпишу, даже не надейтесь.
— Но это необходимо по правилам делопроизводства. Подписывайте, Алексей Николаевич, это в Ваших интересах.
— До тех пор, пока я не получу ответа, причём положительного, на требования, изложенные мной в письменных ходатайствах в адрес следствия, ни о чем нам с Вами говорить смысла нет.
— Вы написали ходатайство?
— Ходатайства. Несколько. Давно.
— Не знаю, я их не получал.
— Значит, будем ждать, когда получите.
— Может, у Сукова есть, так это к нему надо обращаться.
— Каким образом?
— Напишите на его имя, что желаете дать показания. Вот Вам бумага. И постановление подпишите, — опять придвинув ко мне листок со сказочным текстом, невозмутимо произнёс Ионычев.
— Вениамин Петрович, пошёл я в камеру.
— Нет, пока не подпишите, никуда не пойдёте.
— Плохо. Значит, и Вы не пойдёте, — разговор упал до меланхолических тонов.
Вдруг Ионычев подпрыгнул и заорал:
— Ты будешь подписывать или нет!?
Пообещав показать мне, где раки зимуют, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации ушёл.
На следующий день, в присутствии памятника известному адвокату А. Я. Косуле, картина, в целом, повторилась. Ещё через день — опять, а ещё несколькими днями позже странное поведение следователя отчасти объяснилось. В следственном корпусе я был препровождён туда, где проходят очные ставки и вообще особые действия. С места в карьер Ионычев поорал на меня, угрожая ухудшением условий содержания, потом с на-стойчивостью больного предлагал подписать его «документы», но ушёл ни с чем. Появился некто, представившийся сотрудником особого отдела следственного изолятора (не знаю, существует ли по нынешним временам такой отдел) и спросил, моя ли подпись стоит на постановлении об аресте. Затем пришёл Ионычев, и особист ему строго задал вопрос, существует ли второй экземпляр постановления, если да, то где он, потому что их должно быть два: в уголовном деле и в следственном изоляторе. — «Что мне делать? Посылать подпись Павлова на экспертизу?» — вопрошал особист, строго глядя на Ионычева. Конечно, я не понял, где начинается спектакль и кончается закон, иначе бы заявил, что подпись не моя, что повлекло бы за собой (в идеале) разбирательство в законности процедуры моего ареста и заключения под стражу, но я ответил утвердительно: да, подпись моя. Если бы… Боюсь, не изменилось бы ничего. Бабушка осталась бы бабушкой, а дедушка дедушкой. В любом случае, так и вышло. Компромисс следствия с администрацией тюрьмы был найден в неожиданной, юридически несостоятельной, но все же форме. Привели двоих арестантов, которые в качестве понятых подписали акт о том, что я отказываюсь подписать предъявленные мне два месяца назад постановления о привлечении в качестве обвиняемого и аресте. Паскудность есть основа государственной системы Йотенгейма. Видно, не за заслуги былые довелось родиться в этой стране.
Вернулся из карцера Славян, хату опять разгрузили, я остался на своём месте, уже не представляя жизни без глотка свежего воздуха под решкой. Косуля принёс долгожданное письмо, и не сильно противился против следующих.
«Павлов! Спецчасть». К звякнувшей кормушке устремился Вова. Открывшаяся кормушка — это движение как правило безопасное. Бывает, что в неожиданно открывшееся окно заглянет вертухай и потребует отдать подсмотренный в шнифты запрет, чаще всего заточку,нож или его подобие, изготовленное из куска какого-нибудь металла, от консервной банки до струны (между прочим, некоторым количеством моек можно перепилить толстое железо). Но чаще всего через кормушку попадает нечто позитивное, от баланды до пойманного на продоле кота Васи. Любой разговор через кормушку — тоже движение. Недавно заглянула явно заскучавшая вертухайша:
— Вы что кота мучите? Не трогайте его.
— Кто его мучит, старшенькая, — дружелюбно отозвался Володя. — Сама подумай, зачем нам его мучить.
— Пусть лошадь думает, у неё голова большая! — парировала вертухайша и захлопнула кормушку.
— Во наблатыкалась! — мечтательно произнёс Вова и задумчиво повторил: «Пусть лошадь думает…». Слыхали? Передайте сюда шоколадку! — застучав кулаком в тормоза, позвал: «Старшя! Старшя! Подойди к два два шесть!»
На этот раз сотрудница спецчасти говорить с Вовой не стала: «Павлова давайте. Продление срока содержания под стражей. Распишитесь». На бланке Генпрокуратуры напечатано, что по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Сукова и решению заместителя Генерального прокурора Холмогорова срок содержания под стражей следственно-арестованного Павлова продлён на три месяца. Печати нет. Число сегодняшнее, а два месяца истекли вчера. По закону, бумага недействительна, обязаны освободить. Для верности, не веря глазам от волнения, попрепиравшись с тётенькой, не желавшей дать мне документ в руки, получаю-таки его и переписываю досконально, можно сказать зарисовываю, после чего от подписи отказываюсь. Несколькими днями позже буду мучительно жалеть, что не догадался поставить подпись прямо на этот документ, за что, конечно, был бы наказан, но заменить его было бы уже труднее. (Забываешься, арестант, не станет бабушка дедушкой). Остановить охватившее душу и разум возбуж-дение не представлялось возможным. Все, теперь только на свободу.
— Володя! — вопрошал я, выразительно предъявляя ему переписанный текст, — ты сам видел — нет печати. Подтвердишь, если напишу жалобу?
— А до этого ты много ответов получил на свои жалобы? — от перспективы потерять лицо порядочного арестанта в случае отказа или пойти против власти в случае согласия восторга Володя не испытал и незаметно отодвинулся на задний план.
— Алексей! Ты-то подтвердишь? Не боишься? — избрал я новую жертву в лице дорожника.
— Не боюсь. Но я не видел бумагу.
— Артём! — в отчаянье бросился я к последней надежде, — ты — видел?
— Я видел, — сочувственно отозвался Артём. Вид погнавшего товарища произвёл на него удручающее впечатление.
— И что ты думаешь? — гневно воскликнул я, видя, что остальные в хате стали как бы прозрачны.
— Должны освободить.
Начался бунт одного арестанта против системы, раскинувшейся от Москвы до самых до окраин. Заявления начальнику спецчасти, начальнику следственного изолятора, прокурору по надзору, заместителю Генерального и Генеральному прокурору (светло-коричневой его памяти, товарищу Шкуратову), начальнику Главного управления исполнения наказаний, следствию, вызов ДПНСИ, старшего оперативника, очередное заявление в суд — ничто не дало не только результата, но и какого-либо ответа, кроме того, что хата 226 решительно была поставлена на уши, все были детально посвящены в содержание соответствующих случаю статей Уголовно-процессуального кодекса и при появлении любого сотрудника тюрьмы дружно информировали его о том, что в хате незаконно содержится арестант Павлов. Косуля благоразумно пропал. Так, в шумных протестах ночью иднем, прошла неделя, за которую из-под моего пера вышло огромное количество, надо заметить обоснованных, заявлений с требованием немедленного освобождения. Последним заявлением я уведомлял начальника тюрьмы о предстоящей, в случае дальнейшего игнорирования моих ходатайств, голодовке протеста и обещание приложить все возможные усилия для огласки случая прессой.
Звякнула кормушка. «Павлов! Спецчасть». Сотрудница спецчасти, уже не та, что в прошлый раз, по-матерински стала меня журить:
— Что же Вы, Павлов, заявления повсюду пишите, шумите. В чем дело? Мы проверили Ваши претензии, они необоснованны, не надо больше писать никому.
— Что значит, необоснованны?
— А то и значит, Павлов. Вы пишите, что на уведомлении о продлении срока содержания под стражей нет печати и дата позже, чем положено. Я сама проверила. Вы ошиблись. Вот, смотрите сами, ещё раз.
Уведомление было похоже на предыдущее, только дата — в пределах срока, установленного законом, и круглая печать Генпрокуратуры при ней. Сравнив со своей зарисовкой, я обнаружил, что исходящий номер — тот же, хотя и написан в другом месте.
— А как быть с этим? — я показал полученное в процессе своих протестов подтверждение её же ведомства о том, что в положенные сроки уведомление о продлении в тюрьму не поступало.
— А это ошибка. Девочки напутали. Печати же нет.
— А разве вы ставите печати?
— Нет, не ставим.
Оставалось развести руками или разбить голову о тормоза. Предпочёл первое. Безумная нервная активность подорвала силы. Началась депрессия. Мне бы адвоката. Обычного, не знаменитого. Договорился с Артёмом, чтобы он своего ко мне направил, но Артём, придя с вызова, только помотал в отчаянье головой и сказалшепотом: «Труба дело». Пришлось в тетради написать ещё несколько столбиков чисел, которые предстояло зачеркнуть. Странное удовольствие стала доставлять попытка решить геометрическую задачу, не имеющую решения. Как-то раз, будто вынырнувший из небытия Славян объявил, что отдаст весь запас своих сигарет тому, кто, не отрывая карандаша от бумаги, нарисует такую фигуру:
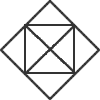
Хата обрела занятие. Никто задачу не решил. Вова, свысока посматривавший на всех, заявил: делать нечего, упражнение для детей, но был обескуражен, не доказав этого. Слава заявил, что Архимед эту задачу решил. Если арестант сказал, ему нужно верить, если он не фуфлыжник. Фуфлыжником же Славу никто не объявлял, в отличие от некоего Карабаса с большого спеца, по поводу которого прошёл прогон за подписью смотрящего за корпусом; в прогоне ясно говорилось, что коллегиальным решением Братвы, с ведома и согласия Вора, Карабас из хаты 218 объявляется фуфлыжником, со всеми вытекающими по понятиям последствиями. Обсудив с Артёмом, решили: коль задача не решается в одной плоскости, можно попробовать искривить пространство — свернуть лист бумаги гармошкой и в определённый момент рисования, не отрывая карандаша, распрямить бумагу, вытянув за край ту часть начатого рисунка, которая сначала мешает, а потом необходима для завершения фигуры. И это удалось. Славе показали решение. — «Нет, не складывая листок» — грустно сказал он.
— Слава, а ты это говорил? Твоё условие — не отрывать карандаш от бумаги. Так? — строго задал вопрос Артём.
Для освидетельствования отвели к корпусному врачу. Врач молча померяла давление, температуру, прослушала сердце.
— Ну, что? — спросил приведший меня дежурный.
— Ничего, — зло ответила женщина. — Можно вести в камеру.
— Как в камеру? Его следователь ждёт.
— Подождёт ещё.
— Он спрашивает, может ли участвовать в следственных действиях.
— Конечно, нет.
— Но тогда нужно написать справку, — недоуменно возразил сопровождающий таким тоном, что стало понятно: этого врач сделать не посмеет.
— Сейчас напишу, — спокойно ответила врач.
Позже мне удалось ознакомиться с результатами осмотра: Давление 160/120, сердечная аритмия, частота пульса 120-130 ударов в минуту, температура 38,4. Диагноз: «Нитроциркулярная дистония. В следственных мероприятиях участвовать не может».
В камере отлежался под решкой на свежем воздухе, пришёл в себя.
— Кто был, — следак?
— Да.
— И что?
— К врачу отвели.
— Что врач?
— Температуру мерял.
— Сколько?
— Тридцать восемь и четыре.
— Как нагнал?
— Усилием воли.
— Правда, что ли? — в голосе Вовы сомнение.
— А я экстрасенс и ясновидящий.
На удивление, Вова не принял это за шутку:
— Сколько там орехов? — спросил он серьёзно, указав на пластмассовую банку с арахисом.
— 316, — не задумываясь сказал я.
— Цыган! Иди сюда. Помой руки, садись за дубок, посчитай орехи.
Цыган посчитал. Триста шестнадцать. Бывают же совпадения. Отогнав надоевшего кота Васю, я отвернулся в своей берлоге к стене и заснул. Утром опять на вызов. Пришёл Косуля.
— Как тебе удалось справку достать? — звенящим от негодования и изумления голосом начал он, разве что вслух не добавив: «Сволочь!» (Интонации те же, что у кума, когда тот делал внушение Славяну: «Гад! Ты мне всю картину портишь».) — Я написал следствию ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Отзывы о тебе сокамерников и отношение следователя позволяют надеяться на успех. Кстати, что это за фокусы — почему твои письма получают на воле не через меня? Через кого передаёшь? Ты с ума сошёл? Что ты написал? Кому?
— Вас же не было долго, Александр Яковлевич, вот и передал, тут много через кого можно это сделать, — невинно ответил я. — Все так делают. Я и написал родным, знакомым разным, а то ведь многие ничего не знают.
Косуля задышал в шоке. Что ж, это правда, удалось мне переправить одну маляву на волю. Теперь игра не в одни ворота. Во всяком случае, опасность теперь грозит больше мне, а не тем, кто раньше этого и не подозревал. Как я предполагал и надеялся, маляву Вова через своего адвоката передал, для того чтобы получить от меня кре-дит доверия; кумом она наверняка прочитана, только до Косули её содержание дошло поздно, иначе бы перекрыл кислород любыми средствами.
— Да Вы, Александр Яковлевич, не беспокойтесь. Я понимаю, как Вы заняты, а в моем деле гласность — это главное. Вот я и попросил разных друзей и знакомых помочь. Вам одному трудно, а они найдут ещё адвоката. Кстати, Александр Яковлевич, если я не буду иметь еженедельных письменных подтверждений от моих родных и близких о том, что у них все в порядке, я буду плохо себя чувствовать, могут и нервы не выдержать. Пора бы на свободу. Какие у нас в плане действия?
— У тебя с головой все в порядке? Ты ничего не перепутал? — тихо и совсем не по-адвокатски прошипел Косуля, громко шурша целлофановым пакетом.
— Движение — это жизнь, Александр Яковлевич. Прогресс на месте не стоит, и компромисс есть примирение противоречий. Давайте не будем ссориться. Кстати, недавно по телевизору показывали документальные кадры: в здешних кабинетах столь чувствительные микрофоны, что если я услышал, то они подавно.
Так. Держать инициативу. Больше уверенности и тумана, пусть думает, ему полезно. Если противник тебя хотя бы немного боится, он сам додумается до таких твоих преимуществ, которых ты за собой не только не замечаешь, но и вообще иметь не можешь.
— Что ты собираешься делать? — металлическим голосом осведомился Косуля, и опять буквально обозначилось в воздухе нехорошее слово.
— План у меня есть, — задушевно ответил я.
План, действительно, был, и я его изложил: последовательное обращение в ряд надзорных, судебных и общественных организаций, от тюремной администрации до комитета по защите прав человека при Президенте РФ.
— У вас в камере есть кто-то с юридическим образованием? — недоуменно спросил Косуля.
— Нет. Карнеги говорил, что образование — это способность преодолевать жизненные трудности.
— Я тебе, Алексей, не помощник. Все, что ты задумал, нереально. Ты плохо знаешь нашу систему, в ней некоторые законы не работают. Есть теория, а есть практика.
— Александр Яковлевич! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. — От такого высказывания Косуля против воли просветлел. Кажется, я на правильном пути. То есть в начале лезвия ножа.
Возвратившись в камеру, принято делиться впечатлениями от встречи с адвокатом или следователем. Тут я и поделился. Накопленные эмоции не испаряются — либо трансформируются, либо находят выход. Моё преимущество в том, что скрывать мне почти нечего, поэтому моя гневная, лишённая морально-этических границ речь произвела на камеру впечатление, тем более что мой русский язык ранее отличался отсутствием крепких выражений, услышать их в моем исполнении не ожидали. Наверно, кто-нибудь из стукачей написал в отчёте что-нибудь типа «в красочных нецензурных выражениях цинично обливал грязью сотрудников следственного изолятора, особенно всех начальников, включая начальника спецчасти, следователя, генерала Сукова, Генерального прокурора и адвоката». Хата притихла, а кое-кто делал вид, что не слышит. Что ни говори, а мусоров поругать все горазды, да только абстрактно — страшно все-таки. Разрядив ружьё, я решил плавно перейти на шутку. Первым это понял Леха Террорист, проснувшийся от необычной речуги, — и весьма удачно, мне в тон, неожиданно заоравший на всю тюрьму:
— Свободу Лехе-альпинисту!!!
Дружный хохот сгладил возникшую было неловкость.
— Бери весло. Я супчика запарил. Пока тебя не было, мне дачка зашла. Перекусим? Я твою шлемку взял, ничего? — Артём успокоил окончательно.
— Давай, Артём, сначала чифирнем.
— Чифир и еда несовместимы. Может, попозже чифирнем?
— Давай попозже. Прогулка была?
— Да. Ты пропустил.
— Ничего, не последняя. Это тебе. Подгон босяцкий. У адвоката взял.
— От души. У меня такой ручки ещё нет. Знаешь, какая-то страсть к собиранию ручек появилась, — как бы признаваясь в чем-то запретном, поведал Артём. — Хочешь, покажу свою коллекцию?
— Обязательно. Но сначала суп. Остынет.
Комментарий к УПК из хаты исчез, юридическая литература тоже. Вова стал настаивать: на допросах молчать нельзя, а то — на общак. Я же перестал на это обращать внимание. За жизнь поговорить — пожалуйста, в шашки и шахматы — тоже, картинки повырезать — с удовольствием, а с этими вашими хитростями пора завязывать, надоело. Юридические конспекты есть, адреса организаций тоже, по тюремным законам имею право о делюге вообще не говорить. Как-то раз после долгого раздумья Вова воскликнул:
— Так что же это? Получается, ты к делу вообще непричастен?
— Володя, — говорю, — ты очень проницательный человек, тебе удаётся понять то, что генералу не под силу.
— Это шутка? — с угрозой отозвался Вова.
— Нет. Искренно как никогда. Так что насчёт твоего адвоката?
— Подожди, пока не получается… Но ты — здесь, значит, это кому-то нужно!
— Володя, ты по-прежнему на высоте.
— Кому? — встрепенулся Вова.
— Следователю.
— Понятно, — улыбнулся Володя и надолго оставил меня в покое.
Май 1998 года был тёплым и солнечным. На воле зацвели тополя, белый пух метелью кружил над столицей, пробираясь в камеру. С изменившимся моим положением в хате появилась возможность лазать на решку, чего не очень одобрял Леха Террорист, видя, с каким напряжением мне это даётся, и опасаясь, что упаду. В узкую щель в ресничках можно было наблюдать тюремный двор, свежую зелень тополей за кирпичным забором с колючей проволокой. Объяснилась загадочная фраза Вовы, который иногда, залезая на решку, говорил: «А хозбандиты опять в волейбол играют…» То есть это была правда. Что бы ты сейчас отдал за то, чтобы побродить по двору, хотя бы и тюремному? Или за баню, настоящую, с парилкой? Эх, ходить на все прогулки — это правильно, но видеть синее небо через решётку, пасущих где-то над головой мусоров — издевательство. Чтобы вынести одеяло (вся хата выносит одеяла и вытряхивает их во дворике от неизвестно откуда берущейся пыли, отчего стоит туман, будто трясут половики), нужно им обмотаться под верхней одеждой, и тогда вертухай не будет иметь претензий, хотя и выглядит хата как сборище толстяков. Стоит только попробовать пронести одеяло в руках, обязательно остановят и разъяснят: не положено. Салтыков-Щедрин говорил, что строгость российских законов смягчается необязательностью их применения. Для полноты описания правового поля Йотенгейма не стоит забывать и пословицу: закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Что в большом, что в малом. Для лишённого всех человеческих прав арестанта разницы нет. В одном из прогулочных двориков через отверстие для стока воды у самого пола можно увидеть город, набережную Яузы. Чтобы отвели в этот дворик, нужно дать дежурному пачку хороших сигарет. Тюремщики с их нищенскими зарплатами насквозь продажны и оскотинены, даже вонючее мясо в баланде до арестантов почти не доходит, его вылавливает из бачков и пожирает обслуживающий персонал, включая офице-ров. Сколько раз я проезжал по этой набережной, не зная точно, где тюрьма, но всегда испытывая неприязнь к этому району. Не замечал и того, что за рекой огромную площадь занимают корпуса каких-то ржавых заводов. Десятки лет ездил мимо и не видел. Странная особенность человека — смотреть и не видеть. Взволновала неожиданная мысль: солнце одновременно видят люди, разделённые тысячами километров. Кончится же это когда-нибудь.
В камере с большим трудом удаётся думать, каждую мысль приходится прорабатывать, складывая логические звенья, как тяжёлые камни. Нужен целый день, чтобы написать недлинное заявление. Просматривая написанное, замечаешь много ошибок, пропусков. Каждую мысль проталкиваешь до стадии формулировки сквозь звон, туман и какое-то немыслимое вращение, ощущение которого не исчезает и с закрытыми глазами, отчего укачивает, как на карусели. Почерк получается незнакомый, как курица лапой. В довершение всему, песни по телевизору, которые на воле, может, и не привлекли бы внимание, здесь рвут душу на части, наподобие того, как арестанты на сборках рвут полосами полотенца, поджигают их и кипятят воду для чифира. Каждая мысль, каждое чувство становятся обособленными, почти дискретными, трудно сменяемыми. От некоторых стараешься избавиться, а к другим возвращаешься как домой, к таким, например: «скорей бы заснуть», «когда-нибудь это кончится». Расплылись воспоминания, забылись лица, даже увиденное в узкую щель с решки гасло тотчас, стоило лишь отвести взгляд. Лучше всего было бы заснуть и не просыпаться до самого освобождения.
— «Павлов!» — «Есть!» — крикнет кто-нибудь. — «На вызов!» Назовут твою фамилию, и подпрыгнет сердце в тот напряжённый миг, пока следующая фраза за тормозами не внесёт некоторую ясность: «на вызов», «с вещами» (самые волнующие слова), «по сезону» (выезд за пределы тюрьмы, на следственный эксперимент,вольную больницу и т.д.), «к врачу», ещё может быть письмо, вещевая или продуктовая передача, ларёк, сообщение из спецчасти (ответы на жалобы, информация об отправленных письмах, ходатайствах, продление срока содержания под стражей, бухгалтерия и т.д.). Что-то ждёшь со страхом, что-то с надеждой. Страх — порок, от которого трудно избавиться. Трудно, но можно. Арестант, победивший страх, становится неуязвим. Но до этого ещё далеко.
На следственной сборке (знакомая прокуренная, набитая людьми комната), а теперь перед допросом или встречей с адвокатом помещают только туда, про отдельные боксики остаётся только мечтать.
— Какая хата? — интересуются сразу, как зайдёшь.
— Два два шесть.
— Спец?
— Да.
— Бакинский у вас?
— Нет, он в два два восемь.
— А был в два два шесть.
— Хаты тусанули. Их к нам, нас к ним.
— Почему?
— За пьянку.
— Ясно. Словишься с Бакинским, — передай от Вахи привет, скажи, я на общаке. Маляву тусанешь? От нас дорога долгая.
— Могу, но не ручаюсь: обыскивают досконально.
— Статья тяжёлая?
— От пяти до десяти.
— Ясно. Не надо. На словах передай.
В широком, как площадь, коридоре следственного корпуса ходят холёные адвокаты, старающиеся быть подчёркнуто серьёзными, за приоткрытыми дверями кабинетов мельком можно увидеть выразительные картинки: арестант, следователь и адвокат, каждый со своим, характерным выражением лица. «Павлов? Кабинет такой-то. Вон там, в конце коридора» Идёшь себе, как вольный человек, метров 10-20 без сопровождения (а куда ты с подводной лодки денешься), и это, безусловно, отдых. В кабинете Ионычев.
— Здравствуйте, Павлов. Сегодня Вы себя нормально чувствуете?
— Как в тюрьме.
Ответ сразу выводит следователя из равновесия:
— Ты что меня за дурака держишь!! — кричит он.
— Я Вас, Вениамин Петрович, не держу.
— Нет, держишь! А как иначе?
Похоже, мой следователь действительно дурак. Хорошо это или плохо…
— Я отказываюсь от показаний.
— На каком основании? Здоровье? Я Вам не верю. Да, у нас есть тут справка, но так Вы же могли и нагнать давление. Так какие основания Вы предъявите сегодня?
— Прежде всего, отсутствие адвоката.
— Он мне звонил, он опоздает. Начнём без него.
— Без него мы уже начали. На этом и закончим.
— Сколько у вас в камере человек?
— Не считал. Вам лучше знать.
— А знаете, какие ещё камеры есть? Туда хотите?
— Это я уже слышал.
— Ладно, хотите, просто поговорим?
— Не хочу.
— Почему?
— Потому что просто — это … — я осёкся. Однако Ионычев больше не стал спрашивать, почему.
— Вы хотите, чтобы мы показали Вам документы, на основании которых Вас арестовали? Вот постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Подпишите.
Трудно было понять, что это, сон или прикол. Сто двенадцать миллионов превратились в 237 миллионов. Долларов. На листе, кроме текста, ни подписей, ни печатей. Похоже на неореалистическое кино, в основе которого абсурд лежит как творческий метод.
— Вениамин Петрович, мне кажется, хотя я могу иошибаться, что за дурака меня держите Вы, а не наоборот. Я ничего не подпишу, даже не надейтесь.
— Но это необходимо по правилам делопроизводства. Подписывайте, Алексей Николаевич, это в Ваших интересах.
— До тех пор, пока я не получу ответа, причём положительного, на требования, изложенные мной в письменных ходатайствах в адрес следствия, ни о чем нам с Вами говорить смысла нет.
— Вы написали ходатайство?
— Ходатайства. Несколько. Давно.
— Не знаю, я их не получал.
— Значит, будем ждать, когда получите.
— Может, у Сукова есть, так это к нему надо обращаться.
— Каким образом?
— Напишите на его имя, что желаете дать показания. Вот Вам бумага. И постановление подпишите, — опять придвинув ко мне листок со сказочным текстом, невозмутимо произнёс Ионычев.
— Вениамин Петрович, пошёл я в камеру.
— Нет, пока не подпишите, никуда не пойдёте.
— Плохо. Значит, и Вы не пойдёте, — разговор упал до меланхолических тонов.
Вдруг Ионычев подпрыгнул и заорал:
— Ты будешь подписывать или нет!?
Пообещав показать мне, где раки зимуют, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации ушёл.
На следующий день, в присутствии памятника известному адвокату А. Я. Косуле, картина, в целом, повторилась. Ещё через день — опять, а ещё несколькими днями позже странное поведение следователя отчасти объяснилось. В следственном корпусе я был препровождён туда, где проходят очные ставки и вообще особые действия. С места в карьер Ионычев поорал на меня, угрожая ухудшением условий содержания, потом с на-стойчивостью больного предлагал подписать его «документы», но ушёл ни с чем. Появился некто, представившийся сотрудником особого отдела следственного изолятора (не знаю, существует ли по нынешним временам такой отдел) и спросил, моя ли подпись стоит на постановлении об аресте. Затем пришёл Ионычев, и особист ему строго задал вопрос, существует ли второй экземпляр постановления, если да, то где он, потому что их должно быть два: в уголовном деле и в следственном изоляторе. — «Что мне делать? Посылать подпись Павлова на экспертизу?» — вопрошал особист, строго глядя на Ионычева. Конечно, я не понял, где начинается спектакль и кончается закон, иначе бы заявил, что подпись не моя, что повлекло бы за собой (в идеале) разбирательство в законности процедуры моего ареста и заключения под стражу, но я ответил утвердительно: да, подпись моя. Если бы… Боюсь, не изменилось бы ничего. Бабушка осталась бы бабушкой, а дедушка дедушкой. В любом случае, так и вышло. Компромисс следствия с администрацией тюрьмы был найден в неожиданной, юридически несостоятельной, но все же форме. Привели двоих арестантов, которые в качестве понятых подписали акт о том, что я отказываюсь подписать предъявленные мне два месяца назад постановления о привлечении в качестве обвиняемого и аресте. Паскудность есть основа государственной системы Йотенгейма. Видно, не за заслуги былые довелось родиться в этой стране.
Вернулся из карцера Славян, хату опять разгрузили, я остался на своём месте, уже не представляя жизни без глотка свежего воздуха под решкой. Косуля принёс долгожданное письмо, и не сильно противился против следующих.
«Павлов! Спецчасть». К звякнувшей кормушке устремился Вова. Открывшаяся кормушка — это движение как правило безопасное. Бывает, что в неожиданно открывшееся окно заглянет вертухай и потребует отдать подсмотренный в шнифты запрет, чаще всего заточку,нож или его подобие, изготовленное из куска какого-нибудь металла, от консервной банки до струны (между прочим, некоторым количеством моек можно перепилить толстое железо). Но чаще всего через кормушку попадает нечто позитивное, от баланды до пойманного на продоле кота Васи. Любой разговор через кормушку — тоже движение. Недавно заглянула явно заскучавшая вертухайша:
— Вы что кота мучите? Не трогайте его.
— Кто его мучит, старшенькая, — дружелюбно отозвался Володя. — Сама подумай, зачем нам его мучить.
— Пусть лошадь думает, у неё голова большая! — парировала вертухайша и захлопнула кормушку.
— Во наблатыкалась! — мечтательно произнёс Вова и задумчиво повторил: «Пусть лошадь думает…». Слыхали? Передайте сюда шоколадку! — застучав кулаком в тормоза, позвал: «Старшя! Старшя! Подойди к два два шесть!»
На этот раз сотрудница спецчасти говорить с Вовой не стала: «Павлова давайте. Продление срока содержания под стражей. Распишитесь». На бланке Генпрокуратуры напечатано, что по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Сукова и решению заместителя Генерального прокурора Холмогорова срок содержания под стражей следственно-арестованного Павлова продлён на три месяца. Печати нет. Число сегодняшнее, а два месяца истекли вчера. По закону, бумага недействительна, обязаны освободить. Для верности, не веря глазам от волнения, попрепиравшись с тётенькой, не желавшей дать мне документ в руки, получаю-таки его и переписываю досконально, можно сказать зарисовываю, после чего от подписи отказываюсь. Несколькими днями позже буду мучительно жалеть, что не догадался поставить подпись прямо на этот документ, за что, конечно, был бы наказан, но заменить его было бы уже труднее. (Забываешься, арестант, не станет бабушка дедушкой). Остановить охватившее душу и разум возбуж-дение не представлялось возможным. Все, теперь только на свободу.
— Володя! — вопрошал я, выразительно предъявляя ему переписанный текст, — ты сам видел — нет печати. Подтвердишь, если напишу жалобу?
— А до этого ты много ответов получил на свои жалобы? — от перспективы потерять лицо порядочного арестанта в случае отказа или пойти против власти в случае согласия восторга Володя не испытал и незаметно отодвинулся на задний план.
— Алексей! Ты-то подтвердишь? Не боишься? — избрал я новую жертву в лице дорожника.
— Не боюсь. Но я не видел бумагу.
— Артём! — в отчаянье бросился я к последней надежде, — ты — видел?
— Я видел, — сочувственно отозвался Артём. Вид погнавшего товарища произвёл на него удручающее впечатление.
— И что ты думаешь? — гневно воскликнул я, видя, что остальные в хате стали как бы прозрачны.
— Должны освободить.
Начался бунт одного арестанта против системы, раскинувшейся от Москвы до самых до окраин. Заявления начальнику спецчасти, начальнику следственного изолятора, прокурору по надзору, заместителю Генерального и Генеральному прокурору (светло-коричневой его памяти, товарищу Шкуратову), начальнику Главного управления исполнения наказаний, следствию, вызов ДПНСИ, старшего оперативника, очередное заявление в суд — ничто не дало не только результата, но и какого-либо ответа, кроме того, что хата 226 решительно была поставлена на уши, все были детально посвящены в содержание соответствующих случаю статей Уголовно-процессуального кодекса и при появлении любого сотрудника тюрьмы дружно информировали его о том, что в хате незаконно содержится арестант Павлов. Косуля благоразумно пропал. Так, в шумных протестах ночью иднем, прошла неделя, за которую из-под моего пера вышло огромное количество, надо заметить обоснованных, заявлений с требованием немедленного освобождения. Последним заявлением я уведомлял начальника тюрьмы о предстоящей, в случае дальнейшего игнорирования моих ходатайств, голодовке протеста и обещание приложить все возможные усилия для огласки случая прессой.
Звякнула кормушка. «Павлов! Спецчасть». Сотрудница спецчасти, уже не та, что в прошлый раз, по-матерински стала меня журить:
— Что же Вы, Павлов, заявления повсюду пишите, шумите. В чем дело? Мы проверили Ваши претензии, они необоснованны, не надо больше писать никому.
— Что значит, необоснованны?
— А то и значит, Павлов. Вы пишите, что на уведомлении о продлении срока содержания под стражей нет печати и дата позже, чем положено. Я сама проверила. Вы ошиблись. Вот, смотрите сами, ещё раз.
Уведомление было похоже на предыдущее, только дата — в пределах срока, установленного законом, и круглая печать Генпрокуратуры при ней. Сравнив со своей зарисовкой, я обнаружил, что исходящий номер — тот же, хотя и написан в другом месте.
— А как быть с этим? — я показал полученное в процессе своих протестов подтверждение её же ведомства о том, что в положенные сроки уведомление о продлении в тюрьму не поступало.
— А это ошибка. Девочки напутали. Печати же нет.
— А разве вы ставите печати?
— Нет, не ставим.
Оставалось развести руками или разбить голову о тормоза. Предпочёл первое. Безумная нервная активность подорвала силы. Началась депрессия. Мне бы адвоката. Обычного, не знаменитого. Договорился с Артёмом, чтобы он своего ко мне направил, но Артём, придя с вызова, только помотал в отчаянье головой и сказалшепотом: «Труба дело». Пришлось в тетради написать ещё несколько столбиков чисел, которые предстояло зачеркнуть. Странное удовольствие стала доставлять попытка решить геометрическую задачу, не имеющую решения. Как-то раз, будто вынырнувший из небытия Славян объявил, что отдаст весь запас своих сигарет тому, кто, не отрывая карандаша от бумаги, нарисует такую фигуру:
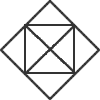
Хата обрела занятие. Никто задачу не решил. Вова, свысока посматривавший на всех, заявил: делать нечего, упражнение для детей, но был обескуражен, не доказав этого. Слава заявил, что Архимед эту задачу решил. Если арестант сказал, ему нужно верить, если он не фуфлыжник. Фуфлыжником же Славу никто не объявлял, в отличие от некоего Карабаса с большого спеца, по поводу которого прошёл прогон за подписью смотрящего за корпусом; в прогоне ясно говорилось, что коллегиальным решением Братвы, с ведома и согласия Вора, Карабас из хаты 218 объявляется фуфлыжником, со всеми вытекающими по понятиям последствиями. Обсудив с Артёмом, решили: коль задача не решается в одной плоскости, можно попробовать искривить пространство — свернуть лист бумаги гармошкой и в определённый момент рисования, не отрывая карандаша, распрямить бумагу, вытянув за край ту часть начатого рисунка, которая сначала мешает, а потом необходима для завершения фигуры. И это удалось. Славе показали решение. — «Нет, не складывая листок» — грустно сказал он.
— Слава, а ты это говорил? Твоё условие — не отрывать карандаш от бумаги. Так? — строго задал вопрос Артём.
