Мы находимся в процессе движения от революции к поиску смысла. Но для революции требуется время. Исследование, проведенное Полом Дэвидом из Stanford University, показало, что в среднем предприятиям потребовалось 20 лет, чтобы полностью ощутить все преимущества применения электрического мотора.[51] Как было замечено еще сто лет назад экономистом Альфредом Маршаллом, «настоящая ценность идеи, переворачивающей страницу целой эпохи, осознается не тем поколением, которое выдвинуло эту идею. Новое открытие, как правило, не приносит никакой практической пользы первооткрывателям до тех пор, пока оно не обрастет множеством второстепенных улучшений и доработок».[52] Перемены не произойдут за ночь, но они произойдут непременно. Профессор Майкл Холи из MIT Media Lab утверждает: «Как только компьютеры станут такими же простыми, как шорты фирмы Jockey, такими же сексуальными, как шелковое белье, и такими же абсорбирующими, как памперсы, произойдут очень большие перемены».[53]
Институты: перестраивая мавзолеи
Институт капитализма
Национальное государство
Политические партии
Вечное предприятие
Семья
Ценности: от телескопа до калейдоскопа
Трудовая этика
Организации со слабой инфоструктурой будут выглядеть, как 65-летняя легкоатлетка, пытающаяся пробежать Олимпийский марафон на высоких каблуках и в вечернем платье.
Одно известно наверняка: «инфоструктура», электронная нервная система любой компании, станет важнее инфраструктуры. Организации со слабой инфоструктурой будут выглядеть, как 65-летняя легкоатлетка, пытающаяся пробежать Олимпийский марафон на высоких каблуках и в вечернем платье.
Институты: перестраивая мавзолеи
Вторая сила, определяющая перемены в обществе, – это общественные институты. Институты построены на обязательствах. Взаимообязательства связывают людей с политическими партиями, друг с другом, с компаниями или общественными объединениями. Институты – это основа основ нашего мира. Они являются социальными образованиями, которые создает человечество, чтобы обеспечить себе стабильность и определенность. Институты покоятся в просторных мавзолеях, покуда мы занимаемся своими повседневными делами. Они создают ощущение безвременья и вечности. Неприкасаемые и недосягаемые, они есть. И именно потому, что они есть, они важны.
Исходной задачей институтов было упрощать. Сильные и незыблемые институты ограничивали нашу свободу. Но это снижало неопределенность. Мы свободны, но внутри четко ограниченных рамок, очерченных нашими общественными институтами. Институты выступают в роли стабилизаторов, они подобны мазкам серой краски, которые служат для того, чтобы притушить яркие цвета.
Институты могут выглядеть инертными снаружи, но они постоянно развиваются, меняясь прямо у нас на глазах. Они могут казаться спящими чудовищами, но стоит нам отвернуться, как они уже поменяли позу и никогда не вернутся в прежнее положение.
Внешность обманчива. Парадоксально, но зачастую институты стараются выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Бизнес-школы, например, – это организации, которым нравится выглядеть старше, чем они есть на самом деле, они пытаются казаться старейшими, неизменными институтами, чем-то, чем они не являются. Обычно этот эффект достигается благодаря плющу, который увивает фасад, убеждая себя и других, что эта организация появилась здесь еще на заре цивилизации.[54]
Общественные институты никогда не славились своим творческим, инновационным или предпринимательским потенциалом, но они меняются. Они должны меняться. В компьютеризированном мире, где знания не могут принадлежать конкретным людям или организациям, конкурентоспособность определяется умением создавать лучшие операционные и институциональные системы. Успех будет зависеть от способности создать благодатную почву для развития и конкретного применения новых знаний и опыта, создать среду, в которой новые идеи могут быть выдвинуты, опробованы, доработаны и внедрены в жизнь.
По мере развития новых общественных институтов, поскольку существует то, что называется институциональными инновациями, наша жизнь будет меняться. Вероятно, эти изменения не будут сопоставимы с изменениями, привносимыми технологиями. Институты – это не красиво упакованные изделия, способные вдвое сократить нашу рабочую загрузку или вес. Но подумайте, какие перемены происходят в главных общественных институтах, оказывающих непосредственное влияние на нашу жизнь.
Исходной задачей институтов было упрощать. Сильные и незыблемые институты ограничивали нашу свободу. Но это снижало неопределенность. Мы свободны, но внутри четко ограниченных рамок, очерченных нашими общественными институтами. Институты выступают в роли стабилизаторов, они подобны мазкам серой краски, которые служат для того, чтобы притушить яркие цвета.
Институты могут выглядеть инертными снаружи, но они постоянно развиваются, меняясь прямо у нас на глазах. Они могут казаться спящими чудовищами, но стоит нам отвернуться, как они уже поменяли позу и никогда не вернутся в прежнее положение.
Внешность обманчива. Парадоксально, но зачастую институты стараются выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Бизнес-школы, например, – это организации, которым нравится выглядеть старше, чем они есть на самом деле, они пытаются казаться старейшими, неизменными институтами, чем-то, чем они не являются. Обычно этот эффект достигается благодаря плющу, который увивает фасад, убеждая себя и других, что эта организация появилась здесь еще на заре цивилизации.[54]
Общественные институты никогда не славились своим творческим, инновационным или предпринимательским потенциалом, но они меняются. Они должны меняться. В компьютеризированном мире, где знания не могут принадлежать конкретным людям или организациям, конкурентоспособность определяется умением создавать лучшие операционные и институциональные системы. Успех будет зависеть от способности создать благодатную почву для развития и конкретного применения новых знаний и опыта, создать среду, в которой новые идеи могут быть выдвинуты, опробованы, доработаны и внедрены в жизнь.
По мере развития новых общественных институтов, поскольку существует то, что называется институциональными инновациями, наша жизнь будет меняться. Вероятно, эти изменения не будут сопоставимы с изменениями, привносимыми технологиями. Институты – это не красиво упакованные изделия, способные вдвое сократить нашу рабочую загрузку или вес. Но подумайте, какие перемены происходят в главных общественных институтах, оказывающих непосредственное влияние на нашу жизнь.
Институт капитализма
На макроуровне экспериментов с общественными институтами предостаточно. Коммунизм, например, был экспериментом над общественными институтами, который провалился перед лицом технического прогресса и смены ценностных ориентиров. Нелегко провести преобразования в обществе, развивающемся согласно пятилетнему плану. Нелегко объяснить, что такое интеллектуальный капитал и как его оценивать, в обществе, где само слово «капитал» предано анафеме.
После падения коммунизма легко провозгласить капитализм победителем в борьбе институциональных экспериментов. Однако празднование может оказаться преждевременным, поскольку на сегодняшний день не существует «одного» капитализма. В действительности, в мире существуют капитализмы. Все они базируются, иногда довольно неоднозначно, на одних и тех же принципах. Но они, вне всякого сомнения, разительно отличаются друг от друга. И даже самые, казалось бы, незыблемые институты построены на весьма зыбкой почве.
Во-первых, у нас есть европейская модель социально-либерального капитализма с относительно сильным госаппаратом, который может и действительно осуществляет регулирование рынка. (Делай, что хочешь, но до определенного предела.) Затем североамериканская модель с минимальной ролью государства. (Делай все, что хочешь.) Третий тип – это азиатский коллективистский капитализм, построенный на взаимодоверии и сильном госаппарате. (Мы все знаем, что мы делаем, и правительство знает, что мы делаем.) Последняя модель – это разбойничий капитализм или клептократия, которую мы наблюдаем на территории бывшего Советского Союза и в некоторых странах Латинской Америки. (Делай то, что я хочу, иначе я тебя застрелю.)
Таким образом, оглянувшись вокруг, можно заключить, что крепкое здоровье капиталистического строя – просто вымысел. В последнее время мы наблюдали целую серию потрясений, затронувших крупнейшие транснациональные корпорации, где демон сокращений сеял ужас в сердцах, не говоря уже об азиатском кризисе и бесконечных проблемах России, пытающейся наладить функционирование рыночной экономики.
Мы надеемся, что капитализм достаточно крепок. Он выживет. Однако происходящие перемены не должны быть, и не могут быть, недооценены. Капитализм пересоздает сам себя, подвергает себя революции изнутри. Революция не может быть закончена за день или за ночь, она продолжается и продолжается. Это похоже на нескончаемый телесериал. За Революцией I следует Революция II, затем Революция III ad infinitum{38}. Но, в отличие от кино, каждая последующая серия должна превзойти предыдущую, как «Крестный отец» и «Крестный отец II» (редкие случаи, когда второй фильм превзошел первый) или «Рокки» и «Рокки II».
После падения коммунизма легко провозгласить капитализм победителем в борьбе институциональных экспериментов. Однако празднование может оказаться преждевременным, поскольку на сегодняшний день не существует «одного» капитализма. В действительности, в мире существуют капитализмы. Все они базируются, иногда довольно неоднозначно, на одних и тех же принципах. Но они, вне всякого сомнения, разительно отличаются друг от друга. И даже самые, казалось бы, незыблемые институты построены на весьма зыбкой почве.
Во-первых, у нас есть европейская модель социально-либерального капитализма с относительно сильным госаппаратом, который может и действительно осуществляет регулирование рынка. (Делай, что хочешь, но до определенного предела.) Затем североамериканская модель с минимальной ролью государства. (Делай все, что хочешь.) Третий тип – это азиатский коллективистский капитализм, построенный на взаимодоверии и сильном госаппарате. (Мы все знаем, что мы делаем, и правительство знает, что мы делаем.) Последняя модель – это разбойничий капитализм или клептократия, которую мы наблюдаем на территории бывшего Советского Союза и в некоторых странах Латинской Америки. (Делай то, что я хочу, иначе я тебя застрелю.)
Таким образом, оглянувшись вокруг, можно заключить, что крепкое здоровье капиталистического строя – просто вымысел. В последнее время мы наблюдали целую серию потрясений, затронувших крупнейшие транснациональные корпорации, где демон сокращений сеял ужас в сердцах, не говоря уже об азиатском кризисе и бесконечных проблемах России, пытающейся наладить функционирование рыночной экономики.
Мы надеемся, что капитализм достаточно крепок. Он выживет. Однако происходящие перемены не должны быть, и не могут быть, недооценены. Капитализм пересоздает сам себя, подвергает себя революции изнутри. Революция не может быть закончена за день или за ночь, она продолжается и продолжается. Это похоже на нескончаемый телесериал. За Революцией I следует Революция II, затем Революция III ad infinitum{38}. Но, в отличие от кино, каждая последующая серия должна превзойти предыдущую, как «Крестный отец» и «Крестный отец II» (редкие случаи, когда второй фильм превзошел первый) или «Рокки» и «Рокки II».
Национальное государство
В «Силе Триады»{39} (1985) Кеничи Омае утверждал, что государства – это творения правительств.[55] В возникающей взаимосвязанной экономике{40}, описанной Омае, потребители не выбирают товары, руководствуясь национальными соображениями, и не важно, что говорят политики. «У кассы вас не беспокоит, где был произведен товар или откуда его экспортировали. Вы не думаете об уровне безработицы или торговом дефиците», – писал Омае и был прав. Анализ потребительских предпочтений больше не может производиться на национальном уровне. Абитуриенты, которые собирают проспекты бизнес-школ со всего мира, не думают об их национальной принадлежности. Их не заботят государственные границы. Лучших студентов завтрашнего дня не волнует, будут ли они учиться в Швеции, Италии, Германии, на Тайване, в Аргентине, Исландии, Австралии или Южной Африке. Качество программы и ее соответствие их индивидуальным требованиям – вот основание для выбора. Не больше и не меньше. Абитуриенты руководствуются вполне стереотипными критериями, такими как: а где самые симпатичные мальчики и девочки, лучшие пляжи, самая дешевая выпивка и меньше всего задают на дом. Вы можете смеяться, но запомните, что, за исключением последнего, все эти факторы могут запросто стать основным источником конкурентного преимущества для регионов в будущем.
 Транснациональные компании больше не мыслят категориями отдельных национальных государств. Производитель и продавец мебели Ikea будет работать с лучшими поставщиками, где бы они ни находились. Зачем им одно подразделение в Финляндии, одно в Норвегии и одно в Швеции? Определенно, достаточно одного офиса в Скандинавии. Зачем вам одно подразделение в Германии и одно в Австрии? Вы можете открыть одно подразделение для всей немецкоговорящей Европы. Становятся более важными другие категории анализа, такие как язык, культурные традиции, климат, возраст, стиль жизни, сексуальная ориентация – все, что угодно.
Транснациональные компании больше не мыслят категориями отдельных национальных государств. Производитель и продавец мебели Ikea будет работать с лучшими поставщиками, где бы они ни находились. Зачем им одно подразделение в Финляндии, одно в Норвегии и одно в Швеции? Определенно, достаточно одного офиса в Скандинавии. Зачем вам одно подразделение в Германии и одно в Австрии? Вы можете открыть одно подразделение для всей немецкоговорящей Европы. Становятся более важными другие категории анализа, такие как язык, культурные традиции, климат, возраст, стиль жизни, сексуальная ориентация – все, что угодно.
Снижение роли национального государства неразрывно связано с интернационализацией – силой, которая направляет развитие бизнеса и многого другого. С институциональной точки зрения, мы вступаем в абсолютно беспрецедентный период глобализации. Теперь «гипер» и действительность находятся в согласии. Будь то Европейское сообщество, Северо-Американское соглашение о свободной торговле или Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, наиболее важные решения переведены на наднациональный уровень. Мы создаем суперструктуры. К сожалению, пока нет доказательств их эффективности. Может быть, именно поэтому многие современные коммерческие организации отказываются перенимать этот опыт. ООН долгое время оставалась «тупым» инструментом. Европейский Союз действует, как 20 или 30 лет назад действовала бы какая-нибудь амбициозная компания, пытаясь кое-как делать все и потому ничего не делая по-настоящему хорошо.
С экономической точки зрения, национальное государство теряет власть. Мы живем в условиях глобальной экономики. Сегодня рынки виртуальны и интернациональны, а не национальны. Информация не знает границ. Макропроблемы, с которыми сталкивается человечество, не могут быть решены локально. Безработица – это не только проблема Голландии или Франции, загрязнение окружающей среды – это не проблема Германии или Турции. Усилия в этих областях на национальном уровне похвальны, но они не больше, чем пластырь на рану, требующую хирургического вмешательства.
Национальные государства слишком малы для действенного решения таких проблем. Безработица, загрязнение окружающей среды, бедность требуют более масштабных организаций и более масштабных решений.
Но тут есть один парадокс. Если для одних вопросов национальное государство слишком «мало», то для успешного разрешения вопросов другого рода оно может быть и слишком «велико». Все чаще и чаще национальное государство не может, а иногда и не хочет помочь нам в повседневной жизни. Как насчет начальной школы для моих детей? Как насчет медицинского обслуживания для моей бабушки? Может государство помочь мне? Похоже, государство оказалось между вагонами и паровозом: слишком маленькое, чтобы решать большие задачи, слишком большое, чтобы решать малые.
Посмотрите на администрацию Клинтона в США. Для решения больших задач она опирается на международные альянсы. Большинство заслуг администрации касается, в основном, внешней политики и опирается на тесное взаимодействие с другими странами. Но как только доходит до внутренних вопросов, «маленьких» проблем, касающихся отдельных граждан, успехи администрации выглядят сомнительными, например, американская система здравоохранения, несмотря на все усилия президента, остается в весьма плачевном состоянии.

Снижение роли национального государства неразрывно связано с интернационализацией – силой, которая направляет развитие бизнеса и многого другого. С институциональной точки зрения, мы вступаем в абсолютно беспрецедентный период глобализации. Теперь «гипер» и действительность находятся в согласии. Будь то Европейское сообщество, Северо-Американское соглашение о свободной торговле или Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, наиболее важные решения переведены на наднациональный уровень. Мы создаем суперструктуры. К сожалению, пока нет доказательств их эффективности. Может быть, именно поэтому многие современные коммерческие организации отказываются перенимать этот опыт. ООН долгое время оставалась «тупым» инструментом. Европейский Союз действует, как 20 или 30 лет назад действовала бы какая-нибудь амбициозная компания, пытаясь кое-как делать все и потому ничего не делая по-настоящему хорошо.
С экономической точки зрения, национальное государство теряет власть. Мы живем в условиях глобальной экономики. Сегодня рынки виртуальны и интернациональны, а не национальны. Информация не знает границ. Макропроблемы, с которыми сталкивается человечество, не могут быть решены локально. Безработица – это не только проблема Голландии или Франции, загрязнение окружающей среды – это не проблема Германии или Турции. Усилия в этих областях на национальном уровне похвальны, но они не больше, чем пластырь на рану, требующую хирургического вмешательства.
Национальные государства слишком малы для действенного решения таких проблем. Безработица, загрязнение окружающей среды, бедность требуют более масштабных организаций и более масштабных решений.
Но тут есть один парадокс. Если для одних вопросов национальное государство слишком «мало», то для успешного разрешения вопросов другого рода оно может быть и слишком «велико». Все чаще и чаще национальное государство не может, а иногда и не хочет помочь нам в повседневной жизни. Как насчет начальной школы для моих детей? Как насчет медицинского обслуживания для моей бабушки? Может государство помочь мне? Похоже, государство оказалось между вагонами и паровозом: слишком маленькое, чтобы решать большие задачи, слишком большое, чтобы решать малые.
Посмотрите на администрацию Клинтона в США. Для решения больших задач она опирается на международные альянсы. Большинство заслуг администрации касается, в основном, внешней политики и опирается на тесное взаимодействие с другими странами. Но как только доходит до внутренних вопросов, «маленьких» проблем, касающихся отдельных граждан, успехи администрации выглядят сомнительными, например, американская система здравоохранения, несмотря на все усилия президента, остается в весьма плачевном состоянии.
Политические партии
Политические партии всегда являлись общественными институтами, построенными на основе идей. Большинство современных партий, как правых, так и левых, возникло из групп, чья идеология вырастала из одного-единственного вопроса, разрешение которого, как им казалось, могло изменить мир. С течением времени они преобразились в «фабрики» по формированию у общественности определенной точки зрения на здравоохранение, систему образования, законность, систему пенсионного обеспечения, военную службу и так далее. Проблема в том, что люди более не едины в своих мнениях. Было бы лучше, если бы у каждого из нас было по десять голосов, которые мы могли бы распределить между разными партиями, поскольку у каждой из них есть как хорошие, так и плохие идеи. Попытки добиться политического единства взглядов не совпадают с нашим фрагментарным и индивидуалистичным мировосприятием. В результате конгломераты общественного мнения не только теряют симпатии избирателей, но и вызывают откровенное презрение и раздражение.
Кроме того, традиционные политические партии немыслимы вне географических границ. Они структурированы по национальному признаку. Но кто в глобальном мире может принимать решения, которые воздействовали бы на мировой рынок ценных бумаг, транснациональные корпорации и глобальных суперспециалистов? Возможно, вместо того, чтобы надеяться, что Европейский Союз или ООН возьмутся за решения глобальных вопросов и что проблема отсутствия лидерства глобального масштаба будет решена путем передачи большего количества полномочий этим организациям, надо переосмыслить наши подходы на более фундаментальном уровне. Возможно, лучшей альтернативой было бы создание Организации Объединенных Корпораций. В конце концов ООН была создана в то время, когда национальные государства были сильны, и именно на их уровне мог проводиться анализ международных процессов. Сегодня корпорации управляют миром, и это должно быть отражено в структуре организаций, призванных управлять ими и направлять их. Как ни странно, даже Джордж Сорос, всемерно поддерживавший развитие суперкапитализма, склоняется к аналогичным идеям.
Новые политические институты построены вокруг насущных вопросов глобального характера. Это организации, подобные Greenpeace и Amnesty International. Их проблемы начинаются тогда, когда они пытаются снискать широкую поддержку. Например, «зеленые» в Германии испытали огромные трудности, когда попытались расширить рамки своей политической программы. Вместо того, чтобы оставаться действенными провокаторами в своей области, им пришлось приспосабливаться к новой среде и стать беззубыми политимпотентами. Как сказал сэр Уинстон Черчилль, «сперва мы формируем структуры, затем структуры формируют нас».
Кроме того, традиционные политические партии немыслимы вне географических границ. Они структурированы по национальному признаку. Но кто в глобальном мире может принимать решения, которые воздействовали бы на мировой рынок ценных бумаг, транснациональные корпорации и глобальных суперспециалистов? Возможно, вместо того, чтобы надеяться, что Европейский Союз или ООН возьмутся за решения глобальных вопросов и что проблема отсутствия лидерства глобального масштаба будет решена путем передачи большего количества полномочий этим организациям, надо переосмыслить наши подходы на более фундаментальном уровне. Возможно, лучшей альтернативой было бы создание Организации Объединенных Корпораций. В конце концов ООН была создана в то время, когда национальные государства были сильны, и именно на их уровне мог проводиться анализ международных процессов. Сегодня корпорации управляют миром, и это должно быть отражено в структуре организаций, призванных управлять ими и направлять их. Как ни странно, даже Джордж Сорос, всемерно поддерживавший развитие суперкапитализма, склоняется к аналогичным идеям.
Новые политические институты построены вокруг насущных вопросов глобального характера. Это организации, подобные Greenpeace и Amnesty International. Их проблемы начинаются тогда, когда они пытаются снискать широкую поддержку. Например, «зеленые» в Германии испытали огромные трудности, когда попытались расширить рамки своей политической программы. Вместо того, чтобы оставаться действенными провокаторами в своей области, им пришлось приспосабливаться к новой среде и стать беззубыми политимпотентами. Как сказал сэр Уинстон Черчилль, «сперва мы формируем структуры, затем структуры формируют нас».
Вечное предприятие
Бюрократическое предприятие мертво. Оно слишком мало для эффективного использования принадлежащих компании ресурсов и слишком велико для энергичных экспериментов. Как мы увидим позже (см. Funky Inc.), корпорации перестраиваются, и должны перестраиваться, на основе совершенно новых принципов. «Многие компании должны создать себя заново. И само перерождение – это не переделка того, что есть, а создание чего-то абсолютно нового. Бабочка – это больше не бывшая гусеница, не усовершенствованная гусеница, а совершенно новое создание. Самоперерождение происходит через вереницу непрерывных метаморфоз, которые по своему масштабу сопоставимы с превращением гусеницы в бабочку», – говорит американский ученый и практик Ричард Паскаль.[56]
 Основная идея перерождения состоит в том, что компания не может и не должна существовать вечно. В прошлом успех компаний, и не только компаний, измерялся их способностью выживать.
Основная идея перерождения состоит в том, что компания не может и не должна существовать вечно. В прошлом успех компаний, и не только компаний, измерялся их способностью выживать.
На земле много восьмидесятилетних стариков, у которых за плечами бесцельные, бесполезные жизни, и в то же время множество людей умирают молодыми, прожив годы, полные волнующих свершений и творчества. Практически то же самое случается и с компаниями. Раньше превалировало мнение, что неизменность – это хорошо. Вот почему компании строили такие массивные здания для головных офисов. Чем больше, тем лучше; чем глубже фундамент и выше крыша, тем лучше бизнес. В этом мире исключительную важность имеет размер зала для заседаний. По правилам хорошего тона, он должен вызывать у конкурентов зависть.
Долгожительство привлекательно, поскольку жизнь куда лучше, чем смерть. Это хороший, но не очень убедительный аргумент. Тем не менее мы верим в те компании, которые давно существуют на рынке. Раз они здесь, значит, что-то в этом есть. Ари де Гиус в книге «Живая компания»{41} упоминает одно исследование, проведенное голландцами, относительно средней продолжительности жизни компаний в Японии и Европе. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни компании примерно 12,5 лет.[57] «Средний возраст жизни транснациональных корпораций составляет 40-50 лет», – говорит де Гиус, отмечая, что из компаний, входивших в Fortune 500 в семидесятые, к 1983 г. не существовало уже около трети. Такой высокий уровень «смертности» в корпоративном мире де Гиус объясняет концентрацией внимания менеджеров на прибыли и финансовых показателях, а не на людях, которые и есть сама компания. Если вы знаете, как обеспечить условия для создания на работе сообщества единомышленников, считайте, что вы открыли чудодейственный источник омоложения.
Но что, если де Гиус ошибается, говоря, что компании должны стремиться жить вечно? Величие быстротечно, а для корпораций оно становится все более быстротечным. Конечной целью корпорации, художника, атлета, брокера должно быть не вечное прозябание, а создание максимально возможного количества ценностей в течение короткого периода времени. Чего-нибудь удивительного, например, открытие новой области бизнеса со сверхростом и ошеломляющими возможностями развития, такой как Силиконовая долина или Объединение разработчиков информационных систем в Хьюстоне, ведь там очень высокий уровень корпоративной «смертности».
Для фирм это означает, что отслужившие направления деятельности становится легче «выбрасывать», коммерческое предприятие превращается во временное убежище для бродячих бизнесменов, которые затем идут дальше, навстречу новым людям и приключениям. В конце концов мы склонны выбрасывать все ненужное и в других случаях. И это, вероятно, правильно. Говоря словами сэра Пола МакКартни, «живи и не мешай умирать»{42}.
«Одноразовая» компания – это явление не новое. Среди старейших коммерческих предприятий, известных нам, это речные суда древних египтян, которые плавали вверх и вниз по течению Нила, перевозя золото, алмазы и рабов. Египтяне инвестировали в такие суда, а когда они возвращались из плавания, если это им удавалось, инвесторы и команда делили прибыль. После каждого предприятия компания прекращала свое существование. История повторяется. Так что не удивляйтесь, если в будущем вы обнаружите, что выгоднее быть бабочкой-однодневкой, переживающей каждый день свою реинкарнацию, чем трехсотлетней черепахой. Фирмы будущего, сколько бы они не жили, – это энергичные фирмы, а не фирмы вечные. Послушайте канадскую рок-легенду Нейла Янга: «Лучше быстро сгореть, чем медленно усохнуть»{43}.

На земле много восьмидесятилетних стариков, у которых за плечами бесцельные, бесполезные жизни, и в то же время множество людей умирают молодыми, прожив годы, полные волнующих свершений и творчества. Практически то же самое случается и с компаниями. Раньше превалировало мнение, что неизменность – это хорошо. Вот почему компании строили такие массивные здания для головных офисов. Чем больше, тем лучше; чем глубже фундамент и выше крыша, тем лучше бизнес. В этом мире исключительную важность имеет размер зала для заседаний. По правилам хорошего тона, он должен вызывать у конкурентов зависть.
Долгожительство привлекательно, поскольку жизнь куда лучше, чем смерть. Это хороший, но не очень убедительный аргумент. Тем не менее мы верим в те компании, которые давно существуют на рынке. Раз они здесь, значит, что-то в этом есть. Ари де Гиус в книге «Живая компания»{41} упоминает одно исследование, проведенное голландцами, относительно средней продолжительности жизни компаний в Японии и Европе. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни компании примерно 12,5 лет.[57] «Средний возраст жизни транснациональных корпораций составляет 40-50 лет», – говорит де Гиус, отмечая, что из компаний, входивших в Fortune 500 в семидесятые, к 1983 г. не существовало уже около трети. Такой высокий уровень «смертности» в корпоративном мире де Гиус объясняет концентрацией внимания менеджеров на прибыли и финансовых показателях, а не на людях, которые и есть сама компания. Если вы знаете, как обеспечить условия для создания на работе сообщества единомышленников, считайте, что вы открыли чудодейственный источник омоложения.
Но что, если де Гиус ошибается, говоря, что компании должны стремиться жить вечно? Величие быстротечно, а для корпораций оно становится все более быстротечным. Конечной целью корпорации, художника, атлета, брокера должно быть не вечное прозябание, а создание максимально возможного количества ценностей в течение короткого периода времени. Чего-нибудь удивительного, например, открытие новой области бизнеса со сверхростом и ошеломляющими возможностями развития, такой как Силиконовая долина или Объединение разработчиков информационных систем в Хьюстоне, ведь там очень высокий уровень корпоративной «смертности».
Для фирм это означает, что отслужившие направления деятельности становится легче «выбрасывать», коммерческое предприятие превращается во временное убежище для бродячих бизнесменов, которые затем идут дальше, навстречу новым людям и приключениям. В конце концов мы склонны выбрасывать все ненужное и в других случаях. И это, вероятно, правильно. Говоря словами сэра Пола МакКартни, «живи и не мешай умирать»{42}.
«Одноразовая» компания – это явление не новое. Среди старейших коммерческих предприятий, известных нам, это речные суда древних египтян, которые плавали вверх и вниз по течению Нила, перевозя золото, алмазы и рабов. Египтяне инвестировали в такие суда, а когда они возвращались из плавания, если это им удавалось, инвесторы и команда делили прибыль. После каждого предприятия компания прекращала свое существование. История повторяется. Так что не удивляйтесь, если в будущем вы обнаружите, что выгоднее быть бабочкой-однодневкой, переживающей каждый день свою реинкарнацию, чем трехсотлетней черепахой. Фирмы будущего, сколько бы они не жили, – это энергичные фирмы, а не фирмы вечные. Послушайте канадскую рок-легенду Нейла Янга: «Лучше быстро сгореть, чем медленно усохнуть»{43}.
Семья
Вокруг идеи семьи есть некая мистическая аура, все в розовом цвете благополучия. Семья – это материнская грудь. Это приторная сентиментальность Уолтонов{44}. Это мама и папа, гордо стоящие со своими детьми. Семья – всегда уравновешенная и мудрая, теплая и простая, не замаранная грязью внешнего мира.
Конечно, реальность семейного очага весьма отлична от той сладкой идиллии, которую пропагандируют рекламная индустрия и средства массовой информации. Не важно, как умны, счастливы и довольны члены семей – все семьи неполноценны. Вопрос в том, в какой степени.
Очевидно, традиционные представления о семье рушатся. Количество разводов непомерно растет, а многие молодые люди вообще не женятся (или не выходят замуж), просто живут одни или вступают в гражданские браки. При таком положении дел семья скоро может стать роскошью. Счастливая пара с 2,4 (двумя целыми четырьмя десятыми) малышей, плюс собака, домик, крашенный белой краской, забор из ладно пригнанных дощечек – все это в ближайшем будущем станет исключительным явлением, необычным архетипом исчезающего идеала.
 Хотя законодательная база и не всегда отражает это, для многих де-факто стандартом стала серийная моногамия, «жизнь втроем» или что-то в этом роде. Многие дети вырастают, не имея продолжительного и постоянного контакта с родителями. У них может быть два отца и три матери. Случается, что братья и сестры в одной семье имеют совершенно разных родителей. А потом мы хотим, чтобы они всю жизнь проработали на одну компанию и под руководством одного и того же начальника!
Хотя законодательная база и не всегда отражает это, для многих де-факто стандартом стала серийная моногамия, «жизнь втроем» или что-то в этом роде. Многие дети вырастают, не имея продолжительного и постоянного контакта с родителями. У них может быть два отца и три матери. Случается, что братья и сестры в одной семье имеют совершенно разных родителей. А потом мы хотим, чтобы они всю жизнь проработали на одну компанию и под руководством одного и того же начальника!
Мы выросли с целым набором определенных понятий. Представители старшего поколения назвали их нормами и очень любят повторять младшим, что все нормы рухнули. В действительности, нормы просто изменились. В семье нас все еще оценивают согласно прежним нормам. И мы считаем себя неудачниками. Есть подозрение, что мы слишком многого хотим. Скорее всего, в этом нет ничего особенного. Просто мы другие.
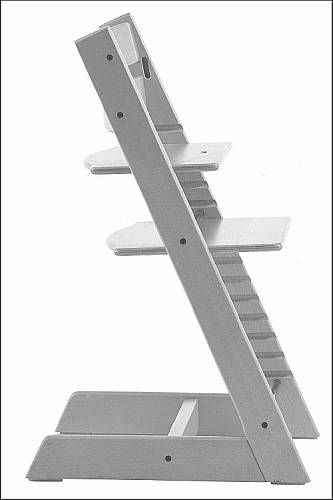
Конечно, реальность семейного очага весьма отлична от той сладкой идиллии, которую пропагандируют рекламная индустрия и средства массовой информации. Не важно, как умны, счастливы и довольны члены семей – все семьи неполноценны. Вопрос в том, в какой степени.
Очевидно, традиционные представления о семье рушатся. Количество разводов непомерно растет, а многие молодые люди вообще не женятся (или не выходят замуж), просто живут одни или вступают в гражданские браки. При таком положении дел семья скоро может стать роскошью. Счастливая пара с 2,4 (двумя целыми четырьмя десятыми) малышей, плюс собака, домик, крашенный белой краской, забор из ладно пригнанных дощечек – все это в ближайшем будущем станет исключительным явлением, необычным архетипом исчезающего идеала.

В США в 1960-е гг. отцы разговаривали со своими детьми в среднем 45 минут в день. Сегодня это время составляет лишь 6 минут.
Даже если семья создается, жизнь каждого все равно протекает обособленно. В США в 1960-е гг. отцы в среднем по 45 минут в день разговаривали со своими детьми. Сегодня это время составляет лишь 6 минут.[58] Норвежский производитель мебели Стокке выпустил на французский рынок Trip Trap – стул для детей. Уровень спроса очень разочаровал компанию. И только спустя некоторое время стала понятна причина: семьи больше не обедают вместе. Даже во Франции, стране гастрономии и изысканных блюд, семьи не садятся вместе за стол, поэтому нет необходимости в стуле, который позволял бы ребенку сидеть за столом на одном уровне со взрослыми. Чтобы продвинуть свой товар на рынке, норвежцам надо было убедить французов снова начать есть вместе с детьми.Мы выросли с целым набором определенных понятий. Представители старшего поколения назвали их нормами и очень любят повторять младшим, что все нормы рухнули. В действительности, нормы просто изменились. В семье нас все еще оценивают согласно прежним нормам. И мы считаем себя неудачниками. Есть подозрение, что мы слишком многого хотим. Скорее всего, в этом нет ничего особенного. Просто мы другие.
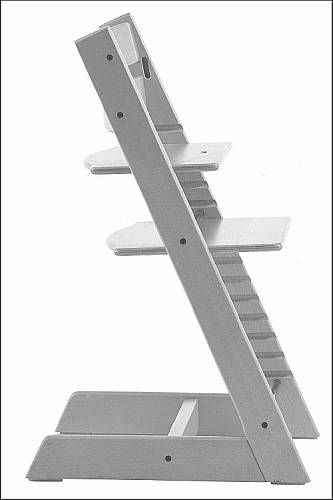
Когда Стокке выпустил на рынок Франции свой детский стульчик Трип-Трап, обнаружилось, что семьи больше не обедают вместе.
Ценности: от телескопа до калейдоскопа
Финальная часть трилогии о силах, управляющих миром, – это разговор о системе ценностей. Хорошо это или плохо, но ценности оказывают большое влияние на наши мысли и поступки. Из наших личностных ценностей проистекает наше отношение к работе, людям, техническому прогрессу. Ценности влияют на артефакты и действия. Ценности могущественны, вездесущи, и они значительно разнятся в зависимости от места и человека. Ценности способствуют созданию союзов и порождают конфликты. Но ценности тоже меняются, только медленно – очень медленно.
Трудовая этика
Капитализм и христианство взаимосвязаны. Мы никогда не узнали бы капитализма в том виде, в котором мы знаем его сегодня, не будь протестантской революции, которая создала новую трудовую этику. Мартин Лютер сказал, что мы должны молиться и работать – ora et labora на латыни. Работа сама по себе стала благом, данью почтенья, средством, укрепляющим дух и воспитывающим покорность.
Отсюда вывод: характер выполняемой работы не так уж важен. Работа – благо. И даже если вы работаете по 12 часов у станка, выполняя однообразные движения, работа все равно благо. Сам факт выполнения работы – благо, и, следовательно, вы и хотите работать и должны работать. Эдикт Лютера породил поколения и поколения людей, желающих работать без какого-либо принуждения. Они хотели работать, потому что работа была путем к совершенствованию.
В других частях земного шара системы ценностей зачастую находятся в конфликте с западными концепциями. Работа являлась точкой опоры Западного мира, основой нашего индустриального превосходства, а Восток породил своего собственного Лютера – Конфуция. Лютер воспел работу, Конфуций воспел мудрость. В Юго-Восточной Азии многие люди начинают копить на образование для своих детей еще до того, как они встретят кого-нибудь, на ком они хотели бы жениться или за кого хотели бы выйти замуж. На Востоке мудрость – это все.
Многие представители восточной экономики верят как в Будду, так и в Конфуция. Буддизм утверждает солидарность всех по горизонтали, Конфуций пропагандирует субординацию по вертикали. То, что для многих людей на Западе кажется классическим оксюмороном{45}, парадоксом – быть одновременно по вертикали и по горизонтали, – для людей Востока самая естественная вещь в мире. Добавьте сюда капитализм, чтобы придать процессу некоторую направленность, и вы получите безжалостную машину, летящую вперед со скоростью света. Добавьте сюда коммунизм, и у вас будет безжалостная машина другого рода, и на свете есть немало людей, которые с готовностью подтвердят этот факт.
Отсюда вывод: характер выполняемой работы не так уж важен. Работа – благо. И даже если вы работаете по 12 часов у станка, выполняя однообразные движения, работа все равно благо. Сам факт выполнения работы – благо, и, следовательно, вы и хотите работать и должны работать. Эдикт Лютера породил поколения и поколения людей, желающих работать без какого-либо принуждения. Они хотели работать, потому что работа была путем к совершенствованию.
В других частях земного шара системы ценностей зачастую находятся в конфликте с западными концепциями. Работа являлась точкой опоры Западного мира, основой нашего индустриального превосходства, а Восток породил своего собственного Лютера – Конфуция. Лютер воспел работу, Конфуций воспел мудрость. В Юго-Восточной Азии многие люди начинают копить на образование для своих детей еще до того, как они встретят кого-нибудь, на ком они хотели бы жениться или за кого хотели бы выйти замуж. На Востоке мудрость – это все.
Многие представители восточной экономики верят как в Будду, так и в Конфуция. Буддизм утверждает солидарность всех по горизонтали, Конфуций пропагандирует субординацию по вертикали. То, что для многих людей на Западе кажется классическим оксюмороном{45}, парадоксом – быть одновременно по вертикали и по горизонтали, – для людей Востока самая естественная вещь в мире. Добавьте сюда капитализм, чтобы придать процессу некоторую направленность, и вы получите безжалостную машину, летящую вперед со скоростью света. Добавьте сюда коммунизм, и у вас будет безжалостная машина другого рода, и на свете есть немало людей, которые с готовностью подтвердят этот факт.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
