Страница:
Мой приятель сказал, жалеючи:
— Дура, вышвырнут — причем, отовсюду, — тебя. Тебя, понимаешь? Из квартиры, из поликлиники, из химчистки, из общества «Красного креста» и защиты животных… Из жизни!.. Убогая, ты не представляешь — с кем имеешь дело…
— Как же мне быть? — упавшим голосом спросила я.
— Переводить.
— Кого?! Лермонтова?!
— Его, родимого.
— Ты с ума сошел… С какого на какой?
— С русского — на советский! — жестко проговорил мой умный приятель и повесил трубку.
Горе объяло мою душу. Дней пять я не могла приняться за работу, все крутилась вокруг проклятой стопки листов. Наконец, задушив в себе брезгливость и чувство человеческого достоинства, принялась за это грязное дело.
Немыслимые трудности встали на моем пути! В сюжете романа следовало объединить восстание крестьян против зверя-помещика, под предводительством бывшего Вадима, а ныне возлюбленного Зульфии, Ахмеда, и колхозное собрание, где Зульфию премировали телевизором, как лучшего бригадира овощеводческой бригады.
К тому же, дура-Зульфия называла Ахмеда «сударь мой», крестила его к месту и не к месту, и, как истинно правоверная мусульманка, восклицала то и дело: «Господи Иисусе!», а на другой странице кричала посреди дивной лермонтовской прозы: «Вай-дод! Он приподнял край чадры и увидел мое лицо!»
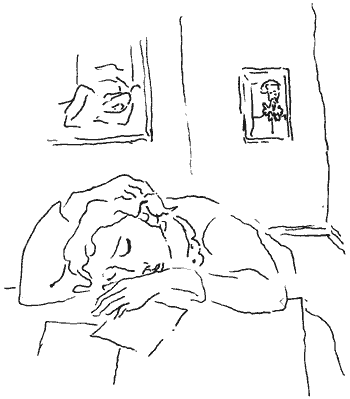
Днем я, как зловещий хирург, закатав рукава, проделывала над недоношенной Зульфией ряд тончайших пластических операций, а ночью… ночью меня навещал неумолимый в своей ненависти Михайл Юрьевич, и тяжело смотрел в мою озябшую душонку печальными черными глазами.
Наконец, я поставила точку. Честь Зульфии была спасена, зато моя тихо подвывала, как ошпаренная кошка.
Мой приятель-филолог прочел этот бесстыдный опус, похмыкал и посоветовал:
— Закончи фразой: «Занималась заря!»
— Пошел к черту!
— Почему? — оживился он. — Так даже интересней. Все равно ведь получишь за этот криминал государственную премию.
Он посмотрел на меня внимательно и, вероятно, мой несчастный вид разжалобил его по-настоящему.
— Слушай, — сказал он, — не бери денег за эту срамоту. Тебе сразу полегчает. И вообще — смойся куда-нибудь месяца на два. Отдохни. Готов одолжить пару сотен. Отдашь, когда сможешь.
Это был хороший совет хорошего друга. Я так и сделала. Рукопись романа послала в Союз писателей ценной бандеролью, и уже через три дня мы с сыном шлепали босиком по песчаному берегу Иссык-Куля, красивейшего из озер мира…
…А вскоре начался тот самый Большой Перевертуц, который в стране еще называли «перестройкой», в результате которого все выдающиеся аксакалы из одного узбекского клана вынуждены были уступить места аксакалам из другого влиятельного клана. Так что наш с Лермонтовым роман не успел получить государственную премию, и даже, к моему огромному облегчению, не успел выйти. Какая там премия, когда выяснилось, что бывший секретарь Союза писателей — выдающийся классик узбекской литературы и тесть моего Абидуллы, — многие годы возглавлял крупнейшую скотоводческую мафию, перегонявшую баранов в Китай. То есть, до известной степени не порвал со своей первой профессией.
Но это совсем, совсем уже другая история.
Будет время — расскажу.
Глава вторая Джентльмен в поисках сюжета
— Дура, вышвырнут — причем, отовсюду, — тебя. Тебя, понимаешь? Из квартиры, из поликлиники, из химчистки, из общества «Красного креста» и защиты животных… Из жизни!.. Убогая, ты не представляешь — с кем имеешь дело…
— Как же мне быть? — упавшим голосом спросила я.
— Переводить.
— Кого?! Лермонтова?!
— Его, родимого.
— Ты с ума сошел… С какого на какой?
— С русского — на советский! — жестко проговорил мой умный приятель и повесил трубку.
Горе объяло мою душу. Дней пять я не могла приняться за работу, все крутилась вокруг проклятой стопки листов. Наконец, задушив в себе брезгливость и чувство человеческого достоинства, принялась за это грязное дело.
Немыслимые трудности встали на моем пути! В сюжете романа следовало объединить восстание крестьян против зверя-помещика, под предводительством бывшего Вадима, а ныне возлюбленного Зульфии, Ахмеда, и колхозное собрание, где Зульфию премировали телевизором, как лучшего бригадира овощеводческой бригады.
К тому же, дура-Зульфия называла Ахмеда «сударь мой», крестила его к месту и не к месту, и, как истинно правоверная мусульманка, восклицала то и дело: «Господи Иисусе!», а на другой странице кричала посреди дивной лермонтовской прозы: «Вай-дод! Он приподнял край чадры и увидел мое лицо!»
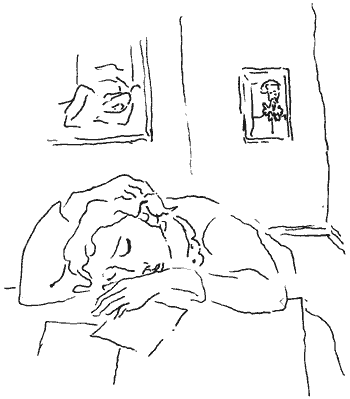
Днем я, как зловещий хирург, закатав рукава, проделывала над недоношенной Зульфией ряд тончайших пластических операций, а ночью… ночью меня навещал неумолимый в своей ненависти Михайл Юрьевич, и тяжело смотрел в мою озябшую душонку печальными черными глазами.
Наконец, я поставила точку. Честь Зульфии была спасена, зато моя тихо подвывала, как ошпаренная кошка.
Мой приятель-филолог прочел этот бесстыдный опус, похмыкал и посоветовал:
— Закончи фразой: «Занималась заря!»
— Пошел к черту!
— Почему? — оживился он. — Так даже интересней. Все равно ведь получишь за этот криминал государственную премию.
Он посмотрел на меня внимательно и, вероятно, мой несчастный вид разжалобил его по-настоящему.
— Слушай, — сказал он, — не бери денег за эту срамоту. Тебе сразу полегчает. И вообще — смойся куда-нибудь месяца на два. Отдохни. Готов одолжить пару сотен. Отдашь, когда сможешь.
Это был хороший совет хорошего друга. Я так и сделала. Рукопись романа послала в Союз писателей ценной бандеролью, и уже через три дня мы с сыном шлепали босиком по песчаному берегу Иссык-Куля, красивейшего из озер мира…
…А вскоре начался тот самый Большой Перевертуц, который в стране еще называли «перестройкой», в результате которого все выдающиеся аксакалы из одного узбекского клана вынуждены были уступить места аксакалам из другого влиятельного клана. Так что наш с Лермонтовым роман не успел получить государственную премию, и даже, к моему огромному облегчению, не успел выйти. Какая там премия, когда выяснилось, что бывший секретарь Союза писателей — выдающийся классик узбекской литературы и тесть моего Абидуллы, — многие годы возглавлял крупнейшую скотоводческую мафию, перегонявшую баранов в Китай. То есть, до известной степени не порвал со своей первой профессией.
Но это совсем, совсем уже другая история.
Будет время — расскажу.
Глава вторая Джентльмен в поисках сюжета
«…проза, помимо всего прочего, это еще и ремесло со своими трюками — мешок фокусника. И как ремесло она имеет свою собственную родословную, свою собственную динамику, свои собственные законы и свою собственную логику».
В. Набоков «Искусство литературы и здравый смысл»
— КОГДА У ВАС ВОЗНИКЛО СТОЙКОЕ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО ВЫ ПИСАТЕЛЬ?
— Знаете, тут можно было бы заявить с некоторой долей кокетства, что у меня и сейчас нет стойкого убеждения, что я писатель (тем более, что у всякого литератора такие минуты случаются). Но у меня есть определенная точка зрения на то, что считать профессией. Если человек посвящает все свое рабочее время какому-то делу, и дело это его кормит, — он имеет полное право считать себя профессионалом.
С двадцати двух лет я кормлюсь сочинительством, отдавая ему все время, следовательно, я — писатель. Плохой или хороший, — не суть важно; это мое занятие, которым добываю своей семье пропитание.
– ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ-«ПРОФИ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛА — ДЕВИЗОМ «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ», ПОЛУЧЕНИЕМ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ, УМЕНИЕМ ПРОЖИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГОНОРАРЫ?
— Да нет, конечно же, вовсе не этим. Исключительно качеством работы, мастеровой хваткой. У профессионала безукоризненно отлажена связка: глаза-мысль-рука. Помните, Чехов уверял, что может написать рассказ о чем угодно — о чернильнице, на которую упал взгляд?
Любой жизненный материал содержит в себе саморазвивающееся художественное зерно, которое «произрастить» может только мастер. Как хороший садовник, скупым и точным движением он отсечет секатором слабые боковые ветви и пустит ствол повествования расти ввысь.
– ПИСАТЕЛЯ ИНОГДА СРАВНИВАЮТ С ЭКСТРАСЕНСОМ: ТОННЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ — ЛЮДЯМ, А ЧТО — СЕБЕ? НЕ ОСТАЕТСЯ ЛИ ОЩУЩЕНИЕ ПУСТОТЫ, НЕВОСПОЛНЕННОСТИ ДУШЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА? НЕ СЛИШКОМ ЛИ ДОРОГА ЦЕНА ОБНАЖЕНИЯ ДУШИ?
— Во-первых, профессия писателя — отнюдь не всегда «обнажение души»; это, скорее, строительство своего пространства; вообще, творчество, это, конечно, использование и своего жизненного опыта, но оставаться перед читателем в нижнем белье… это выбирает далеко не всякий художник, а если уж выбирает, то это такое белье, что — как говорила моя бабушка — «есть на что посмотреть, и есть что пощупать».
Во-вторых, каждый из нас, и не только писатель, всегда платит за все валютой собственной жизни: за счастье, за творчество, за любовь, за увлечения… Боюсь, то самое ощущение пустоты, душевной невосполненности, о которых вы говорите, возникают время от времени у любого человека. У писателя же есть преимущество: он «страж времени», в его власти — запечатлеть миг, день, сценку, разговор, сильное переживание, прошлогоднее цветение жимолости под балконом — то самое «остановись, мгновенье!» Так что, мы, полководцы слов и фраз, наоборот, в более выгодном положении: у нас, помимо груза нашей собственной жизни, есть еще «дополнительный вес», разрешенный небесной таможней.

– КАКИМ БЫ ЖАНРОВО И СТИЛИСТИЧЕСКИ РАЗНООБРАЗНЫМ НИ БЫЛО ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ, ОН ВСЕ ЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАБОРОМ ПРИЕМОВ, СУММИРУЯ КОТОРЫЕ, КРИТИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГОВОРЯТ О СТИЛЕ ТОГО ИЛИ ДРУГОГО МАСТЕРА. ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ?
— С тем, что, взламывая этот мир, каждый писатель пользуется своими личными отмычками? Разумеется.
Виктор Славкин мне рассказывал, что в конце семидесятых годов прошлого уже века некий старый еврей, ремесленник-драматург, учил его, как писать пьесы:
— Витенька, — говорил он со скептической миной на лице, — пьесы писать очень просто! Что такое пьеса? Это: завьязка-кульминатия-развьязка — всё!!!
И, знаете, до известной степени эта схема подходит любому жанру. Ведь если вдуматься: любое произведение, хочешь-не хочешь, должно начинаться с некой расстановки героев и событий, затем эти силы взаимодействуют до абсолютного осуществления и исчерпания всех мотивов данного материала. После чего автор должен как-то выкручиваться из ситуации. Помните чеховское: «в финале герой либо женись, либо застрелись» — и это та ужасная, и совсем не смешная правда, с которой писатели вот уже много веков ничего не могут поделать. Между нами говоря, ведь и сюжетов в литературе — всего тридцать шесть. Не помню, кто из великих жизнь положил на то, чтобы изобрести тридцать седьмой сюжет, но ему это не удалось.
Совсем иное дело — байка! Она рождается из ничего, выскакивает, как черт из табакерки и содержит в себе капсулу спонтанного сюжета, для воплощения которого никакие «приемы» не нужны.
Несколько раз я сама бывала свидетелем рождения байки.
Картинка по теме:
Однажды, году в девяносто седьмом, я оказалась с выступлением в Берлине. В те же дни там выступали писатели и журналисты, такая бригада-десант газеты «Московские новости», в те годы едва ли не самой популярной. В этой бригаде были Виктор Шендерович и Юрий Рост, известные журналист и фотохудожник. Мы встретились на приеме в «Русском доме», и, прогуливаясь по залу с бокалами в руках, разговорились.
— Юра, — сказала я, — помню один фотопортрет вашей работы: того грузинского актера, что играл в сериале по роману «Дата Туташхия». У него еще такое, виртуозное для языка имя — Отар Мегвинатухуцеси… Отличный портрет: он стоит, небрежно опершись на невысокую коринфскую колонну — в ослепительно белой сорочке, во фраке, в бабочке, в цилиндре и… босой! И такие у него синие-синие глаза…
Юрий покивал:
— Да, да… А вы знаете, что он снялся в фильме по Библии?
— О! Кого играл? Христа?
— Да нет, просто они на «Грузия-фильм» сняли ленту по мотивам библейских сюжетов, но все — на грузинский лад.
— Что это значит? — удивилась я.
— Да просто: если в Библии говорится о пастухе, то в кадре мы видим грузинского пастуха, а вокруг по грузинским холмам гуляют грузинские овечки. Если речь идет о дровосеке, то на экране — идет грузинский дровосек, несет на плече вязанку грузинских дров. Если притча о сыроваре — в кадре мы видим грузина в сванетке, перед которым на доске разложены грузинские сыры…
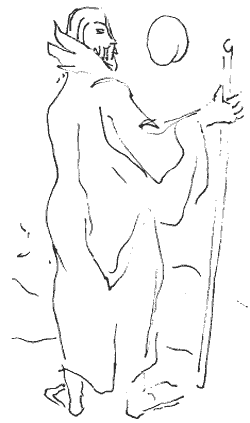
— Юра, минутку… — уточнила я. — Но распинают-то, все-таки, евреи?
Рост запнулся на мгновение, и быстро проговорил:
— Грузинские евреи!
И мы с Шендеровичем одновременно расхохотались. Я поняла, что родилась байка, и с тех пор везде ее рассказываю.
И, между прочим, еще одна трогательная история о Библии на грузинский лад.
Моя подруга родилась в Тбилиси и провела там все детство. Родители наняли для девочки няньку, старую красивую грузинскую женщину из какого-то села. И вот, каждый вечер, укладывая свою трехлетнюю подопечную спать, няня рассказывала ей сказку. В комнате стояла полнейшая тишина, только из-за двери ровно и глухо-торжественно звучал голос старой грузинки.
Однажды отец девочки, заинтригованный такой необычной кротостью своей непоседливой дочки, подкрался к дверям — послушать, что ж это за сказки такие.
И услышал:
— И та-агда Иисус Христос ударил посохом, рассек воды Черного моря, чтобы грузины пра-ашли по дну и вышли на берег прекрасной Грузии!

– ГДЕ-ТО ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ — ЭТО ПЛЮШКИН, КОТОРЫЙ ПОДБИРАЕТ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ.
— Подбирает, улавливает, подглядывает, унюхивает, крадет у коллег… и делает все своим. Все мое: к чему наклонилась, что подобрала, что увидела, за чем потянулась, — все мое, если это художественно переработано, пропущено через все фильтры литературного дарования, самые мощнейшие фильтры, и воплощено в художественную реальность…
Писатель — уникальный архивариус, страж времени, странный персонаж, — в его котомке фасоны одежды, марки машин, блеск жестяной крыши сарая, смятая салфетка с мимолетным адресом, едва подсохшая слеза на скуле хохочущей девушки, лепнина балтийских облаков… И когда из всего этого барахлишка вдруг оживет и зашевелится кусочек времени, отрезок эпохи… вот уж ликование, вот радость!
– А МОЖНО ПРИМЕР?
— Ну-у… скажем, однажды я невольно подслушала разговор мужчины и женщины за соседним столиком в кофейне. Разговор велся на повышенных тонах — обоим было все труднее себя сдерживать. Из реплик постепенно выяснялось, что это — супруги, прожившие двадцать семь лет. И вот теперь муж уходит к другой женщине, даже не моложе, не красивее… просто — к другой. И его жена, из последних сил пытаясь оставаться в рамках «публичного приличия», все пыталась выяснить: чем взяла соперница.
— Ну что, — спрашивала она в пятый раз с горечью, — что тебя в ней привлекло?
— Она сделала из меня человека! — наконец, в сердцах выпалил муж.
— Что это значит? — с оторопевшим лицом спросила жена.
— Она многому меня научила!
— Ну, чему, чему она тебя научила? — чуть ли не выкрикнула женщина. — Например?!
— Например, она вывела у меня перхоть!
Смешно? Конечно, смешно, если не думать о том, что оба страдают. Но этого недостаточно для читательского сопереживания. Это просто диалог. Кому-то оба покажутся нелепыми, кто-то посочувствует женщине, кто-то — мужчине… И только писатель властен придать этой мгновенной сценке объем, причем, какой захочет — трагический или комический. В зависимости от обстоятельств. Например, если читатель узнает, что мужчина-то тяжело болен, и диагноз его известен только жене, которая уговорила онколога пока не сообщать больному приговор… Или, наоборот, больна та женщина, разлучница, и он это знает… Или никто не болен, но…

– Я ВИЖУ, ПИСАТЕЛЬ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ?
— Ну что вы, какая это работа. Это ежеминутная гимнастика воображения по любому поводу. Мгновенные творческие импульсы на малейшие раздражители реального мира. Неуловимые приказы мозга, в вечной засаде стерегущего «добычу».
– А ВЫ ЗАПОМИНАЕТЕ ТАКИЕ СЦЕНКИ, ИЛИ ЗАПИСЫВАЕТЕ? И КАК ОКРУЖАЮЩИЕ ОТНОСЯТСЯ К ТАКОМУ ФИКСИРОВАНИЮ ИХ СЛОВ, ИХ ЖИЗНИ — БУКВАЛЬНО НА ИХ ГЛАЗАХ?
— Нет, я пытаюсь, мучительно пытаюсь запоминать, хотя надо уже плюнуть на все приличия. Память-то с возрастом не молодеет. Помните, Толстой писал в дневнике: «Старею. Путаю имена сыновей. Не важно! Все — дикие».

Так вот, я еще стараюсь оставаться в рамках светского общения. Игорь Губерман, у которого в кармане всегда блокнотик и карандаш, рассказывал мне, что, услышав или увидев что-то ценное, немедленно отлучается в туалет, и там, присев на краешек унитаза, аккуратно все заносит в блокнотик. И ведь это — человек, который и сам чуть ли не ежеминутно извергает афоризмы и каламбуры, которому, казалось бы, можно и побрезговать оброненной кем-то фразой… Но вечный хищный тонус охотника за скальпами… И ведь знаете, надо ж еще приличную мину соблюсти.
Картинка по теме:
Недавно я заскочила к своему врачу — выписать рецепт. В приемной передо мной уже сидят две пожилые дамы, и в кабинете, судя по голосам — еще одна. Причем, кабинет от приемной отделяет тонкая стенка, так что врачебная тайна отдыхает. А если еще учесть, что к нашему «русскому» доктору записываются в основном «русские» пациенты… можешь быть уверен, что весь городок скоро будет в курсе всех твоих немочей.
Короче, пристраиваюсь я в очередь, а за стенкой, между тем, идет беседа врача с пациенткой:
— Доктор, выпишите мне яду!
— Яне выписываю ядов, у меня другая профессия.
— Нет, выпишите мне яду, я не буду больше жить с такой болью в колене!!!
— Так, хорошо, яду. Что еще?
— И лекарства на три месяца…
В эти же мгновения другое мое ухо фиксирует неспешную беседу тех двух дам, которые сидят в очереди передо мною:
— Вы слышали, у Гуревича жена умерла. Бедный, он так страдает… На нем просто нет лица!
— Ай, оставьте, на нем есть лицо! На нем нет чистой рубашки. Ну, ничего: вот она умерла, вот он ее похоронил, скоро женится, и на нем будет лицо, и на нем будет чистая рубашка!
Наконец, из кабинета выходит любительница ядов, и входит следующая пациентка. Эта как раз к лекарственным препаратам относится с подозрением:
— Доктор… вы мне сказали пить две таблетки: красненькую и желтенькую.
— Да-да. Одну вы принимаете до еды, другую — после.
— Доктор… я как раз хотела спросить: можно я буду принимать только красненькую?
— Да что вы, это разные лекарства от разных болезней! Будьте любезны — одну до еды, другую — после!
— Знаете, доктор… тогда я буду принимать только желтенькую…
В кабинете наступает зловещая тишина, как перед взрывом. Наконец, вскипающий голос доктора:
– Послушайте: Фишер и Фридман — это одно и то же?!
Снова тишина, озадаченная…
— А я с ними не знакома… — наконец, искренне отвечает дама.
И я, закусив губу, сижу с каменным лицом, чтобы, выйдя из кабинета врача, тут же записать на обороте рецепта не только «слова песни», но и интонацию — что не менее важно.
— ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ОБУЧИТЬ ПИСАТЕЛЬСКОМУ МАСТЕРСТВУ?— Нет, конечно. Это все равно, что учить ребенка ходить, объясняя — какой ногой и как ступать. Но образовать его, обучить каким-то расхожим приемам ремесла — можно вполне… Скажем, погрузить в среду, которая отшлифует дарование…
Картинка по теме:
Году в восемьдесят пятом мы с Борисом оказались в Доме творчества писателей в Гаграх. Познакомились там с трогательным старичком, не помню, как его звали, — скажем, Степан Ильич. Оказалось, что Степана Ильича только три года назад приняли в Союз писателей. А до этого он всю жизнь был замдиректора по хозяйственной части Дома творчества «Переделкино». И всю жизнь писал стихи, допекая известных писателей, постояльцев «Переделкино», просьбами прочитать и «дать свою оценку».
Говорил он размеренно, степенно, таким эпическим зачином:
— Да-а… У нас каждый год поэт Луговой живал, по два, по три месяца… Да-а… И я однажды решил ему стихи показать, попросил нашего директора — они с Луговым были приятелями, — чтобы составил протекцию. Тот все выяснил, договорился, и сказал мне:
— По вечерам Луговой медитирует. Вот как увидишь вечером, что свет у него зажегся, — выжди часа два, потом иди… Да-а… Я так и сделал… Поднялся по лестнице, постучал… услышал: «Войдите!»… Открыл дверь и вошел. Луговой сидел на полу, в позе лотоса. Принял меня приветливо, но подниматься не стал. Взял тетрадку с моими стихами… глазами по строчкам побежал, кивал, кивал… Что-то хвалил… Да-а… Одну строку только раскритиковал. Там у меня такое слово было — «стезя». Он ногтем эту строку отчеркнул и сказал: «„Стезю“ — к ебене матери!»
Между прочим, этот Степан Ильич потом и в Литературный институт поступил, в семинар Михаила Светлова. Рассказывал, что на первом занятии Светлов велел каждому студенту-новичку прочесть по одному своему стихотворению. Пока ребятки завывали, Михаил Аркадьевич сидел, дремал… Когда отчитал свои вирши последний студент, Светлов открыл глаза и сказал: «Ну, поэтов из вас не выйдет, а стихотворцев я из вас сделаю. Стоить это будет недорого: бутылку водки».
— ПОХОЖЕ, ТЕМА «СВЕТЛОВ И ВОЗЛИЯНИЯ» НЕИСЧЕРПАЕМА. ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МНОГИЕ ИСТОРИИ НА ЭТУ ТЕМУ ВОЗНИКЛИ УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЭТА?
— А это неважно. Кристаллизация мифа — дело обычное в том, что касается биографии знаменитых людей. Процесс активизируется именно после того, как человек умирает. Ведь, если вдуматься, на всем протяжении истории культуры мы имеем дело с мифами. Они возникают при жизни творца (или сразу с его смертью), отвердевают, обрастают деталями, служат основой для творчества более поздних поколений творцов. Возьмите заведомо сомнительную легенду о Моцарте и Сальери. Сколько споров она породила. Но и гениальную пьесу Пушкина — тоже.
Кстати, о Сальери, Моцарте и… опять же, Михаиле Светлове. Возможно, очередная байка. Возможно, миф. Светлова обсуждали на заседании бытовой комиссии Союза писателей, ругали за пьянство. Тот слушал-слушал, наконец, вспылил:
— Да что вы пристали! — говорит. — Все великие пили!
— Кто — пил?
— Да все: Мусоргский пил, Глинка пил, Моцарт пил…
— Что?! Что Моцарт пил-то?! — возмутился кто-то из партийных функционеров.
— А что Сальери ему наливал, то и пил, — мгновенно ответил гениальный Светлов.
– ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ СОЗДАЕТ ПИСАТЕЛЬ, ЗАПОЛНЕНО ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. ЧАСТЕНЬКО ЭТА ЭНЕРГИЯ ПО КАКИМ-ТО СВОИМ ЗАКОНАМ ПЕРЕТЕКАЕТ В РЕАЛЬНОСТЬ. НЕМАЛО «ПИСАТЕЛЬСКИХ» СЛУЧАЕВ, КОГДА АВТОР ПРИДУМЫВАЕТ СЮЖЕТ, А ТОТ ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОБРУШИВАЕТСЯ НА НЕГО С ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЗЕР КАЛЬНОСТЬЮ. ТАК БЫЛО С ТЭФФИ, С РОМЕНОМ ГАРИ. С ВАМИ ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ?
— Я настолько хорошо знакома с этим потусторонним законом и настолько в него верю, что в каждое новое литературное плавание отправляюсь как сталкер — в зону, не зная, вернусь ли целой. Пока писала повесть «Высокая вода венецианцев», где смертельно больная героиня отправляется в Венецию, раза два добивалась у врачей тщательных обследований. А мама моя вообще плакала… Вроде, пока пронесло… не знаю — надолго ли… В этом отношении наша профессия, «создание параллельных реальностей» так же опасна, как опасно дело ликвидаторов. Все время ждешь определенной дозы облучения.

Но бывают и очень смешные «обратки». В романе «Синдикат» я описываю деятельность особого отдела некой гигантской организации, которая занимается розыском бесследно исчезнувших израилевых колен, угнанных когда-то в древности из страны Навуходоносором. Эти ушлые чиновники, дабы не потерять деньги американских спонсоров, «находят» потерянные колена то на Крайнем Севере, то в джунглях Амазонки… Словом, сочиняя, я повеселилась на славу, погуляла по просторам материков. И вот, не так давно, читаю в одной из авторитетных израильских газет, что некое племя «майори» в Новой Зеландии объявило себя потомками потерянных колен. Поди, после такого, еще что-то придумывай!
Картинка по теме:
Наш приятель, американский дипломат Илья Левин три года служил в Эритрее. Когда я впервые услышала название страны, я даже не поняла — о чем идет речь. Выяснилось, что это государство такое в Восточной Африке, на берегу Красного моря. Кстати, недалеко от нас.
Эритрейцы, рассказывал Илюша, люди темнокожие, однако с тонкими удлиненными лицами, выразительными чертами; встречаются и очень красивые экземпляры. Сами считают, что происходят от царицы Савской и царя Соломона. Исповедуют какую-то раннюю форму христианства, близкую к иудаизму. Носят сплошь и рядом библейские имена.
Например, девушку, которая ходила к Илюше убирать, звали Ерузалем. А садовника вообще простенько звали: Адонай (молитвенное обращение к Богу).
Илюша сфотографировал на улицах несколько лиц, поразительно напомнивших ему лица знакомых и друзей, только темнокожих.
— И что любопытно, — говорит он, — эритрейцы — расисты. Внимательно следят за родословной, предков знают до десятого колена. Презрительно относятся к неграм, так и называют их — «негры».
— Вот скоро будет у меня дочь выходить замуж, — рассказывает повар дипломатической миссии. — И что ж вы думаете — я внимательно изучу родословную жениха: нет ли там негров! — При этом устрашающе выкатывает на Илью белки глаз, раздувает черные ноздри…
В стране безобразничают обезьяны — приземистые крепкие бабуины. Они нападают на людей, особенно в поисках жратвы. Причем, действуют по двое, как бытовые хулиганы. Идет, скажем, человек из магазина с полными сумками еды. Па него нападают бабуины: один сзади хватает за волосы, оттягивает голову, другой жилистым кулаком бьет прямо в лицо. Человек от боли и неожиданности роняет сумки, те хватают их — и таковы. Прямо национальное бедствие.
В стране есть и европейские евреи. Раньше их было человек пятьсот, но когда к власти пришли коммунисты, за считанные месяцы все они страну покинули. Сохранилась синагога, напоминающая старые пражские синагоги — с благородной гулкой пустотой внутри. Сейчас за ней присматривают двое — дядя и племянник. Причем, когда один выезжает из страны, другой всегда остается — присмотреть за хозяйством.
Илюша долго не мог попасть в эту синагогу — она большую часть времени закрыта. Наконец, кто-то из американской миссии сказал, что завтра, в субботу, синагогу откроют, и требуется миньян — непременные десять человек для молитвы, — это была годовщина смерти то ли жены дяди, то ли матери племянника.
Илья пришел, собрался миньян: двое из американской миссии, один человек из британской, один — из французской. И рыбаки с израильского судна, стоявшего в порту.
Илья говорит:
— Я был очень напряжен, боялся своего невежества, боялся, что вызовут к Торе, а я ну такой неотесанный по части молитв! Однако напрасно боялся: самыми непросвещенными в религиозном культе оказались израильские рыбаки.
— Да? — удивилась я. — Почему?
— Потому что родом они были из Астрахани.
— ВАША ТОЧКА ЗРЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?
— О да, несравнимо! Ведь литературная реальность это и есть — настоящая идеальная жизнь, в том смысле, что «история» ее очищена от ненужных деталей, бездарно прожитого времени, лишних в твоей судьбе людей, и у героев нет ощущения, что они совершают совсем не те поступки, какие им положено совершить, — то, что нас постоянно преследует в жизни.
– СКАЖИТЕ, ДИНА, ЭТА ДАЖЕ НЕ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, А ЗНАКОМОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ — ВАШ ФИРМЕННЫЙ ХОД? ОСОБЫЙ ПРИЕМ МАСТЕРА? ИЛИ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, И ВСЕ ТУТ?
— «Так получается, и все тут» — это несбыточная мечта юного графомана, такая грёза о Музе, которая явится, погладит по макушке, мимоходом наваяеттебе шедевр — «и все тут». В реальности это семнадцатый вариант диалога, от которого тебя с утра тошнит, и который завтра все равно переделываешь в восемнадцатый раз. Персонажи очень взыскательно относятся к тому, сколько времени ты им посвящаешь: «Ах, ты занималась моей походкой две минуты? Не пойду. Или пойду так, чтоб читатель не поверил ни единому шагу».
— Знаете, тут можно было бы заявить с некоторой долей кокетства, что у меня и сейчас нет стойкого убеждения, что я писатель (тем более, что у всякого литератора такие минуты случаются). Но у меня есть определенная точка зрения на то, что считать профессией. Если человек посвящает все свое рабочее время какому-то делу, и дело это его кормит, — он имеет полное право считать себя профессионалом.
С двадцати двух лет я кормлюсь сочинительством, отдавая ему все время, следовательно, я — писатель. Плохой или хороший, — не суть важно; это мое занятие, которым добываю своей семье пропитание.
– ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ-«ПРОФИ» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛА — ДЕВИЗОМ «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ», ПОЛУЧЕНИЕМ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ, УМЕНИЕМ ПРОЖИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГОНОРАРЫ?
— Да нет, конечно же, вовсе не этим. Исключительно качеством работы, мастеровой хваткой. У профессионала безукоризненно отлажена связка: глаза-мысль-рука. Помните, Чехов уверял, что может написать рассказ о чем угодно — о чернильнице, на которую упал взгляд?
Любой жизненный материал содержит в себе саморазвивающееся художественное зерно, которое «произрастить» может только мастер. Как хороший садовник, скупым и точным движением он отсечет секатором слабые боковые ветви и пустит ствол повествования расти ввысь.
– ПИСАТЕЛЯ ИНОГДА СРАВНИВАЮТ С ЭКСТРАСЕНСОМ: ТОННЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ — ЛЮДЯМ, А ЧТО — СЕБЕ? НЕ ОСТАЕТСЯ ЛИ ОЩУЩЕНИЕ ПУСТОТЫ, НЕВОСПОЛНЕННОСТИ ДУШЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА? НЕ СЛИШКОМ ЛИ ДОРОГА ЦЕНА ОБНАЖЕНИЯ ДУШИ?
— Во-первых, профессия писателя — отнюдь не всегда «обнажение души»; это, скорее, строительство своего пространства; вообще, творчество, это, конечно, использование и своего жизненного опыта, но оставаться перед читателем в нижнем белье… это выбирает далеко не всякий художник, а если уж выбирает, то это такое белье, что — как говорила моя бабушка — «есть на что посмотреть, и есть что пощупать».
Во-вторых, каждый из нас, и не только писатель, всегда платит за все валютой собственной жизни: за счастье, за творчество, за любовь, за увлечения… Боюсь, то самое ощущение пустоты, душевной невосполненности, о которых вы говорите, возникают время от времени у любого человека. У писателя же есть преимущество: он «страж времени», в его власти — запечатлеть миг, день, сценку, разговор, сильное переживание, прошлогоднее цветение жимолости под балконом — то самое «остановись, мгновенье!» Так что, мы, полководцы слов и фраз, наоборот, в более выгодном положении: у нас, помимо груза нашей собственной жизни, есть еще «дополнительный вес», разрешенный небесной таможней.

– КАКИМ БЫ ЖАНРОВО И СТИЛИСТИЧЕСКИ РАЗНООБРАЗНЫМ НИ БЫЛО ТВОРЧЕСТВО ПИСАТЕЛЯ, ОН ВСЕ ЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАБОРОМ ПРИЕМОВ, СУММИРУЯ КОТОРЫЕ, КРИТИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ГОВОРЯТ О СТИЛЕ ТОГО ИЛИ ДРУГОГО МАСТЕРА. ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ?
— С тем, что, взламывая этот мир, каждый писатель пользуется своими личными отмычками? Разумеется.
Виктор Славкин мне рассказывал, что в конце семидесятых годов прошлого уже века некий старый еврей, ремесленник-драматург, учил его, как писать пьесы:
— Витенька, — говорил он со скептической миной на лице, — пьесы писать очень просто! Что такое пьеса? Это: завьязка-кульминатия-развьязка — всё!!!
И, знаете, до известной степени эта схема подходит любому жанру. Ведь если вдуматься: любое произведение, хочешь-не хочешь, должно начинаться с некой расстановки героев и событий, затем эти силы взаимодействуют до абсолютного осуществления и исчерпания всех мотивов данного материала. После чего автор должен как-то выкручиваться из ситуации. Помните чеховское: «в финале герой либо женись, либо застрелись» — и это та ужасная, и совсем не смешная правда, с которой писатели вот уже много веков ничего не могут поделать. Между нами говоря, ведь и сюжетов в литературе — всего тридцать шесть. Не помню, кто из великих жизнь положил на то, чтобы изобрести тридцать седьмой сюжет, но ему это не удалось.
Совсем иное дело — байка! Она рождается из ничего, выскакивает, как черт из табакерки и содержит в себе капсулу спонтанного сюжета, для воплощения которого никакие «приемы» не нужны.
Несколько раз я сама бывала свидетелем рождения байки.
Картинка по теме:
Однажды, году в девяносто седьмом, я оказалась с выступлением в Берлине. В те же дни там выступали писатели и журналисты, такая бригада-десант газеты «Московские новости», в те годы едва ли не самой популярной. В этой бригаде были Виктор Шендерович и Юрий Рост, известные журналист и фотохудожник. Мы встретились на приеме в «Русском доме», и, прогуливаясь по залу с бокалами в руках, разговорились.
— Юра, — сказала я, — помню один фотопортрет вашей работы: того грузинского актера, что играл в сериале по роману «Дата Туташхия». У него еще такое, виртуозное для языка имя — Отар Мегвинатухуцеси… Отличный портрет: он стоит, небрежно опершись на невысокую коринфскую колонну — в ослепительно белой сорочке, во фраке, в бабочке, в цилиндре и… босой! И такие у него синие-синие глаза…
Юрий покивал:
— Да, да… А вы знаете, что он снялся в фильме по Библии?
— О! Кого играл? Христа?
— Да нет, просто они на «Грузия-фильм» сняли ленту по мотивам библейских сюжетов, но все — на грузинский лад.
— Что это значит? — удивилась я.
— Да просто: если в Библии говорится о пастухе, то в кадре мы видим грузинского пастуха, а вокруг по грузинским холмам гуляют грузинские овечки. Если речь идет о дровосеке, то на экране — идет грузинский дровосек, несет на плече вязанку грузинских дров. Если притча о сыроваре — в кадре мы видим грузина в сванетке, перед которым на доске разложены грузинские сыры…
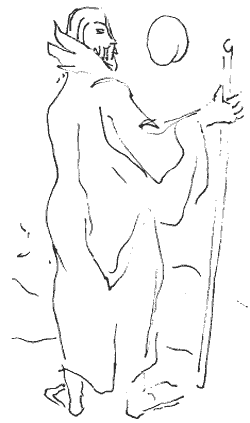
— Юра, минутку… — уточнила я. — Но распинают-то, все-таки, евреи?
Рост запнулся на мгновение, и быстро проговорил:
— Грузинские евреи!
И мы с Шендеровичем одновременно расхохотались. Я поняла, что родилась байка, и с тех пор везде ее рассказываю.
И, между прочим, еще одна трогательная история о Библии на грузинский лад.
Моя подруга родилась в Тбилиси и провела там все детство. Родители наняли для девочки няньку, старую красивую грузинскую женщину из какого-то села. И вот, каждый вечер, укладывая свою трехлетнюю подопечную спать, няня рассказывала ей сказку. В комнате стояла полнейшая тишина, только из-за двери ровно и глухо-торжественно звучал голос старой грузинки.
Однажды отец девочки, заинтригованный такой необычной кротостью своей непоседливой дочки, подкрался к дверям — послушать, что ж это за сказки такие.
И услышал:
— И та-агда Иисус Христос ударил посохом, рассек воды Черного моря, чтобы грузины пра-ашли по дну и вышли на берег прекрасной Грузии!

– ГДЕ-ТО ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ — ЭТО ПЛЮШКИН, КОТОРЫЙ ПОДБИРАЕТ ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ.
— Подбирает, улавливает, подглядывает, унюхивает, крадет у коллег… и делает все своим. Все мое: к чему наклонилась, что подобрала, что увидела, за чем потянулась, — все мое, если это художественно переработано, пропущено через все фильтры литературного дарования, самые мощнейшие фильтры, и воплощено в художественную реальность…
Писатель — уникальный архивариус, страж времени, странный персонаж, — в его котомке фасоны одежды, марки машин, блеск жестяной крыши сарая, смятая салфетка с мимолетным адресом, едва подсохшая слеза на скуле хохочущей девушки, лепнина балтийских облаков… И когда из всего этого барахлишка вдруг оживет и зашевелится кусочек времени, отрезок эпохи… вот уж ликование, вот радость!
– А МОЖНО ПРИМЕР?
— Ну-у… скажем, однажды я невольно подслушала разговор мужчины и женщины за соседним столиком в кофейне. Разговор велся на повышенных тонах — обоим было все труднее себя сдерживать. Из реплик постепенно выяснялось, что это — супруги, прожившие двадцать семь лет. И вот теперь муж уходит к другой женщине, даже не моложе, не красивее… просто — к другой. И его жена, из последних сил пытаясь оставаться в рамках «публичного приличия», все пыталась выяснить: чем взяла соперница.
— Ну что, — спрашивала она в пятый раз с горечью, — что тебя в ней привлекло?
— Она сделала из меня человека! — наконец, в сердцах выпалил муж.
— Что это значит? — с оторопевшим лицом спросила жена.
— Она многому меня научила!
— Ну, чему, чему она тебя научила? — чуть ли не выкрикнула женщина. — Например?!
— Например, она вывела у меня перхоть!
Смешно? Конечно, смешно, если не думать о том, что оба страдают. Но этого недостаточно для читательского сопереживания. Это просто диалог. Кому-то оба покажутся нелепыми, кто-то посочувствует женщине, кто-то — мужчине… И только писатель властен придать этой мгновенной сценке объем, причем, какой захочет — трагический или комический. В зависимости от обстоятельств. Например, если читатель узнает, что мужчина-то тяжело болен, и диагноз его известен только жене, которая уговорила онколога пока не сообщать больному приговор… Или, наоборот, больна та женщина, разлучница, и он это знает… Или никто не болен, но…

– Я ВИЖУ, ПИСАТЕЛЬ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ?
— Ну что вы, какая это работа. Это ежеминутная гимнастика воображения по любому поводу. Мгновенные творческие импульсы на малейшие раздражители реального мира. Неуловимые приказы мозга, в вечной засаде стерегущего «добычу».
– А ВЫ ЗАПОМИНАЕТЕ ТАКИЕ СЦЕНКИ, ИЛИ ЗАПИСЫВАЕТЕ? И КАК ОКРУЖАЮЩИЕ ОТНОСЯТСЯ К ТАКОМУ ФИКСИРОВАНИЮ ИХ СЛОВ, ИХ ЖИЗНИ — БУКВАЛЬНО НА ИХ ГЛАЗАХ?
— Нет, я пытаюсь, мучительно пытаюсь запоминать, хотя надо уже плюнуть на все приличия. Память-то с возрастом не молодеет. Помните, Толстой писал в дневнике: «Старею. Путаю имена сыновей. Не важно! Все — дикие».

Так вот, я еще стараюсь оставаться в рамках светского общения. Игорь Губерман, у которого в кармане всегда блокнотик и карандаш, рассказывал мне, что, услышав или увидев что-то ценное, немедленно отлучается в туалет, и там, присев на краешек унитаза, аккуратно все заносит в блокнотик. И ведь это — человек, который и сам чуть ли не ежеминутно извергает афоризмы и каламбуры, которому, казалось бы, можно и побрезговать оброненной кем-то фразой… Но вечный хищный тонус охотника за скальпами… И ведь знаете, надо ж еще приличную мину соблюсти.
Картинка по теме:
Недавно я заскочила к своему врачу — выписать рецепт. В приемной передо мной уже сидят две пожилые дамы, и в кабинете, судя по голосам — еще одна. Причем, кабинет от приемной отделяет тонкая стенка, так что врачебная тайна отдыхает. А если еще учесть, что к нашему «русскому» доктору записываются в основном «русские» пациенты… можешь быть уверен, что весь городок скоро будет в курсе всех твоих немочей.
Короче, пристраиваюсь я в очередь, а за стенкой, между тем, идет беседа врача с пациенткой:
— Доктор, выпишите мне яду!
— Яне выписываю ядов, у меня другая профессия.
— Нет, выпишите мне яду, я не буду больше жить с такой болью в колене!!!
— Так, хорошо, яду. Что еще?
— И лекарства на три месяца…
В эти же мгновения другое мое ухо фиксирует неспешную беседу тех двух дам, которые сидят в очереди передо мною:
— Вы слышали, у Гуревича жена умерла. Бедный, он так страдает… На нем просто нет лица!
— Ай, оставьте, на нем есть лицо! На нем нет чистой рубашки. Ну, ничего: вот она умерла, вот он ее похоронил, скоро женится, и на нем будет лицо, и на нем будет чистая рубашка!
Наконец, из кабинета выходит любительница ядов, и входит следующая пациентка. Эта как раз к лекарственным препаратам относится с подозрением:
— Доктор… вы мне сказали пить две таблетки: красненькую и желтенькую.
— Да-да. Одну вы принимаете до еды, другую — после.
— Доктор… я как раз хотела спросить: можно я буду принимать только красненькую?
— Да что вы, это разные лекарства от разных болезней! Будьте любезны — одну до еды, другую — после!
— Знаете, доктор… тогда я буду принимать только желтенькую…
В кабинете наступает зловещая тишина, как перед взрывом. Наконец, вскипающий голос доктора:
– Послушайте: Фишер и Фридман — это одно и то же?!
Снова тишина, озадаченная…
— А я с ними не знакома… — наконец, искренне отвечает дама.
И я, закусив губу, сижу с каменным лицом, чтобы, выйдя из кабинета врача, тут же записать на обороте рецепта не только «слова песни», но и интонацию — что не менее важно.
— ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ОБУЧИТЬ ПИСАТЕЛЬСКОМУ МАСТЕРСТВУ?— Нет, конечно. Это все равно, что учить ребенка ходить, объясняя — какой ногой и как ступать. Но образовать его, обучить каким-то расхожим приемам ремесла — можно вполне… Скажем, погрузить в среду, которая отшлифует дарование…
Картинка по теме:
Году в восемьдесят пятом мы с Борисом оказались в Доме творчества писателей в Гаграх. Познакомились там с трогательным старичком, не помню, как его звали, — скажем, Степан Ильич. Оказалось, что Степана Ильича только три года назад приняли в Союз писателей. А до этого он всю жизнь был замдиректора по хозяйственной части Дома творчества «Переделкино». И всю жизнь писал стихи, допекая известных писателей, постояльцев «Переделкино», просьбами прочитать и «дать свою оценку».
Говорил он размеренно, степенно, таким эпическим зачином:
— Да-а… У нас каждый год поэт Луговой живал, по два, по три месяца… Да-а… И я однажды решил ему стихи показать, попросил нашего директора — они с Луговым были приятелями, — чтобы составил протекцию. Тот все выяснил, договорился, и сказал мне:
— По вечерам Луговой медитирует. Вот как увидишь вечером, что свет у него зажегся, — выжди часа два, потом иди… Да-а… Я так и сделал… Поднялся по лестнице, постучал… услышал: «Войдите!»… Открыл дверь и вошел. Луговой сидел на полу, в позе лотоса. Принял меня приветливо, но подниматься не стал. Взял тетрадку с моими стихами… глазами по строчкам побежал, кивал, кивал… Что-то хвалил… Да-а… Одну строку только раскритиковал. Там у меня такое слово было — «стезя». Он ногтем эту строку отчеркнул и сказал: «„Стезю“ — к ебене матери!»
Между прочим, этот Степан Ильич потом и в Литературный институт поступил, в семинар Михаила Светлова. Рассказывал, что на первом занятии Светлов велел каждому студенту-новичку прочесть по одному своему стихотворению. Пока ребятки завывали, Михаил Аркадьевич сидел, дремал… Когда отчитал свои вирши последний студент, Светлов открыл глаза и сказал: «Ну, поэтов из вас не выйдет, а стихотворцев я из вас сделаю. Стоить это будет недорого: бутылку водки».
— ПОХОЖЕ, ТЕМА «СВЕТЛОВ И ВОЗЛИЯНИЯ» НЕИСЧЕРПАЕМА. ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МНОГИЕ ИСТОРИИ НА ЭТУ ТЕМУ ВОЗНИКЛИ УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОЭТА?
— А это неважно. Кристаллизация мифа — дело обычное в том, что касается биографии знаменитых людей. Процесс активизируется именно после того, как человек умирает. Ведь, если вдуматься, на всем протяжении истории культуры мы имеем дело с мифами. Они возникают при жизни творца (или сразу с его смертью), отвердевают, обрастают деталями, служат основой для творчества более поздних поколений творцов. Возьмите заведомо сомнительную легенду о Моцарте и Сальери. Сколько споров она породила. Но и гениальную пьесу Пушкина — тоже.
Кстати, о Сальери, Моцарте и… опять же, Михаиле Светлове. Возможно, очередная байка. Возможно, миф. Светлова обсуждали на заседании бытовой комиссии Союза писателей, ругали за пьянство. Тот слушал-слушал, наконец, вспылил:
— Да что вы пристали! — говорит. — Все великие пили!
— Кто — пил?
— Да все: Мусоргский пил, Глинка пил, Моцарт пил…
— Что?! Что Моцарт пил-то?! — возмутился кто-то из партийных функционеров.
— А что Сальери ему наливал, то и пил, — мгновенно ответил гениальный Светлов.
– ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ СОЗДАЕТ ПИСАТЕЛЬ, ЗАПОЛНЕНО ОСОБОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ. ЧАСТЕНЬКО ЭТА ЭНЕРГИЯ ПО КАКИМ-ТО СВОИМ ЗАКОНАМ ПЕРЕТЕКАЕТ В РЕАЛЬНОСТЬ. НЕМАЛО «ПИСАТЕЛЬСКИХ» СЛУЧАЕВ, КОГДА АВТОР ПРИДУМЫВАЕТ СЮЖЕТ, А ТОТ ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОБРУШИВАЕТСЯ НА НЕГО С ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЗЕР КАЛЬНОСТЬЮ. ТАК БЫЛО С ТЭФФИ, С РОМЕНОМ ГАРИ. С ВАМИ ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ?
— Я настолько хорошо знакома с этим потусторонним законом и настолько в него верю, что в каждое новое литературное плавание отправляюсь как сталкер — в зону, не зная, вернусь ли целой. Пока писала повесть «Высокая вода венецианцев», где смертельно больная героиня отправляется в Венецию, раза два добивалась у врачей тщательных обследований. А мама моя вообще плакала… Вроде, пока пронесло… не знаю — надолго ли… В этом отношении наша профессия, «создание параллельных реальностей» так же опасна, как опасно дело ликвидаторов. Все время ждешь определенной дозы облучения.

Но бывают и очень смешные «обратки». В романе «Синдикат» я описываю деятельность особого отдела некой гигантской организации, которая занимается розыском бесследно исчезнувших израилевых колен, угнанных когда-то в древности из страны Навуходоносором. Эти ушлые чиновники, дабы не потерять деньги американских спонсоров, «находят» потерянные колена то на Крайнем Севере, то в джунглях Амазонки… Словом, сочиняя, я повеселилась на славу, погуляла по просторам материков. И вот, не так давно, читаю в одной из авторитетных израильских газет, что некое племя «майори» в Новой Зеландии объявило себя потомками потерянных колен. Поди, после такого, еще что-то придумывай!
Картинка по теме:
Наш приятель, американский дипломат Илья Левин три года служил в Эритрее. Когда я впервые услышала название страны, я даже не поняла — о чем идет речь. Выяснилось, что это государство такое в Восточной Африке, на берегу Красного моря. Кстати, недалеко от нас.
Эритрейцы, рассказывал Илюша, люди темнокожие, однако с тонкими удлиненными лицами, выразительными чертами; встречаются и очень красивые экземпляры. Сами считают, что происходят от царицы Савской и царя Соломона. Исповедуют какую-то раннюю форму христианства, близкую к иудаизму. Носят сплошь и рядом библейские имена.
Например, девушку, которая ходила к Илюше убирать, звали Ерузалем. А садовника вообще простенько звали: Адонай (молитвенное обращение к Богу).
Илюша сфотографировал на улицах несколько лиц, поразительно напомнивших ему лица знакомых и друзей, только темнокожих.
— И что любопытно, — говорит он, — эритрейцы — расисты. Внимательно следят за родословной, предков знают до десятого колена. Презрительно относятся к неграм, так и называют их — «негры».
— Вот скоро будет у меня дочь выходить замуж, — рассказывает повар дипломатической миссии. — И что ж вы думаете — я внимательно изучу родословную жениха: нет ли там негров! — При этом устрашающе выкатывает на Илью белки глаз, раздувает черные ноздри…
В стране безобразничают обезьяны — приземистые крепкие бабуины. Они нападают на людей, особенно в поисках жратвы. Причем, действуют по двое, как бытовые хулиганы. Идет, скажем, человек из магазина с полными сумками еды. Па него нападают бабуины: один сзади хватает за волосы, оттягивает голову, другой жилистым кулаком бьет прямо в лицо. Человек от боли и неожиданности роняет сумки, те хватают их — и таковы. Прямо национальное бедствие.
В стране есть и европейские евреи. Раньше их было человек пятьсот, но когда к власти пришли коммунисты, за считанные месяцы все они страну покинули. Сохранилась синагога, напоминающая старые пражские синагоги — с благородной гулкой пустотой внутри. Сейчас за ней присматривают двое — дядя и племянник. Причем, когда один выезжает из страны, другой всегда остается — присмотреть за хозяйством.
Илюша долго не мог попасть в эту синагогу — она большую часть времени закрыта. Наконец, кто-то из американской миссии сказал, что завтра, в субботу, синагогу откроют, и требуется миньян — непременные десять человек для молитвы, — это была годовщина смерти то ли жены дяди, то ли матери племянника.
Илья пришел, собрался миньян: двое из американской миссии, один человек из британской, один — из французской. И рыбаки с израильского судна, стоявшего в порту.
Илья говорит:
— Я был очень напряжен, боялся своего невежества, боялся, что вызовут к Торе, а я ну такой неотесанный по части молитв! Однако напрасно боялся: самыми непросвещенными в религиозном культе оказались израильские рыбаки.
— Да? — удивилась я. — Почему?
— Потому что родом они были из Астрахани.
— ВАША ТОЧКА ЗРЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?
— О да, несравнимо! Ведь литературная реальность это и есть — настоящая идеальная жизнь, в том смысле, что «история» ее очищена от ненужных деталей, бездарно прожитого времени, лишних в твоей судьбе людей, и у героев нет ощущения, что они совершают совсем не те поступки, какие им положено совершить, — то, что нас постоянно преследует в жизни.
– СКАЖИТЕ, ДИНА, ЭТА ДАЖЕ НЕ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, А ЗНАКОМОСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ — ВАШ ФИРМЕННЫЙ ХОД? ОСОБЫЙ ПРИЕМ МАСТЕРА? ИЛИ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, И ВСЕ ТУТ?
— «Так получается, и все тут» — это несбыточная мечта юного графомана, такая грёза о Музе, которая явится, погладит по макушке, мимоходом наваяеттебе шедевр — «и все тут». В реальности это семнадцатый вариант диалога, от которого тебя с утра тошнит, и который завтра все равно переделываешь в восемнадцатый раз. Персонажи очень взыскательно относятся к тому, сколько времени ты им посвящаешь: «Ах, ты занималась моей походкой две минуты? Не пойду. Или пойду так, чтоб читатель не поверил ни единому шагу».
