Страница:
И выяснилось вдруг, что правда о 1812 годе, которую знает простой «дядя», бывалый солдат-артиллерист, – самая полная, чистая, несомненная. Высказанная в сильных, часто простонародных выражениях, она вместила в себя то, что испытал в России каждый – от мужика до генерала. Некоторые из таких оборотов стали неотделимы от живой народной памяти о той войне. Кто из нас не знает, к примеру, вот эти слова:
Но есть в лермонтовском «Бородино» одна тема, которая звучит тревожно и словно не относится к великому прошлому России. Она появляется дважды: в начале и в конце стихотворения:
«Бородино» – одно из самых просветленных созданий Лермонтова, как «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», стихотворения «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ветка Палестины», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). И немного найдется равных ему творцов, столь же чутко прозревающих Небесное на земле. Но вечная борьба света и тьмы – суть и смысл Бородинского сражения, Отечественной войны 1812 года, – с единственной в русской литературе силой прошла через сердце великого поэта. Часто в его стихах и прозе – тоже необыкновенно мощно – выплескивает себя опустошенная гордая тоскующая душа. В ней угасают нравственные законы, ей не светит больше нравственное утешение. И совершенно естественно она ищет своего кумира в Наполеоне. Лермонтов написал «Бородино», и он же в год своей гибели, 1841-й, пишет стихотворение «Последнее новоселье», посвященное перенесению праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. В этих стихах затронуты сложные современные проблемы. Но прежде всего в них прославляется высоко стоящий над толпой «великий человек».
Это не была только поэтическая прихоть Лермонтова, в очередной раз заглянувшего в пропасть. Поэт болезненно-чутко улавливал то, что носилось в воздухе. Наполеоновское своевольное начало снова тысячами путей покушалось на русский мир, но теперь уже как духовный, внутренний подлог, готовый оторвать сыновей России от ее созидательных ключей. В декабре 1825 года русские революционеры-дворяне подняли восстание против самодержавия, но были разгромлены. Среди них находились многие участники боев с Наполеоном. Сами они в большинстве своем, а также их будущие почитатели верили, что, изменив царю, они по-прежнему служили высоким идеалам Отечественной войны. Едва ли это было так на самом деле. Скорее, наоборот, вольно или невольно декабристы, вчерашние победители Наполеона, продолжили его дело, встали под знамена мировой тьмы. Человеческое своеволие, безрассудство, увы, не в последний раз готовились потрясти Россию…
Наполеоновская тема оказалась одной из самых живых, постоянных и в русской литературе XIX века. Романтическая поэзия с ее интересом ко всему необычному невольно обращалась порой к титанической фигуре поверженного владыки. Два прекрасных перевода из австрийского поэта Цедлица (Зейдлица), «Ночной смотр» Жуковского и «Воздушный корабль» Лермонтова, один – отстраненно-холодно, другой – с большим сочувствием перенесли в русскую литературу образ встающего по ночам из могилы призрака в треугольной шляпе.
И все же слова Карамзина: «Сей изверг, миру в казнь рожденный», – другие, не менее сильные оценки «маленького корсиканца», звучавшие как последняя истина в эпоху 1812 года, не утратили своего значения и для будущих поэтов. Лермонтовское «Последнее новоселье» оказалось на долгое время явлением по-своему единственным.
Исключительно точны и многообразны определения Наполеона и наполеоновской идеи, в разные годы данные Пушкиным. В 1821 году появилась написанная на смерть развенчанного императора пушкинская ода «Наполеон»: всеохватная, представляющая в сжатых образах-формулах целую эпоху. Здесь поэт попытался примирить ясную мысль о злодеяниях Наполеона и понятие о его всемирном величии. Он воздавал хвалу «великому человеку», который послужил орудием неземного промысла – своим безнравственным покушением указал русскому народу «высокий жребий». Но это был очевидный выход за пределы добра и зла, который не мог вполне успокоить нравственно чуткий гений Пушкина.
Народная память навсегда сохранила другие слова поэта – о «нетерпеливом герое», напрасно ожидающем
Тема наполеоновского самовластья и вечного торжества над ним правды и света вырастала в русской литературе в тему широкую, эпическую… С приближением новых уготованных стране испытаний начиналось время Тургенева и Льва Толстого, Лескова и Достоевского. Наследницей поэтического восторга 1812 года, то угасавшего, то горевшего вновь светло и чисто, становилась великая русская проза.
Александр Гулин
Гавриил Романович Державин

Гимн лироэпический на прогнание французов из Отечества
Ода на смерть фельдмаршала князя Смоленского
 апреля в 16-й день 1813 года
апреля в 16-й день 1813 года
Отколе пал внезапно гром
И молния покрылась паром?
Грохочет всюду гул кругом!
Каким гордится смерть ударом,
Что дрогнула твоя коса?
Давно ль, давно ль, страна преславна,
В блаженстве царствовала ты!
Где ж красота твоя державна?
Не тот и взор, не те черты!
Отколь там грусть, где дух великий?
Военный гений твой в слезах.
В густом тумане ратна сила,
Всеобща скорбь слышна в речах,
По лаврам ты идешь уныло!
Где сын твой, где бессмертный вождь?..
Откликнись, вождь наш несравненный!
Осиротел твой меч в ножна́х!
На твой лежащий шлем священный
Уже валя́тся ржа и прах!
Не спишь ли ты в сияньи славы?..
Проснись… Но что?.. Желанья тщетны!
Молчит весь мир на голос мой!
Ссеченный дуб наш кратколетний
Не тмит уже лучей собой,
И шум вокруг лишь в листьях мертвых.
Вот гения блестящий век!
Где ум? где дух? где блеск и сила?
И что такое человек,
Когда вся цель его – могила,
А сущность – горсть одна земли!
И свет и прах он здесь мгновенно,
Но скрытый сей небесный гром
Единым мигом в жизни тленной
Быть может вечности лучом.
О призрак света непостижный!..
1813
Князь Кутузов-Смоленской
Василий Васильевич Капнист

Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28-го дня
Никогда еще в русской поэзии не было такого человечного, берущего за душу изображения войны (и не только войны 1812 года). Способность рисовать человеческие переживания «изнутри» у Лермонтова просто изумительная! И мы, заражаясь чувствами старого солдата, переживаем вместе с ним все, что происходит на кровавом поле так, как будто это происходит с нами. И мы испытываем этот жар всенародного сопротивления, это сотрясение земли и солдатской груди, из которой рвется любящее Родину-мать, ожесточенное на всех ее врагов живое сердце. И мы готовы повторять лермонтовские строки:
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!
Дарование Лермонтова – волшебное, непостижимое. Для нас великая тайна, как сумел европейски образованный юноша, молодой барин настолько правдиво представить себе этого «дядю», проникнуть в душу своего народа!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою!
Но есть в лермонтовском «Бородино» одна тема, которая звучит тревожно и словно не относится к великому прошлому России. Она появляется дважды: в начале и в конце стихотворения:
В этих словах – не только старческое ворчание бывалого солдата. Точно так же и поэту казалось, что в людях его поколения уже нет героической прямоты и душевного величия героев 1812 года. Об этом он тоже написал немало горьких слов, в том числе исповедальных.
– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
«Бородино» – одно из самых просветленных созданий Лермонтова, как «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», стихотворения «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ветка Палестины», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). И немного найдется равных ему творцов, столь же чутко прозревающих Небесное на земле. Но вечная борьба света и тьмы – суть и смысл Бородинского сражения, Отечественной войны 1812 года, – с единственной в русской литературе силой прошла через сердце великого поэта. Часто в его стихах и прозе – тоже необыкновенно мощно – выплескивает себя опустошенная гордая тоскующая душа. В ней угасают нравственные законы, ей не светит больше нравственное утешение. И совершенно естественно она ищет своего кумира в Наполеоне. Лермонтов написал «Бородино», и он же в год своей гибели, 1841-й, пишет стихотворение «Последнее новоселье», посвященное перенесению праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. В этих стихах затронуты сложные современные проблемы. Но прежде всего в них прославляется высоко стоящий над толпой «великий человек».
Это не была только поэтическая прихоть Лермонтова, в очередной раз заглянувшего в пропасть. Поэт болезненно-чутко улавливал то, что носилось в воздухе. Наполеоновское своевольное начало снова тысячами путей покушалось на русский мир, но теперь уже как духовный, внутренний подлог, готовый оторвать сыновей России от ее созидательных ключей. В декабре 1825 года русские революционеры-дворяне подняли восстание против самодержавия, но были разгромлены. Среди них находились многие участники боев с Наполеоном. Сами они в большинстве своем, а также их будущие почитатели верили, что, изменив царю, они по-прежнему служили высоким идеалам Отечественной войны. Едва ли это было так на самом деле. Скорее, наоборот, вольно или невольно декабристы, вчерашние победители Наполеона, продолжили его дело, встали под знамена мировой тьмы. Человеческое своеволие, безрассудство, увы, не в последний раз готовились потрясти Россию…
Наполеоновская тема оказалась одной из самых живых, постоянных и в русской литературе XIX века. Романтическая поэзия с ее интересом ко всему необычному невольно обращалась порой к титанической фигуре поверженного владыки. Два прекрасных перевода из австрийского поэта Цедлица (Зейдлица), «Ночной смотр» Жуковского и «Воздушный корабль» Лермонтова, один – отстраненно-холодно, другой – с большим сочувствием перенесли в русскую литературу образ встающего по ночам из могилы призрака в треугольной шляпе.
И все же слова Карамзина: «Сей изверг, миру в казнь рожденный», – другие, не менее сильные оценки «маленького корсиканца», звучавшие как последняя истина в эпоху 1812 года, не утратили своего значения и для будущих поэтов. Лермонтовское «Последнее новоселье» оказалось на долгое время явлением по-своему единственным.
Исключительно точны и многообразны определения Наполеона и наполеоновской идеи, в разные годы данные Пушкиным. В 1821 году появилась написанная на смерть развенчанного императора пушкинская ода «Наполеон»: всеохватная, представляющая в сжатых образах-формулах целую эпоху. Здесь поэт попытался примирить ясную мысль о злодеяниях Наполеона и понятие о его всемирном величии. Он воздавал хвалу «великому человеку», который послужил орудием неземного промысла – своим безнравственным покушением указал русскому народу «высокий жребий». Но это был очевидный выход за пределы добра и зла, который не мог вполне успокоить нравственно чуткий гений Пушкина.
Народная память навсегда сохранила другие слова поэта – о «нетерпеливом герое», напрасно ожидающем
Эти слова в лирическом отступлении из седьмой главы романа «Евгений Онегин» внутренне связаны со всем строем произведения. Одаренная «сердечной полнотой», дорогая Пушкину Татьяна Ларина впервые встречается тут с Москвой – городом и началом всех начал для русского сердца. Именно в этой главе Татьяне уже открылся истинный облик Онегина – «модного тирана». В этой главе решится ее судьба. И хотя в будущем ей предстоят новые встречи с Онегиным – пораженный нравственным недугом, опустошенный герой уже бессилен перед верной своему долгу обреченной на страдания Татьяной, перед высокой жертвенной радостью русского мира, как бессилен Наполеон перед обреченной пожару Москвой. Безжизненное вселенское начало, завладевшее Онегиным, и на этот раз терпит, не может не потерпеть поражение.
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля…
Тема наполеоновского самовластья и вечного торжества над ним правды и света вырастала в русской литературе в тему широкую, эпическую… С приближением новых уготованных стране испытаний начиналось время Тургенева и Льва Толстого, Лескова и Достоевского. Наследницей поэтического восторга 1812 года, то угасавшего, то горевшего вновь светло и чисто, становилась великая русская проза.
Александр Гулин
Гавриил Романович Державин
1743–1816

Гимн лироэпический на прогнание французов из Отечества
Что ж в сердце чувствую тоску
И грусть в душе моей смертельну?
Разрушенну и обагренну,
Под пеплом в дыме зрю Москву.
О страх! о скорбь! Но свет с эмпира
Объял мой дух, – отблещет лира;
Восторг пленит, живит, бодрит
И тлен земной забыть велит.
«Пой! – мир гласит мне горний, дольний. —
И оправдай судьбы Господни».
Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змеевидны;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
Рогами солнце прут;
Отенетяя вкруг всю ошибами сферу,
Горящу в воздух прыщут серу,
Холмят дыханьем понт,
Льют ночь на горизонт
И движут ось всея вселенны.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они ревут, свистят и всех страшат;
А только агнец белорунный,
Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, —
Исчез змей-исполин!
Что се? Стихиев ли борьба?
Брань с светом тьмы? добра со злобой?
Иль так рожденныя утробой
Коварств крамола, лесть, татьба
В ад сверглись громом с князем бездны,
Которым трепетал свод звездный,
Лишались солнца их лучей?
От пламенных его очей
Багрели горы, рдело море,
И след его был плач, стон, горе!..
И Бог сорвал с него свой луч:
Тогда средь бурных, мрачных туч
Неистовой своей гордыни,
И домы благосты́ни
Смердя своими надписьми,
А алтари коньми
Он поругал. Тут все в нем чувства закричали,
Огнями надписи вспылали,
Исслали храмы стон —
И обезумел он.
Сим предузнав свое он горе,
Что царство про́йдет его вскоре,
Не мог уже в Москве своих снесть зол,
Решился убежать, зажег, ушел;
Вторым став Навходоносором,
Кровавы угли вкруг бросая взором,
Лил пену с челюстей, как вепрь,
И ринулся в мрак дебрь.
Но, Муза! тайнственный глагол
Оставь, – и возгреми трубою,
Как твердой грудью и душою
Росс, ополчась, на галла шел;
Как Запад с Севером сражался,
И гром о громы ударялся,
И молньи с молньями секлись,
И небо и земля тряслись
На Бородинском поле страшном,
На Малоярославском, Красном.

Там штык с штыком, рой с роем пуль,
Ядро с ядром и бомба с бомбой,
Жужжа, свища, сшибались с злобой,
И меч, о меч звуча, слал гул;
Там всадники, как вихри бурны,
Темнили пылью свод лазурный;
Там бледна смерть с косой в руках,
Скрежещуща, в единый мах
Полки, как класы, посекала
И трупы по полям бросала…
Какая честь из рода в род
России, слава незабвенна,
Что ей избавлена вселенна
От новых Тамерлана орд!
Цари Европы и народы!
Как бурны вы стремились воды,
Чтоб поглотить край росса весь;
Но буйные! где сами днесь?
Почто вы спяща льва будили,
Чтобы узнал свои он силы?
Почто вмешались в сонм вы злых
И, с нами разорвав союзы,
Грабителям поверглись в узы
И сами укрепили их?
Где царственны, народны правы?
Где, где германски честны нравы?
Друзья мы были вам всегда,
За вас сражались иногда;
Но вы, забыв и клятвы святы,
Ползли грызть тайно наши пяты.
О новый Вавилон, Париж!
О град мятежничьих жилищ,
Где бога нет, окроме злата,
Соблазнов и разврата;
Где самолюбью на алтарь
Всё, всё приносят в дар!
Быв чуждых царств не сыт, ты шел с Наполеоном,
Неизмеримым небосклоном
России повратить,
Полсвета огорстить.
Хоть прелестей твоих уставы
Давно уж чли венцом мы славы;
Но, не довольствуясь слепить умом,
Ты мнил попрать нас и мечом,
Забыв, что северные силы
Всегда на Запад ужас наносили…
О росс! о добльственный народ,
Единственный, великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью своих доброт!
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый,
По сердцу прост, по чувству добр,
Ты в счастьи тих, в несчастьи бодр,
Царю радушен, благороден,
В терпеньи лишь себе подобен.
Красуйся ж и ликуй, герой,
Что в нынешнем ты страшном бедстве
В себе и всем твоем наследстве
Дал свету дух твой знать прямой!
Лобзайте, родши, чад, их – чада,
Что в вас Отечеству ограда
Была взаимна от врагов;
Целуйте, девы, женихов,
Мужей супруги, сестры братьев,
Что был всяк тверд среди несчастья.
И вы, Гесперья, Альбион,
Внемлите: пал Наполеон!
Без нас вы рано или поздно,
Но понесли бы грозно,
Как все несут, его ярмо, —
Уж близилось оно;
Но мы, как холмы, быв внутрь жуплом наполненны,
На нас налегший облак черный
Сдержав на раменах,
Огнь дхнули, – пал он в прах.
С гиганта ребр в Версальи трески,
А с наших рук вам слышны плески:
То в общем, славном торжестве таком
Не должны ли и общих хвал венцом
Мы чтить героев превосходных,
Душою россов твердых, благородных?
О, как мне мил их взор, их слух!
Пленен мой ими дух!
И се, как въяве, вижу сон,
Ношуся вне пределов мира,
Где в голубых полях эфира
Витает во́ждей росских сонм.
Меж ими там в беседе райской
Рымни́кский, Таврский, Задунайский
Между собою говорят:
«О, как венец светлей стократ,
Что дан не царств за расширенье,
А за Отечества спасенье!
Мамай, Желковский, Карл путь свят
К бессмертью подали прямому
Петру, Пожарскому, Донскому;
Кутузову днесь – Бонапарт.
Доколь Москва, Непрядва и Полтава
Течь будут, их не у́мрет слава.
Как воин, что в бою не пал,
Еще хвал вечных не стяжал;
Так громок стран пусть покоритель,
Но лишь велик их свят спаситель».
По правде вечности лучей
Достойны войны наших дней.
Смоленский князь, вождь дальновидный,
Не зря на толк обидный,
Великий ум в себе являл,
Без крови поражал
И в бранной хитрости противника, без лести,
Превысил Фабия он в чести.
Витгенштейн легче бить
Умел, чем отходить
Средь самых пылких, бранных споров,
Быв смел, как лев, быстр, как Суворов.
Вождь не предзримый, гром, как с облаков,
Слетал на вражий стан, на тыл – Плато́в.
Но как исчислить всех героев,
Живых и падших с славою средь бо́ев?
Почтим Багратионов прах —
Он жив у нас в сердцах!
Се бранных подвигов венец!
И разность меж Багратионом
По смерти в чем с Наполеоном?
Не в чувстве ль праведных сердец?
Для них не больше ль знаменитый
Слезой, чем клятвами покрытый?
Так! мерил мерой кто какой,
И сам возмерен будет той.
Нам правда Божия явила,
Какая галлов казнь постигла.
О полный чудесами век!
О мира колесо превратно!
Давно ль страшилище ужасно
На нас со всей Европой тек!
Но где днесь до́бычи богаты?
Где мудрые вожди, тристаты?
Где гений, блещущий в лучах?
Не здесь ли им урок в ученье,
Чтоб царств не льститься на хищенье?
О, так! блаженство смертных в том,
Чтоб действовать всегда во всем
Лишь с справедливостью согласно,
Так мыслить беспристрастно,
Что мы чего себе хотим,
Того желать другим…
Отца Отечества несметны попеченья
Скорбей прогонят наших тени;
Художеств сонм, наук,
Торгов, лир громких звук.
Все возвратятся в их жилищи;
Свое и чуждо племя пищи
Придут, как под смоковницей, искать
И словом: быв градов всех русских мать,
Москва по-прежнему восстанет
Из пепла, зданьем велелепным станет,
Как феникс, снова процветать,
Венцом средь звезд блистать.
…И из страны Российской всей
Печаль и скорби изженутся,
В ней токи крови не прольются,
Не канут слезы из очей;
От солнца пахарь не сожжется,
От мраза бедный не согнется;
Сады и нивы плод дадут,
Моря чрез горы длань прострут,
Ключи с ключами сожурчатся,
По рощам песни огласятся.
Но солнце! мой вечерний луч!
Уже за холмы синих туч
Спускаешься ты в темны бездны,
Твой тускнет блеск любезный
Среди лиловых мглистых зарь,
И мой уж гаснет жар;
Холодна старость – дух, у лиры – глас отъемлет,
Екатерины Муза дремлет:
То юного царя
Днесь вслед орлов паря,
Предшествующих благ виденья,
Что мною в день его рожденья
Предречено, достойно петь
Я не могу; младым певцам греметь
Мои вверяю ветхи струны…

1812–1813
И грусть в душе моей смертельну?
Разрушенну и обагренну,
Под пеплом в дыме зрю Москву.
О страх! о скорбь! Но свет с эмпира
Объял мой дух, – отблещет лира;
Восторг пленит, живит, бодрит
И тлен земной забыть велит.
«Пой! – мир гласит мне горний, дольний. —
И оправдай судьбы Господни».
Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змеевидны;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
Рогами солнце прут;
Отенетяя вкруг всю ошибами сферу,
Горящу в воздух прыщут серу,
Холмят дыханьем понт,
Льют ночь на горизонт
И движут ось всея вселенны.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они ревут, свистят и всех страшат;
А только агнец белорунный,
Смиренный, кроткий, но челоперунный,
Восстал на Севере один, —
Исчез змей-исполин!
Что се? Стихиев ли борьба?
Брань с светом тьмы? добра со злобой?
Иль так рожденныя утробой
Коварств крамола, лесть, татьба
В ад сверглись громом с князем бездны,
Которым трепетал свод звездный,
Лишались солнца их лучей?
От пламенных его очей
Багрели горы, рдело море,
И след его был плач, стон, горе!..
И Бог сорвал с него свой луч:
Тогда средь бурных, мрачных туч
Неистовой своей гордыни,
И домы благосты́ни
Смердя своими надписьми,
А алтари коньми
Он поругал. Тут все в нем чувства закричали,
Огнями надписи вспылали,
Исслали храмы стон —
И обезумел он.
Сим предузнав свое он горе,
Что царство про́йдет его вскоре,
Не мог уже в Москве своих снесть зол,
Решился убежать, зажег, ушел;
Вторым став Навходоносором,
Кровавы угли вкруг бросая взором,
Лил пену с челюстей, как вепрь,
И ринулся в мрак дебрь.
Но, Муза! тайнственный глагол
Оставь, – и возгреми трубою,
Как твердой грудью и душою
Росс, ополчась, на галла шел;
Как Запад с Севером сражался,
И гром о громы ударялся,
И молньи с молньями секлись,
И небо и земля тряслись
На Бородинском поле страшном,
На Малоярославском, Красном.

Там штык с штыком, рой с роем пуль,
Ядро с ядром и бомба с бомбой,
Жужжа, свища, сшибались с злобой,
И меч, о меч звуча, слал гул;
Там всадники, как вихри бурны,
Темнили пылью свод лазурный;
Там бледна смерть с косой в руках,
Скрежещуща, в единый мах
Полки, как класы, посекала
И трупы по полям бросала…
Какая честь из рода в род
России, слава незабвенна,
Что ей избавлена вселенна
От новых Тамерлана орд!
Цари Европы и народы!
Как бурны вы стремились воды,
Чтоб поглотить край росса весь;
Но буйные! где сами днесь?
Почто вы спяща льва будили,
Чтобы узнал свои он силы?
Почто вмешались в сонм вы злых
И, с нами разорвав союзы,
Грабителям поверглись в узы
И сами укрепили их?
Где царственны, народны правы?
Где, где германски честны нравы?
Друзья мы были вам всегда,
За вас сражались иногда;
Но вы, забыв и клятвы святы,
Ползли грызть тайно наши пяты.
О новый Вавилон, Париж!
О град мятежничьих жилищ,
Где бога нет, окроме злата,
Соблазнов и разврата;
Где самолюбью на алтарь
Всё, всё приносят в дар!
Быв чуждых царств не сыт, ты шел с Наполеоном,
Неизмеримым небосклоном
России повратить,
Полсвета огорстить.
Хоть прелестей твоих уставы
Давно уж чли венцом мы славы;
Но, не довольствуясь слепить умом,
Ты мнил попрать нас и мечом,
Забыв, что северные силы
Всегда на Запад ужас наносили…
О росс! о добльственный народ,
Единственный, великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью своих доброт!
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый,
По сердцу прост, по чувству добр,
Ты в счастьи тих, в несчастьи бодр,
Царю радушен, благороден,
В терпеньи лишь себе подобен.
Красуйся ж и ликуй, герой,
Что в нынешнем ты страшном бедстве
В себе и всем твоем наследстве
Дал свету дух твой знать прямой!
Лобзайте, родши, чад, их – чада,
Что в вас Отечеству ограда
Была взаимна от врагов;
Целуйте, девы, женихов,
Мужей супруги, сестры братьев,
Что был всяк тверд среди несчастья.
И вы, Гесперья, Альбион,
Внемлите: пал Наполеон!
Без нас вы рано или поздно,
Но понесли бы грозно,
Как все несут, его ярмо, —
Уж близилось оно;
Но мы, как холмы, быв внутрь жуплом наполненны,
На нас налегший облак черный
Сдержав на раменах,
Огнь дхнули, – пал он в прах.
С гиганта ребр в Версальи трески,
А с наших рук вам слышны плески:
То в общем, славном торжестве таком
Не должны ли и общих хвал венцом
Мы чтить героев превосходных,
Душою россов твердых, благородных?
О, как мне мил их взор, их слух!
Пленен мой ими дух!
И се, как въяве, вижу сон,
Ношуся вне пределов мира,
Где в голубых полях эфира
Витает во́ждей росских сонм.
Меж ими там в беседе райской
Рымни́кский, Таврский, Задунайский
Между собою говорят:
«О, как венец светлей стократ,
Что дан не царств за расширенье,
А за Отечества спасенье!
Мамай, Желковский, Карл путь свят
К бессмертью подали прямому
Петру, Пожарскому, Донскому;
Кутузову днесь – Бонапарт.
Доколь Москва, Непрядва и Полтава
Течь будут, их не у́мрет слава.
Как воин, что в бою не пал,
Еще хвал вечных не стяжал;
Так громок стран пусть покоритель,
Но лишь велик их свят спаситель».
По правде вечности лучей
Достойны войны наших дней.
Смоленский князь, вождь дальновидный,
Не зря на толк обидный,
Великий ум в себе являл,
Без крови поражал
И в бранной хитрости противника, без лести,
Превысил Фабия он в чести.
Витгенштейн легче бить
Умел, чем отходить
Средь самых пылких, бранных споров,
Быв смел, как лев, быстр, как Суворов.
Вождь не предзримый, гром, как с облаков,
Слетал на вражий стан, на тыл – Плато́в.
Но как исчислить всех героев,
Живых и падших с славою средь бо́ев?
Почтим Багратионов прах —
Он жив у нас в сердцах!
Се бранных подвигов венец!
И разность меж Багратионом
По смерти в чем с Наполеоном?
Не в чувстве ль праведных сердец?
Для них не больше ль знаменитый
Слезой, чем клятвами покрытый?
Так! мерил мерой кто какой,
И сам возмерен будет той.
Нам правда Божия явила,
Какая галлов казнь постигла.
О полный чудесами век!
О мира колесо превратно!
Давно ль страшилище ужасно
На нас со всей Европой тек!
Но где днесь до́бычи богаты?
Где мудрые вожди, тристаты?
Где гений, блещущий в лучах?
Не здесь ли им урок в ученье,
Чтоб царств не льститься на хищенье?
О, так! блаженство смертных в том,
Чтоб действовать всегда во всем
Лишь с справедливостью согласно,
Так мыслить беспристрастно,
Что мы чего себе хотим,
Того желать другим…
Отца Отечества несметны попеченья
Скорбей прогонят наших тени;
Художеств сонм, наук,
Торгов, лир громких звук.
Все возвратятся в их жилищи;
Свое и чуждо племя пищи
Придут, как под смоковницей, искать
И словом: быв градов всех русских мать,
Москва по-прежнему восстанет
Из пепла, зданьем велелепным станет,
Как феникс, снова процветать,
Венцом средь звезд блистать.
…И из страны Российской всей
Печаль и скорби изженутся,
В ней токи крови не прольются,
Не канут слезы из очей;
От солнца пахарь не сожжется,
От мраза бедный не согнется;
Сады и нивы плод дадут,
Моря чрез горы длань прострут,
Ключи с ключами сожурчатся,
По рощам песни огласятся.
Но солнце! мой вечерний луч!
Уже за холмы синих туч
Спускаешься ты в темны бездны,
Твой тускнет блеск любезный
Среди лиловых мглистых зарь,
И мой уж гаснет жар;
Холодна старость – дух, у лиры – глас отъемлет,
Екатерины Муза дремлет:
То юного царя
Днесь вслед орлов паря,
Предшествующих благ виденья,
Что мною в день его рожденья
Предречено, достойно петь
Я не могу; младым певцам греметь
Мои вверяю ветхи струны…

1812–1813
Ода на смерть фельдмаршала князя Смоленского

Отколе пал внезапно гром
И молния покрылась паром?
Грохочет всюду гул кругом!
Каким гордится смерть ударом,
Что дрогнула твоя коса?
Давно ль, давно ль, страна преславна,
В блаженстве царствовала ты!
Где ж красота твоя державна?
Не тот и взор, не те черты!
Отколь там грусть, где дух великий?
Военный гений твой в слезах.
В густом тумане ратна сила,
Всеобща скорбь слышна в речах,
По лаврам ты идешь уныло!
Где сын твой, где бессмертный вождь?..
Откликнись, вождь наш несравненный!
Осиротел твой меч в ножна́х!
На твой лежащий шлем священный
Уже валя́тся ржа и прах!
Не спишь ли ты в сияньи славы?..
Проснись… Но что?.. Желанья тщетны!
Молчит весь мир на голос мой!
Ссеченный дуб наш кратколетний
Не тмит уже лучей собой,
И шум вокруг лишь в листьях мертвых.
Вот гения блестящий век!
Где ум? где дух? где блеск и сила?
И что такое человек,
Когда вся цель его – могила,
А сущность – горсть одна земли!
И свет и прах он здесь мгновенно,
Но скрытый сей небесный гром
Единым мигом в жизни тленной
Быть может вечности лучом.
О призрак света непостижный!..
1813
Князь Кутузов-Смоленской
Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Язы́ки одолел сгуще́нны,
Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы предвечны
Ум дали – троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Усилить Александров меч;
Злодеев истребить враждебных,
Обресть бессмертный лавр побед,
В вратах Европы растворе́нных
Смыть кровью злобы дерзкий след;
Москву освободить попранну,
Отечество спасти от зол,
Лезть дале путь пресечь тирану,
Един основывать престол, —
Не умолчит потомств глагол!
Се мать твоя, Россия, – зри, —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!

<1813(?)>
Наполеона посрамил,
Язы́ки одолел сгуще́нны,
Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы предвечны
Ум дали – троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Усилить Александров меч;
Злодеев истребить враждебных,
Обресть бессмертный лавр побед,
В вратах Европы растворе́нных
Смыть кровью злобы дерзкий след;
Москву освободить попранну,
Отечество спасти от зол,
Лезть дале путь пресечь тирану,
Един основывать престол, —
Не умолчит потомств глагол!
Се мать твоя, Россия, – зри, —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!

<1813(?)>
Василий Васильевич Капнист
1758–1823

Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28-го дня
Как грохот грома удаленна,
Несется горестна молва:
«Среди развалин погребенна,
Покрылась пепелом Москва!
Дымятся теремы, святыни;
До облак взорваны твердыни,
Ниспадши грудами, лежат,
И кровью обагрились реки.
Погиб, увы! погиб навеки
Первопрестольный россов град!»
Уже под низменный мой кров уедине́нный
Домчался сей плачевный слух.
Он поразил меня, как в сердце нож вонзе́нный
И ужасом потряс мой дух.
Застыла кровь; чело подернул пот холодный.
Как древоточный червь голодный,
Неутолима скорбь проникла томну грудь.
Унынье душу омрачило,
На перси жернов навалило
И пересе́кло вздохам путь.
С поры той, с той поры злосчастной
Повсюду горесть лишь мне спутницей была
И пред очами ежечасно
Картину бедств, и слез, и ужасов несла.
Постылы дня лучи мне стали.
Везде разящие предметы зря печали,
От света отвращал я зрак.
Делящих скорбь друзей, детей, жены чуждаясь,
Как вран ночный в лесах скитаясь,
Душевный в них сугубил мрак.
В едину ночь, когда свирепо ветр ревущий
Клонил над мной высокий лес
И вихрь, ряд черных туч от севера несущий,
Обвесил мраком свод небес,
На берег Псла, волной ярящейся подмытый,
Под явор, мхом седым покрытый,
Тоскою утомлен, возлег я отдохнуть;
Тут в горести едва забылся,
Внезапу легкий сон спустился
И вежды мне спешил сомкнуть.
Мечты предстали вдруг: казалося, средь нощи
Сидел я на краю огнем пожранной рощи;
Вблизи развалины пустого града зрел:
Там храма пышного разбитый свод горел,
Под пеплом тлелися огромные чертоги.
Тут стен отломками завалены дороги.
Медяны башен там, свалясь, верхи лежат
И кровы к облакам взносившихся палат.
Падущих зданий тут зубчаты видны стены;
Здесь теремы к земле поникли, разгромленны,
Могилы жупеля и пепла кажут там
Обитель иноков и их смиренный храм.
Нагие горны здесь до облаков касались,
Как сонм недвижимых гигантов представлялись,
Которых опалил молниеносный гром.
На остовы их там слякался гордый дом.
Тут кровля на шалаш низрынулась железна.
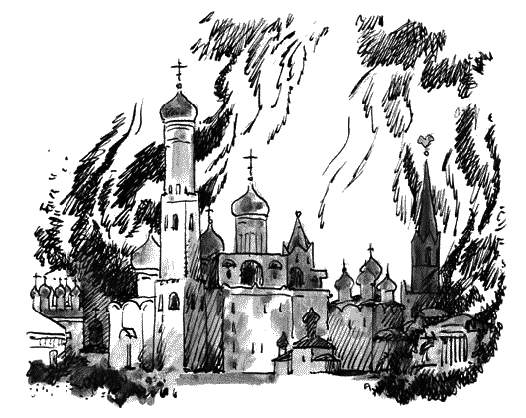
Хранилища, куда промышленность полезна,
Любостяжанья дщерь, а трудолюбья мать,
Избытки дальних стран обыкла собирать,
Стоят опалые, отверсты, опустелы.
Голодны гложут псы здесь кости обгорелы;
На части бледный труп терзают там; а тут
Запекшуюся кровь на алтарях грызут.
Из окон, из дверей луч света не мелькает;
Под пеплом вспыхнув, огнь мгновенно потухает.
Над зданьем тлеющим куряся, только дым
Окрестность заражал зловонием своим.
И кучи сих костров, развалин сих громада
Гробницу пышного лишь представляли града.
Не слышался нигде народный вопль, ни клик;
Лишь вой привратных псов и хищных вранов крик
В сей мертвой ю́доли молчанье прерывали
И слабый жизни в ней остаток возвещали.
Толь страшным, горестным позорищем смущен,
Я сам сидел, как мертв, недвижим, изумлен.
Власы от ужаса на голове вздымались,
И вздохи тяжкие в груди моей спирались.
Безмолвну тишину потряс вдруг громкий треск,
И яркий озарил мои зеницы блеск.
Престрашен, с трепетом к нему я обратился;
И зрю: чертога кров до облак возносился:
Как вихрь из адского исторгся пламень дна;
И развалившаясь граненая стена
Открыла кремленски соборы златоглавы,
Столь памятные мне в дни торжества и славы!
О, какая горесть грудь мою пронзила,
Как узнал я древню русскую столицу,
Что главу над всеми царствами взносила
И, простря со скиптром мощную десницу,
Жребий стран решала сильных, отдаленных!
Как ее узнал я, предо мной лежащу,
На громаде пепла, среди сел возжженных,
Горесть ту несносну, сердце мне разящу,
Смертному неможно выразить словами!
Бледен, бездыханен, я упал на землю.
Слезы полилися быстрыми ручьями;
В исступленье руки к Небесам подъемлю
И, собрав остаток истощенной силы,
«Боже всемогущий! – возопил я гласно, —
Ах, почто не сшел я в мрак сырой могилы
Прежде сей минуты гибельной, злосчастной!
Где твоя пощада, Боже милосердый?
Где уставы правды, где любви залоги?
Как возмог ты град сей, в чистой вере твердый,
Осудить жестоко жребий несть столь строгий?»
Едва в неистовстве упрек,
Хулу на промысл я изрек,
Гора под мною потряслася.
Гром грянул, молний луч сверкнул,
Завыла буря, пыль взвилася,
Внутри холмов раздался гул,
Подвигнулись корнями рощи,
Разверзлась хлябь передо мной, —
И се из недр земли сырой
Поднялся призрак бледный, тощий.
Покрыв высоки рамена,
Первосвященническа риза,
Богато преиспещрена
От верха бисером до низа,
В алмазах, в яхонтах горя,
На нем блистала, как заря,
Чело покрыто митрой было,
Брада струилася до чресл.
Потупя долу взор унылый,
На пастырский склоняся жезл,
Стоял сей призрак сановитый.
Печалью вид его покрытый,
На коем слезный ток блистал,
Глубокое души стра данье,
Упреки и негодованье,
Смешенны с кротостью, казал.
Виденьем грозным пораженный,
Едва я очи мог сомкнуть,
Как мертвы, цепенели члены,
Трепещуща хладнела грудь,
Дыханье слабо в ней спирая,
Лежал я, страхом одержим.
Вдруг призрак, жезл ко мне склоняя,
Вещал так гласом гробовым:
«Продерзкий! Как ты смел хулу изречь на Бога?
Карающая нас его десница стро́га
Правдивые весы над миром держит сим
И гневом не тягчит безвинно нас своим.
Ты слёзны токи льешь над падшей сей столицей;
И я скорблю с тобой, увы! скорблю сторицей.
В другий я вижу раз столь строгий суд над ней:
Два века к вечности уж протекли с тех дней,
Как в пепле зрел ее, сарматами попранну;
И, чтоб уврачевать толь смертоносну рану,
Из бездны зол и бедств отечество известь,
На жертву не жалел и жизни я принесть.
Исполнил долг любви. Но и тогда, как ныне,
Не столь о гибельной жалел ее судьбине,
Как горько сетовал и слезы лил о том,
Что праведным она наказана судом.
Дерзай; пред правдой дай ответ о современных:
Падение они сих алтарей священных
Оплакивают все и горестно скорбят,
Что оскверненными, пустыми днесь их зрят;
Но часто ли они их сами посещали?
Не в сходбища ль кощунств дом Божий превращали,
Соблазн беседою, неверием скверня?
Служители его, обету изменя,
Не о спасенье душ – о мзде своей радели,
Порока в знатности изобличать не смели
И превратили, дав собой тому пример,
В злоподражание терпенье чуждых вер;
Молитва, праздник, пост – теперь уж всё химеры,
И, с внешности начав, зерно иссякло веры, —
На что ж безверному священны алтари?
Правдивый судия рек пламеню: «Пожри!»
И пламень их пожрал, – и, днесь дымяся, храмы
Зловерию курят зловонны фимиамы.
Но обратим наш взор. – Тут пал чертог суда:
Оплачь его, – но в нем весы держала мзда;
Неправдою закон гнетился подавле́нный.
Как бледны жесткие пова́пленные стены,
Несется горестна молва:
«Среди развалин погребенна,
Покрылась пепелом Москва!
Дымятся теремы, святыни;
До облак взорваны твердыни,
Ниспадши грудами, лежат,
И кровью обагрились реки.
Погиб, увы! погиб навеки
Первопрестольный россов град!»
Уже под низменный мой кров уедине́нный
Домчался сей плачевный слух.
Он поразил меня, как в сердце нож вонзе́нный
И ужасом потряс мой дух.
Застыла кровь; чело подернул пот холодный.
Как древоточный червь голодный,
Неутолима скорбь проникла томну грудь.
Унынье душу омрачило,
На перси жернов навалило
И пересе́кло вздохам путь.
С поры той, с той поры злосчастной
Повсюду горесть лишь мне спутницей была
И пред очами ежечасно
Картину бедств, и слез, и ужасов несла.
Постылы дня лучи мне стали.
Везде разящие предметы зря печали,
От света отвращал я зрак.
Делящих скорбь друзей, детей, жены чуждаясь,
Как вран ночный в лесах скитаясь,
Душевный в них сугубил мрак.
В едину ночь, когда свирепо ветр ревущий
Клонил над мной высокий лес
И вихрь, ряд черных туч от севера несущий,
Обвесил мраком свод небес,
На берег Псла, волной ярящейся подмытый,
Под явор, мхом седым покрытый,
Тоскою утомлен, возлег я отдохнуть;
Тут в горести едва забылся,
Внезапу легкий сон спустился
И вежды мне спешил сомкнуть.
Мечты предстали вдруг: казалося, средь нощи
Сидел я на краю огнем пожранной рощи;
Вблизи развалины пустого града зрел:
Там храма пышного разбитый свод горел,
Под пеплом тлелися огромные чертоги.
Тут стен отломками завалены дороги.
Медяны башен там, свалясь, верхи лежат
И кровы к облакам взносившихся палат.
Падущих зданий тут зубчаты видны стены;
Здесь теремы к земле поникли, разгромленны,
Могилы жупеля и пепла кажут там
Обитель иноков и их смиренный храм.
Нагие горны здесь до облаков касались,
Как сонм недвижимых гигантов представлялись,
Которых опалил молниеносный гром.
На остовы их там слякался гордый дом.
Тут кровля на шалаш низрынулась железна.
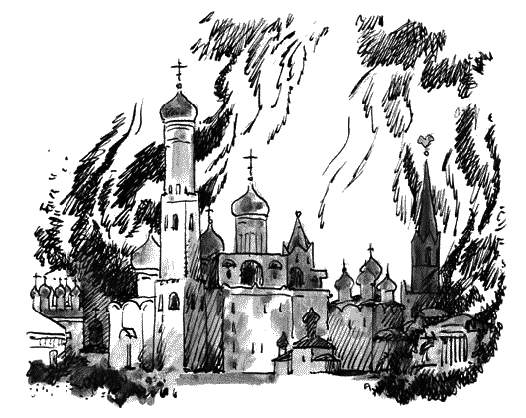
Хранилища, куда промышленность полезна,
Любостяжанья дщерь, а трудолюбья мать,
Избытки дальних стран обыкла собирать,
Стоят опалые, отверсты, опустелы.
Голодны гложут псы здесь кости обгорелы;
На части бледный труп терзают там; а тут
Запекшуюся кровь на алтарях грызут.
Из окон, из дверей луч света не мелькает;
Под пеплом вспыхнув, огнь мгновенно потухает.
Над зданьем тлеющим куряся, только дым
Окрестность заражал зловонием своим.
И кучи сих костров, развалин сих громада
Гробницу пышного лишь представляли града.
Не слышался нигде народный вопль, ни клик;
Лишь вой привратных псов и хищных вранов крик
В сей мертвой ю́доли молчанье прерывали
И слабый жизни в ней остаток возвещали.
Толь страшным, горестным позорищем смущен,
Я сам сидел, как мертв, недвижим, изумлен.
Власы от ужаса на голове вздымались,
И вздохи тяжкие в груди моей спирались.
Безмолвну тишину потряс вдруг громкий треск,
И яркий озарил мои зеницы блеск.
Престрашен, с трепетом к нему я обратился;
И зрю: чертога кров до облак возносился:
Как вихрь из адского исторгся пламень дна;
И развалившаясь граненая стена
Открыла кремленски соборы златоглавы,
Столь памятные мне в дни торжества и славы!
О, какая горесть грудь мою пронзила,
Как узнал я древню русскую столицу,
Что главу над всеми царствами взносила
И, простря со скиптром мощную десницу,
Жребий стран решала сильных, отдаленных!
Как ее узнал я, предо мной лежащу,
На громаде пепла, среди сел возжженных,
Горесть ту несносну, сердце мне разящу,
Смертному неможно выразить словами!
Бледен, бездыханен, я упал на землю.
Слезы полилися быстрыми ручьями;
В исступленье руки к Небесам подъемлю
И, собрав остаток истощенной силы,
«Боже всемогущий! – возопил я гласно, —
Ах, почто не сшел я в мрак сырой могилы
Прежде сей минуты гибельной, злосчастной!
Где твоя пощада, Боже милосердый?
Где уставы правды, где любви залоги?
Как возмог ты град сей, в чистой вере твердый,
Осудить жестоко жребий несть столь строгий?»
Едва в неистовстве упрек,
Хулу на промысл я изрек,
Гора под мною потряслася.
Гром грянул, молний луч сверкнул,
Завыла буря, пыль взвилася,
Внутри холмов раздался гул,
Подвигнулись корнями рощи,
Разверзлась хлябь передо мной, —
И се из недр земли сырой
Поднялся призрак бледный, тощий.
Покрыв высоки рамена,
Первосвященническа риза,
Богато преиспещрена
От верха бисером до низа,
В алмазах, в яхонтах горя,
На нем блистала, как заря,
Чело покрыто митрой было,
Брада струилася до чресл.
Потупя долу взор унылый,
На пастырский склоняся жезл,
Стоял сей призрак сановитый.
Печалью вид его покрытый,
На коем слезный ток блистал,
Глубокое души стра данье,
Упреки и негодованье,
Смешенны с кротостью, казал.
Виденьем грозным пораженный,
Едва я очи мог сомкнуть,
Как мертвы, цепенели члены,
Трепещуща хладнела грудь,
Дыханье слабо в ней спирая,
Лежал я, страхом одержим.
Вдруг призрак, жезл ко мне склоняя,
Вещал так гласом гробовым:
«Продерзкий! Как ты смел хулу изречь на Бога?
Карающая нас его десница стро́га
Правдивые весы над миром держит сим
И гневом не тягчит безвинно нас своим.
Ты слёзны токи льешь над падшей сей столицей;
И я скорблю с тобой, увы! скорблю сторицей.
В другий я вижу раз столь строгий суд над ней:
Два века к вечности уж протекли с тех дней,
Как в пепле зрел ее, сарматами попранну;
И, чтоб уврачевать толь смертоносну рану,
Из бездны зол и бедств отечество известь,
На жертву не жалел и жизни я принесть.
Исполнил долг любви. Но и тогда, как ныне,
Не столь о гибельной жалел ее судьбине,
Как горько сетовал и слезы лил о том,
Что праведным она наказана судом.
Дерзай; пред правдой дай ответ о современных:
Падение они сих алтарей священных
Оплакивают все и горестно скорбят,
Что оскверненными, пустыми днесь их зрят;
Но часто ли они их сами посещали?
Не в сходбища ль кощунств дом Божий превращали,
Соблазн беседою, неверием скверня?
Служители его, обету изменя,
Не о спасенье душ – о мзде своей радели,
Порока в знатности изобличать не смели
И превратили, дав собой тому пример,
В злоподражание терпенье чуждых вер;
Молитва, праздник, пост – теперь уж всё химеры,
И, с внешности начав, зерно иссякло веры, —
На что ж безверному священны алтари?
Правдивый судия рек пламеню: «Пожри!»
И пламень их пожрал, – и, днесь дымяся, храмы
Зловерию курят зловонны фимиамы.
Но обратим наш взор. – Тут пал чертог суда:
Оплачь его, – но в нем весы держала мзда;
Неправдою закон гнетился подавле́нный.
Как бледны жесткие пова́пленные стены,
