– Можно у меня. В холодильнике есть пиво, ветчина и сало.
– А в моем – водка, пиво, сало, сосиски и сыр. Едем ко мне, я запасливей… Как фамилия вашего человека?
– Шухевич, – ответил Диц, чуть помедлив.
Он понимал, что, отвечая сейчас Штирлицу, он связывает себя с ним. Но, решил Диц, лучше это сделать самому, чем после того, как Штирлиц н а ж м е т. Инициатива должна быть во всем, в предательстве тоже, тогда это и не предательство вовсе, а с т р а т е г и я: на войне побеждает тот, кто остается в живых. На войне всякое может быть: шальная пуля в спину тоже…
КУРТ ШТРАММ (VI)
РАВНОЕ РАВНОМУ ВОЗДАЕТСЯ
– А в моем – водка, пиво, сало, сосиски и сыр. Едем ко мне, я запасливей… Как фамилия вашего человека?
– Шухевич, – ответил Диц, чуть помедлив.
Он понимал, что, отвечая сейчас Штирлицу, он связывает себя с ним. Но, решил Диц, лучше это сделать самому, чем после того, как Штирлиц н а ж м е т. Инициатива должна быть во всем, в предательстве тоже, тогда это и не предательство вовсе, а с т р а т е г и я: на войне побеждает тот, кто остается в живых. На войне всякое может быть: шальная пуля в спину тоже…
КУРТ ШТРАММ (VI)
А сейчас наступило спокойствие, блаженное, расслабленное спокойствие, потому что конвоир, поддерживавший его под локоть, свернул налево, и Курт увидел коридор, именно такой, о каком мечтал, – длинный, узкий, с белыми стенами, а в конце, в самом конце, желтоватая, старая, потрескавшаяся кафельная стена.
«Наверное, мне лучше лечь в кровать и выздороветь, – подумал вдруг Курт, – а уже потом я сделаю то, что обязан сделать. Сейчас я могу не добежать. У меня жар, сильный жар, и конвоир схватит меня за шею и повалит, и они всё поймут и потом лишат меня возможности р а с п о р я д и т ь с я собой так, как я обязан распорядиться».
Он точно ощущал каждый свой шаг, понимая, что расстояние до кафельной стены становится все меньше и меньше.
«Ты дрянь, Курт. Ты смог обмануть седого эсэсовца, ты написал ему много чепухи о прошлом, это будет смешно, если он прочитает всё Ингрид, Гуго или Эгону. Они поймут, они все поймут, потому что ты п р о к р и ч а л им то, чего не мог бы никогда сказать отсюда. Они обязаны понять твой бред, и потомки поймут, вчитавшись в те показания, которые ты дал: чем глупее и нелепее будут твои слова, записанные седым эсэсовцем, тем яснее станет всем, что ты держался стойко и не был мерзавцем и никого не подвел, спасая свою жизнь. Ты смог обмануть седого, а сейчас ты хочешь обмануть себя. Не спорь. Не отговаривайся слабостью, жаром, тем, что рядом конвоир. Когда ты выздоровеешь, их будет двое. И потом, ты можешь бредить и в бреду скажешь про нашего связника из Швейцарии. И про Ингрид. И про Гуго с Эгоном».
Курт чувствовал, как желтоватая, в трещинах, кафельная стена надвигается на него.
«Боже милосердный, помоги мне! – взмолился он. – Дай силы мне, боже! Как просто жить на земле, ходить по ней, чувствовать боль, страдать из-за любви, нестись с гор, когда холодный снег игольчато бьет тебя в лицо… Ох, зачем же я думаю об этом?! Я не должен об этом думать сейчас! Я должен думать про иголки, которые входят под ноготь, медленно и упруго раздирая кожу, доходя до мозга и до сердца, и о том страшном холоде, который появляется внутри за минуту перед тем, как они н а ч и н а ю т. Неужели я обычное животное, для которого возможность дышать, получать похлебку и ложиться на нары важнее, чем право остаться самим собой, распорядиться тем, что мне принадлежит? Ну, Курт, милый, это ведь только одно мгновение ужаса, а потом наступит счастье избавления от самого себя, от того с е б я, который уже увидел внутри трещину, и трещина эта будет все шире и шире, как разводы на мартовской реке после первого теплого дождя, который хлещет тебя по лицу, и ты высовываешь язык и чувствуешь, какая холодная и пресная вода падает с небес…»
Курт обернулся к конвоиру, жалко улыбнулся ему, а потом спружинился, ударил его двумя пальцами в глаз, и почувствовал мокрый холод глазного яблока и горячую трепетность век, и услыхал страшный крик конвоира, но это был не крик боли, а скорее крик испуга н е у с л е д и в ш е г о, что-то вроде жалобного визга охотничьей собаки, которая потеряла след подранка.
Курт опустил голову, оттолкнулся от пола и понесся, как раньше, когда он приезжал на стадион заниматься легкой атлетикой перед началом сезона в горах, чувствуя, что сейчас, через мгновение, он ощутит удар, и он представил явственно и близко желтую массу своего мозга на желтой стене, и закричал от невыразимой жалости к себе, и услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и понял, что за ним гонятся, и замахал руками, чтобы стена скорее обрушилась на него и расколола его череп, в котором грохочет имя связника, и пароль к Гуго, и адрес, где можно укрыться в случае провала кого-то из них, и любовь к Ингрид…
Тьма.
Избавление.
Ночью в номер Штирлица постучали.
– Кто?
– Из городской управы, – мягко ответили по-украински, – из медицинского отдела, доктор Опанас Мирошниченко.
– Что? – удивился Штирлиц, накидывая халат. – Говорите по-немецки, пожалуйста! В чем дело?!
Он отпер дверь: на пороге стоял черноокий мужчина в расшитой украинской рубашке.
– Извините, забылся, – сказал он, переходя на немецкий, – я доктор, отвечаю за дезинфекцию гостиницы… А вы, господин Штирлиц, совсем не изменились со времен «Куин Мэри».
– Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе? – спросил Штирлиц, почувствовав певучую, усталую, но в то же время уверенную радость: слова пароля – слова надежды.
– Во втором… Я стажировался в Штатах. – Это был отзыв.
– Проходите, доктор, – сказал Штирлиц и включил приемник: Берлин передавал победные марши.
«Наверное, мне лучше лечь в кровать и выздороветь, – подумал вдруг Курт, – а уже потом я сделаю то, что обязан сделать. Сейчас я могу не добежать. У меня жар, сильный жар, и конвоир схватит меня за шею и повалит, и они всё поймут и потом лишат меня возможности р а с п о р я д и т ь с я собой так, как я обязан распорядиться».
Он точно ощущал каждый свой шаг, понимая, что расстояние до кафельной стены становится все меньше и меньше.
«Ты дрянь, Курт. Ты смог обмануть седого эсэсовца, ты написал ему много чепухи о прошлом, это будет смешно, если он прочитает всё Ингрид, Гуго или Эгону. Они поймут, они все поймут, потому что ты п р о к р и ч а л им то, чего не мог бы никогда сказать отсюда. Они обязаны понять твой бред, и потомки поймут, вчитавшись в те показания, которые ты дал: чем глупее и нелепее будут твои слова, записанные седым эсэсовцем, тем яснее станет всем, что ты держался стойко и не был мерзавцем и никого не подвел, спасая свою жизнь. Ты смог обмануть седого, а сейчас ты хочешь обмануть себя. Не спорь. Не отговаривайся слабостью, жаром, тем, что рядом конвоир. Когда ты выздоровеешь, их будет двое. И потом, ты можешь бредить и в бреду скажешь про нашего связника из Швейцарии. И про Ингрид. И про Гуго с Эгоном».
Курт чувствовал, как желтоватая, в трещинах, кафельная стена надвигается на него.
«Боже милосердный, помоги мне! – взмолился он. – Дай силы мне, боже! Как просто жить на земле, ходить по ней, чувствовать боль, страдать из-за любви, нестись с гор, когда холодный снег игольчато бьет тебя в лицо… Ох, зачем же я думаю об этом?! Я не должен об этом думать сейчас! Я должен думать про иголки, которые входят под ноготь, медленно и упруго раздирая кожу, доходя до мозга и до сердца, и о том страшном холоде, который появляется внутри за минуту перед тем, как они н а ч и н а ю т. Неужели я обычное животное, для которого возможность дышать, получать похлебку и ложиться на нары важнее, чем право остаться самим собой, распорядиться тем, что мне принадлежит? Ну, Курт, милый, это ведь только одно мгновение ужаса, а потом наступит счастье избавления от самого себя, от того с е б я, который уже увидел внутри трещину, и трещина эта будет все шире и шире, как разводы на мартовской реке после первого теплого дождя, который хлещет тебя по лицу, и ты высовываешь язык и чувствуешь, какая холодная и пресная вода падает с небес…»
Курт обернулся к конвоиру, жалко улыбнулся ему, а потом спружинился, ударил его двумя пальцами в глаз, и почувствовал мокрый холод глазного яблока и горячую трепетность век, и услыхал страшный крик конвоира, но это был не крик боли, а скорее крик испуга н е у с л е д и в ш е г о, что-то вроде жалобного визга охотничьей собаки, которая потеряла след подранка.
Курт опустил голову, оттолкнулся от пола и понесся, как раньше, когда он приезжал на стадион заниматься легкой атлетикой перед началом сезона в горах, чувствуя, что сейчас, через мгновение, он ощутит удар, и он представил явственно и близко желтую массу своего мозга на желтой стене, и закричал от невыразимой жалости к себе, и услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и понял, что за ним гонятся, и замахал руками, чтобы стена скорее обрушилась на него и расколола его череп, в котором грохочет имя связника, и пароль к Гуго, и адрес, где можно укрыться в случае провала кого-то из них, и любовь к Ингрид…
Тьма.
Избавление.
Ночью в номер Штирлица постучали.
– Кто?
– Из городской управы, – мягко ответили по-украински, – из медицинского отдела, доктор Опанас Мирошниченко.
– Что? – удивился Штирлиц, накидывая халат. – Говорите по-немецки, пожалуйста! В чем дело?!
Он отпер дверь: на пороге стоял черноокий мужчина в расшитой украинской рубашке.
– Извините, забылся, – сказал он, переходя на немецкий, – я доктор, отвечаю за дезинфекцию гостиницы… А вы, господин Штирлиц, совсем не изменились со времен «Куин Мэри».
– Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе? – спросил Штирлиц, почувствовав певучую, усталую, но в то же время уверенную радость: слова пароля – слова надежды.
– Во втором… Я стажировался в Штатах. – Это был отзыв.
– Проходите, доктор, – сказал Штирлиц и включил приемник: Берлин передавал победные марши.
РАВНОЕ РАВНОМУ ВОЗДАЕТСЯ
Трушницкого арестовали в семь утра. Все было так, как в доме у пана Ладислава: в дверь осторожно постучали, и Трушницкий решил, что это пришел кто-нибудь по поводу завтрашнего, нет, сегодняшнего уже концерта в театре, в е г о театре, и спросил хриплым со сна голосом:
– Кто?
– Из домовой управы, – ответили ему, – у вас трубы лопнули.
Трушницкий оглянулся во тьму комнаты, воды нигде не увидел, но решил, что это могло случиться в ванной, и дверь отпер. На пороге стояли офицер СС, два солдата и один в штатском. Лицо его показалось Трушницкому знакомым, но он не успел вспомнить, где они виделись, потому что солдаты споро втолкнули его в комнату, а человек в штатском вежливо сказал:
– Собирайтесь быстренько, будьте добры.
– А в чем дело? – спросил Трушницкий, леденея от ставшего перед глазами лица пана Ладислава.
– В вашей квартире небезопасно оставаться, в городе начали орудовать красные подпольщики, – объяснил штатский. – Мы увозим поближе к немецким казармам тех, за чью жизнь опасаемся.
– Ой, господи, а я уж перепугался, – вымученно улыбнулся Трушницкий, теперь только ощутив дрожание под коленками. – Одну минуту, господа, прошу садиться, я мигом.
Он быстро оделся, потер ладонью щеки – побриться бы, да времени нет, – господи, за что ж на него красным руку поднимать? Надо поскорее съехать отсюда, заботливый народ немцы, ничего не скажешь, охраняют цвет нации, понимают, что без нас им ничего здесь не сделать, привезут на другую квартиру, там и побреюсь…
– Господа, а как же с вещами? – спросил он. – Тут у меня партитуры.
– Один из солдат останется, сложит все в чемодан и привезет вам.
Трушницкий ничего не понял даже тогда, когда машина, в которой он был до странного т е с н о зажат между офицером и штатским, въехала в тюремный двор. И лишь когда его вытолкнули из машины, и к нему подошел эсэсовец, и ударил в спину, кивнув головой на кованую дверь, тогда лишь Трушницкий увидал решетки на окнах, высокие стены, вышки с пулеметами и трупы, аккуратно, словно дрова, сложенные в тени, под навесом.
Он хотел идти, однако ноги не слушались: колени, казалось, выгнулись в обратную сторону, и ему пришла дикая мысль, что если он сделает шаг, то это будет шаг назад, а не вперед.
Допрашивал его высокий эсэсовец, мгновенно менявший улыбку на тяжелую маску гнева. Тот, что в штатском, обращался к нему почтительно: «Господин Диц». Трушницкий наконец вспомнил: штатский был секретарь Мельника, тихий и быстрый Чучкевич; его в бандеровских кругах называли «мышонком».
– Послушайте, Трушницкий, – быстро заговорил Диц, слюняво сжевывая черный табак сигареты, – в ваших интересах сказать нам всю правду. Всю, понимаете?! Если вы решите утаить хоть самую малость, я прикажу вас расстрелять немедленно, ясно вам?! Идет война, и у нас нет времени разводить антимонии!
– Я ничего не понимаю. Что я должен… В чем я виноват? – тихо спросил Трушницкий, ощущая дрожь во всем теле.
– В чем он должен признаться? – перевел Чучкевич. – Вы ведь спрашивали, – он глянул на Трушницкого, – в чем вам надо признаваться, да?
– Да, да, – быстро ответил Трушницкий, словно бы цепляясь за спасательный круг – за украинскую речь Чучкевича, который сейчас поможет все объяснить этому длинному гестаповцу.
– Ну, это я вам подскажу, – сказал Чучкевич. – Вам трудно самому понять, в какую гнусную игру вас втянул Лебедь. Вы художник, вы о прозе жизни не думаете, вы в эмпиреях, – ласково, теперь уже неторопливо продолжал он. – Он же втянул вас в игру, Трушницкий. Он вам приказал устроить концерт в театре?
– Да.
Чучкевич сказал Дицу по-немецки:
– Можно начинать записывать, с этим будет просто.
Диц вызвал стенографиста, тот устроился в уголке, включив яркую настольную лампу, и Чучкевич придвинул свой стул поближе к ввинченному, металлическому, холодному, о б р е к а ю щ е м у табурету, на котором было приказано сидеть Трушницкому, и колени их соприкоснулись, и Трушницкий захотел, чтобы это касание продолжалось, потому что этот человек был своим.
– Так вот, по поводу концерта, Трушницкий. Лебедь просил обсудить программу с представителями оккупационных властей?
– Нет.
– Не просил, – медленно повторил Чучкевич, дожидаясь, видимо, пока ответ Трушницкого запишет стенографист.
– Но он ведь должен был знать, что программа торжественного концерта обязана быть утвержденной представителями новой власти? Должен ведь, да?
– Да, – медленно, стараясь понять спасительный с м ы с л в словах Чучкевича, повторил Трушницкий. – Конечно.
– Лебедь сказал, что назначает вас главным режиссером театра?
– Главным дирижером.
– Что?
– Я говорю – главным дирижером.
– Ну, знаете, разница невелика.
– Да, да, невелика, – быстро согласился Трушницкий.
– А он должен был согласовать этот вопрос с новой властью? Как думаете?
– Должен.
– Он никогда не говорил вам, что надо попросить новую власть назначить немецкого директора вашего хора?
– Нет.
– Вот и получается, что он хотел стать над новой властью, этот Лебедь? Разве нет?
– Я не знаю… Мне кажется…
– Нет, погодите, – мягко перебил его Чучкевич, – как же так – «не знаю»? Такой ответ может показаться неискренним господину Дицу. Вы все прекрасно знаете, Трушницкий. Эмпиреи эмпиреями, но ведь хлеб вы едите земной, а не небесный. Мы ведь существуем только потому, что в мире есть великий фюрер Адольф Гитлер и его нация. А если Лебедь всё брал на себя? Если он всё хотел решать сам? Тогда как? Он ведь всё хотел решать сам – так?
– Он самостоятельный, – согласился Трушницкий, почувствовав, как в нем рождается особое, испуганное подобострастие и желание во всем следовать за Чучкевичем. – Это вы верно отметили: он действительно очень самостоятельный человек.
– А может, заносчивый? – подсказал Чучкевич. – Может быть, точнее сказать – заносчивый?
– Вообще-то это есть в нем. Но по поводу новой власти…
– Что по поводу новой власти? Он хоть раз приветствовал вас так, как все честные люди новой Европы приветствуют друг друга? Он хоть раз, встретив вас, сказал «хайль Гитлер»?
– Говорил… Зачем же клеветать… Это он всегда говорил…
– Но чаще он, видно, говорил «хай живе фюрер Степан Бандера», разве нет?
– Это так, это истинно, он, конечно, тоже говорил «хай живе наш фюрер Степан Бандера»!
– Вот и ответьте мне теперь, – поняв до конца Трушницкого, повторил Чучкевич, – старался Лебедь поставить себя над новой властью? По-моему, ответ может быть только одним – утвердительным. Старался?
– Не то чтоб старался, но вообще это в нем есть… Это отрицать трудно, – ответил Трушницкий, сглотнув тяжелый комок, застрявший в горле. – Я только теперь начинаю понимать, – добавил он, силясь улыбнуться, – сразу-то разве все поймешь? Это вы совершенно правильно заметили: я живу миром музыки, а она отделяет человека от земной суеты, она…
– Погодите, – осторожно прервал его Чучкевич. – Погодите, мой дорогой. Если мы с вами сошлись на том, что вы знали о желании Лебедя стать над новой властью, то должен родиться следующий вопрос: «Кому это выгодно?» Это не может быть выгодно украинцам: они погибнут без новой, немецкой, культурной власти, сгниют заживо, в помоях утонут. Кому же в таком случае выгодно стать н а д властью?
– Кому? – Доверчиво, моля глазами о помощи, Трушницкий повторил вопрос Чучкевича.
– Ну а вы как думаете? Кому?
– Что-то у меня голова идет кругом… И потом я не могу понять: меня арестовали?
– Это зависит от того, что и как вы будете отвечать, Трушницкий, все от вас зависит. Всегда все зависит от человека.
– Но сегодня же концерт должен быть…
Он подумал с ужасом, что никогда он не станет за пюпитр, никогда, никогда, н и к о г д а не услышит оваций зала, и стало ему до того жаль себя, что Трушницкий сказал:
– Господи, за что все это? В чем моя вина? В чем?
– Корыстной вины за вами нет, – уверенно сказал Чучкевич, – все можно поправить, только надо быть честным, предельно честным. И не только перед господином Дицем или мною, его помощником. Честным надо быть перед самим собой, Трушницкий. Ответьте мне, пожалуйста: кому было выгодно желание Лебедя стать над новой властью? Врагам новой германской власти, разве ж нет?
– Вы думаете, врагам?
– А вы как думаете? Как вы сами об этом думаете?
– Кто бы мог представить себе…
– Вот это дело другого рода… Представить себе этого никто не мог, ни у кого в голове подобное не могло уместиться – тут вы правы, спору нет. Значит, вам кажется, что поступки Лебедя объективно служили врагам новой власти. Так?
– Теперь мне, конечно, так кажется, но раньше я не мог об этом и подумать.
Чучкевич посмотрел на Дица. Тот кивнул головой, Трушницкому дали подписать протокол и увезли в камеру. Там он и потерял сознание, когда пан Ладислав, обнимая детей своих, вошел к нему, подмигнул пустой, кровавой глазницей – глаз был выбит, висел на длинной синей ж и л к е – и сказал:
– В Опера, в Опера, хочу в Опера, мой друг!
…К десяти утра Чучкевич «оформил» еще пятерых, которые в картотеке Мельника проходили как «слабаки». «Улики» против Лебедя и Стецко были, таким образом, «неопровержимые».
…Ознакомившись с показаниями арестованных, Лебедь закричал, срывая голос:
– Да вы что, озверели?! Господин Диц, мы ж свои! На кого руку поднимаете?! Это все штучки Мельника! Мы ж очистили Львов, мы все для новой власти делали! Что ж это такое, господин Диц! Это ж навет Мельника, как вы не понимаете?!
Чучкевич поднялся со своего табурета и лениво ударил Лебедя толстой потной ладонью – словно кот.
Диц вскочил из-за стола, рявкнул:
– Чучкевич! Вон отсюда!
Тот какое-то время недоумевал, потом выпрямился, щелкнул каблуками и вышел из камеры. Диц подошел к Лебедю, снял с него наручники, улыбнулся заговорщически и шепнул:
– Неужели вы не понимаете, что так сейчас н а д о?
– Что н а д о? – так же тихо спросил его Лебедь. – Что?
– Нужно с т р а д а н и е, – сказал Диц. – Разве трудно понять? Кто-кто, а уж вы-то должны были попять это, г о с п о д и н Лебедь. Вам и вашим друзьям нужен терновый венец национального страдания. В серьезную, с а м у ю серьезную борьбу вы включитесь чуть позже. Вы меня поняли, господин Лебедь?
…Гестапо зафиксировало три самоубийства членов ОУН. Один из самоубийц, учитель Гребенюк, написал в предсмертной записке: «Я был самостийником, а сейчас я понял, что я обычный наймит. Я считал себя патриотом вольной Украины – оказалось, что я обезьяна, таскавшая каштаны из огня для гитлеров. Мне стыдно жить».
…А девятнадцатилетнего легионера «Нахтигаля» Миколу Шаповала, сына крестьянина Степана, повесили во дворе львовской тюрьмы. Было выстроено каре немецких солдат. Поодаль стояли оуновцы из штаба Мельника.
– Предавший идеи рейха украинец Микола Шаповал за измену делу великой Германии приговаривается к смертной казни через повешение. Так будет с каждым украинцем, который мыслью, словом или делом изменит великой Германии, – прочел приговор Диц, глядя на лица мельниковских штабистов.
Те стояли тихие: и в глазах у них был страх и затравленное, рабье почтение…
…Полковник Лахузен, помощник адмирала Канариса, все-таки успел встретить Оберлендера – все берлинские аэродромы контролировались армией, поэтому о сроке прибытия «юнкерсов» из Львова в штабе ОКВ (и соответственно в абвере) узнали незамедлительно.
Поскольку Оберлендер не был арестован, а лишь вызван в партийную канцелярию для объяснений, Лахузен посадил его в свой «майбах» и сказал:
– Гиммлер выиграл. На этом этапе выиграл. Но Розенберг и Канарис настояли, чтобы Бандера был помещен в особый «коттедж» Заксенхаузена: там держат «национальные резервы», с которыми предстоит работа. На определенном этапе и при определенных обстоятельствах мы вернемся к Бандере. Он будет в ореоле мученика национальной идеи – это впечатляет. Вам следует опередить события: внесите предложение немедленно отвести «Нахтигаль» в генерал-губернаторство. Предложите придать легиону полицейские функции на польских или сербских землях. – Лахузен закурил и, глубоко затянувшись, добавил: – Или на французских. Главное – сохраняйте лицо. Канарис, мне кажется, уже договорился о вашем откомандировании в Прагу по линии моего отдела с продолжением работы в университете. Потом мы снова переведем вас в Россию, как только падет Москва: надо будет налаживать сельское хозяйство в черноземных областях – это ваш конек.
– Обидно, – сказал Оберлендер, и его мягкое, округлое лицо ожесточилось. – Обидно, когда проигрываем в мелочах.
– Всякий проигрыш чреват выигрышем. Относитесь к проигрышу как к обещанию победы. Гитлер уйдет, но дух нации вечен. Он сделает то, что должен был сделать, – доделывать предстоит нам, прагматикам великогерманской идеи.
Оберлендер посмотрел на Лахузена изучающе, скосив глаза, словно конь.
– Не слишком ли рискованно говорите, полковник?
– Я веду машину, радио включено, вас вызвали для головомойки – какой вам смысл доносить? Обсуждая личность Адольфа Гитлера, я думаю лишь о величии Германии, ни о чем другом. И знаете ли, лучше получать тысячу марок за то, что держишь язык за зубами, чем сто – за то, что держишь кирку в руках.
– Разумно, – согласился Оберлендер. – Для себя – не для дела. Значит, идея вассальных славян исчерпала себя?
– Пока еще трудно ответить определенно. Армия поддерживает Розенберга. Возможно, нам удастся внести в один серьезный документ несколько весьма важных абзацев. Мы думаем, что фюрер – на этой стадии – подпишет наш документ: у него нет времени вчитываться в абзацы, поскольку большевики отчаянно дерутся. Абзацы, необходимые на будущее, трудно протаскивать в дни мира; война помогает тем, кто рискует…
…Розенберг отправил во Львов директивы, поручив партийному аппарату гауляйтера ознакомить с ними всех сотрудников министерства восточных территорий; копия была вручена им фюреру, чтобы «отвести всяческие инсинуации по поводу моего так называемого либерализма по отношению к славянам».
Первый документ назывался «Памятка для молодых работников рейхсминистерства» и гласил следующее:
Предписания эти были сугубо конкретны:
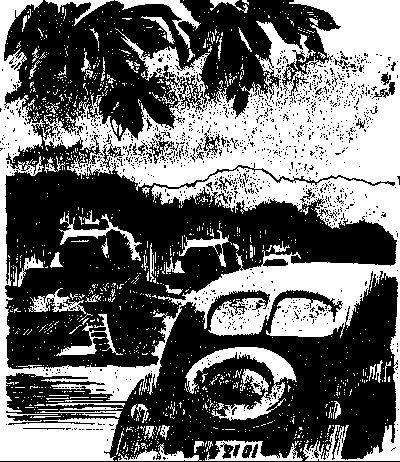
Сделав фотокопии, чтобы передать их новому своему связнику для отправки в Центр, он спрятал документы в сейф и поехал к Дицу. Он ехал по городу, облик которого за несколько дней стал иным. Он видел, как немецкие солдаты срывали таблички с названиями улиц: площадь Рынка стала Кракауэрштрассе, улица Абрагамовичей сделалась Кляйнштрассе, Пидвальна – Ам Грабен. Штирлиц ехал медленно, яростно сжимая руль, и думал о том, что сейчас надо держаться, как никогда раньше, потому что, прочитав документы Розенберга, он еще раз убедился в обреченности гитлеризма – вопрос времени, и только. А то, что первыми прольют кровь и погибнут лучшие, те, что с самого начала принимают бой со злом, – что ж, от этого не уйти.
Штирлиц рассуждал сейчас спокойно, впервые за последние дни спокойно. Он рассуждал о том, почему нацисты решили сделать ставку на мелких лавочников – не только в рейхе, но и повсюду, куда они приходили. Это только кажется, думал Штирлиц, что собственность делает человека свободным. Нет, собственность делает человека своим рабом, а разве рабы могут быть проводниками нового? Пушкин и Кант были богаче тебя, Геринг, с твоими концернами, и с твоими «народными заводами», и с твоими «народными германскими банками», потому что они были свободны в своей мысли и им было о чем мыслить, а тебе не о чем мыслить – тебе надо принимать парады люфтваффе, выслушивать доклады адъютантов, давать санкции на расстрелы, читать победные сводки, и все это подминает тебя, а в душе у тебя нет ничего, ибо ты лишен страсти познавать. Тебя ведь не интересует, есть ли конец у вселенной, а если нет, то как это уместить в разуме; тебя не интересует, что такое людская память, как она живет в веках и кто хранит ее, эту память. Глупые наци, вам не понять, что мечты детей – это будущее общества. О чем мечтают дети? Вы думали об этом в своих рейхсканцеляриях? Разве вы помните свои детские мечты? Разве вы умеете узнавать мечты своих детей? Ведь нормальные дети мечтают стать пилотами или музыкантами, хирургами или шоферами, маршалами или актерами, но никто из них не мечтает стать лавочником. Дети хотят иметь гоночный автомобиль, но не таксомоторный парк. Лавочник – раб достигнутого. Для него нет иных идеалов, кроме как удержать, сохранить, оставить все, как есть. А это невозможно в наш век – оставить все, как есть. Миру сообщена скорость, новая, особая скорость, и ее нельзя погасить, и мелкий лавочник, раб вещи, ее владелец и собственник, смешон в мире новых скоростей, которые целенаправленны, то есть идейны.
Мир определяют причина и случай. Но если причина – это свидетельство разумной необходимости, следствие развития разума, то случай чаще всего есть выражение хаоса.
Если бы ты, фюрер, служил идее серьезной, реальной, а не химерической, ты бы ставил на иных и на иное. А ты случаен, фюрер, от начала и до конца случаен, хотя кажешься сейчас таким сильным и несокрушимым, и так все орут в твою честь «хайль» и так благоговеют перед тобой. Но ведь важно быть , а не казаться, фюрер. Надейся на лавочника, фюрер, надейся! Я очень прошу тебя, считай его своей опорой. Думай, фюрер, что благополучие нескольких тысяч в многомиллионном море неблагополучия – та реальная сила, которая будет служить тебе опорой. Тысяча не может быть опорой, если дело касается миллионов. И эти миллионы должны узнать, что им приготовил твой Розенберг. И они узнают об этом. Я уж постараюсь.
Штирлиц увидел, как в тюрьму заехали три машины, три крытые машины. Штирлиц остановил свой «вандерер» у проходной, показал жетон и вошел в тюремный двор. Трупы, раздетые донага, с двумя огнестрельными ранами – на груди и голове – лежали возле стены. Деловитые эсэсовцы ходили среди трупов, переворачивали тела и склонялись над лицами. Слышался быстрый перестук металла: эсэсовцы выбивали молотками золотые коронки.
Штирлиц почувствовал дурноту, отвернулся, пошел в умывальню, ополоснул лицо студеной, с голубинкой водой и, деревянно ступая, вышел из тюрьмы. Он долго сидел в машине, не в силах повернуть ключ зажигания. А потом он приказал себе ехать к Мельнику, говорить с Дицем, писать рапорт Шелленбергу – надо было работать, чтобы все знать и все помнить. Это очень плохое качество – месть, но если за все это не придет возмездие, тогда мир кончится, и дети будут рождаться четвероногими, и исчезнет музыка, и не станет солнца, и будет вечная, черная, беззвездная ночь. Память хранят люди и выражают ее борьбою, когда иначе поступать нельзя, ибо во всем, всегда и для каждого есть предел.
Берлин – Львов
1973
– Кто?
– Из домовой управы, – ответили ему, – у вас трубы лопнули.
Трушницкий оглянулся во тьму комнаты, воды нигде не увидел, но решил, что это могло случиться в ванной, и дверь отпер. На пороге стояли офицер СС, два солдата и один в штатском. Лицо его показалось Трушницкому знакомым, но он не успел вспомнить, где они виделись, потому что солдаты споро втолкнули его в комнату, а человек в штатском вежливо сказал:
– Собирайтесь быстренько, будьте добры.
– А в чем дело? – спросил Трушницкий, леденея от ставшего перед глазами лица пана Ладислава.
– В вашей квартире небезопасно оставаться, в городе начали орудовать красные подпольщики, – объяснил штатский. – Мы увозим поближе к немецким казармам тех, за чью жизнь опасаемся.
– Ой, господи, а я уж перепугался, – вымученно улыбнулся Трушницкий, теперь только ощутив дрожание под коленками. – Одну минуту, господа, прошу садиться, я мигом.
Он быстро оделся, потер ладонью щеки – побриться бы, да времени нет, – господи, за что ж на него красным руку поднимать? Надо поскорее съехать отсюда, заботливый народ немцы, ничего не скажешь, охраняют цвет нации, понимают, что без нас им ничего здесь не сделать, привезут на другую квартиру, там и побреюсь…
– Господа, а как же с вещами? – спросил он. – Тут у меня партитуры.
– Один из солдат останется, сложит все в чемодан и привезет вам.
Трушницкий ничего не понял даже тогда, когда машина, в которой он был до странного т е с н о зажат между офицером и штатским, въехала в тюремный двор. И лишь когда его вытолкнули из машины, и к нему подошел эсэсовец, и ударил в спину, кивнув головой на кованую дверь, тогда лишь Трушницкий увидал решетки на окнах, высокие стены, вышки с пулеметами и трупы, аккуратно, словно дрова, сложенные в тени, под навесом.
Он хотел идти, однако ноги не слушались: колени, казалось, выгнулись в обратную сторону, и ему пришла дикая мысль, что если он сделает шаг, то это будет шаг назад, а не вперед.
Допрашивал его высокий эсэсовец, мгновенно менявший улыбку на тяжелую маску гнева. Тот, что в штатском, обращался к нему почтительно: «Господин Диц». Трушницкий наконец вспомнил: штатский был секретарь Мельника, тихий и быстрый Чучкевич; его в бандеровских кругах называли «мышонком».
– Послушайте, Трушницкий, – быстро заговорил Диц, слюняво сжевывая черный табак сигареты, – в ваших интересах сказать нам всю правду. Всю, понимаете?! Если вы решите утаить хоть самую малость, я прикажу вас расстрелять немедленно, ясно вам?! Идет война, и у нас нет времени разводить антимонии!
– Я ничего не понимаю. Что я должен… В чем я виноват? – тихо спросил Трушницкий, ощущая дрожь во всем теле.
– В чем он должен признаться? – перевел Чучкевич. – Вы ведь спрашивали, – он глянул на Трушницкого, – в чем вам надо признаваться, да?
– Да, да, – быстро ответил Трушницкий, словно бы цепляясь за спасательный круг – за украинскую речь Чучкевича, который сейчас поможет все объяснить этому длинному гестаповцу.
– Ну, это я вам подскажу, – сказал Чучкевич. – Вам трудно самому понять, в какую гнусную игру вас втянул Лебедь. Вы художник, вы о прозе жизни не думаете, вы в эмпиреях, – ласково, теперь уже неторопливо продолжал он. – Он же втянул вас в игру, Трушницкий. Он вам приказал устроить концерт в театре?
– Да.
Чучкевич сказал Дицу по-немецки:
– Можно начинать записывать, с этим будет просто.
Диц вызвал стенографиста, тот устроился в уголке, включив яркую настольную лампу, и Чучкевич придвинул свой стул поближе к ввинченному, металлическому, холодному, о б р е к а ю щ е м у табурету, на котором было приказано сидеть Трушницкому, и колени их соприкоснулись, и Трушницкий захотел, чтобы это касание продолжалось, потому что этот человек был своим.
– Так вот, по поводу концерта, Трушницкий. Лебедь просил обсудить программу с представителями оккупационных властей?
– Нет.
– Не просил, – медленно повторил Чучкевич, дожидаясь, видимо, пока ответ Трушницкого запишет стенографист.
– Но он ведь должен был знать, что программа торжественного концерта обязана быть утвержденной представителями новой власти? Должен ведь, да?
– Да, – медленно, стараясь понять спасительный с м ы с л в словах Чучкевича, повторил Трушницкий. – Конечно.
– Лебедь сказал, что назначает вас главным режиссером театра?
– Главным дирижером.
– Что?
– Я говорю – главным дирижером.
– Ну, знаете, разница невелика.
– Да, да, невелика, – быстро согласился Трушницкий.
– А он должен был согласовать этот вопрос с новой властью? Как думаете?
– Должен.
– Он никогда не говорил вам, что надо попросить новую власть назначить немецкого директора вашего хора?
– Нет.
– Вот и получается, что он хотел стать над новой властью, этот Лебедь? Разве нет?
– Я не знаю… Мне кажется…
– Нет, погодите, – мягко перебил его Чучкевич, – как же так – «не знаю»? Такой ответ может показаться неискренним господину Дицу. Вы все прекрасно знаете, Трушницкий. Эмпиреи эмпиреями, но ведь хлеб вы едите земной, а не небесный. Мы ведь существуем только потому, что в мире есть великий фюрер Адольф Гитлер и его нация. А если Лебедь всё брал на себя? Если он всё хотел решать сам? Тогда как? Он ведь всё хотел решать сам – так?
– Он самостоятельный, – согласился Трушницкий, почувствовав, как в нем рождается особое, испуганное подобострастие и желание во всем следовать за Чучкевичем. – Это вы верно отметили: он действительно очень самостоятельный человек.
– А может, заносчивый? – подсказал Чучкевич. – Может быть, точнее сказать – заносчивый?
– Вообще-то это есть в нем. Но по поводу новой власти…
– Что по поводу новой власти? Он хоть раз приветствовал вас так, как все честные люди новой Европы приветствуют друг друга? Он хоть раз, встретив вас, сказал «хайль Гитлер»?
– Говорил… Зачем же клеветать… Это он всегда говорил…
– Но чаще он, видно, говорил «хай живе фюрер Степан Бандера», разве нет?
– Это так, это истинно, он, конечно, тоже говорил «хай живе наш фюрер Степан Бандера»!
– Вот и ответьте мне теперь, – поняв до конца Трушницкого, повторил Чучкевич, – старался Лебедь поставить себя над новой властью? По-моему, ответ может быть только одним – утвердительным. Старался?
– Не то чтоб старался, но вообще это в нем есть… Это отрицать трудно, – ответил Трушницкий, сглотнув тяжелый комок, застрявший в горле. – Я только теперь начинаю понимать, – добавил он, силясь улыбнуться, – сразу-то разве все поймешь? Это вы совершенно правильно заметили: я живу миром музыки, а она отделяет человека от земной суеты, она…
– Погодите, – осторожно прервал его Чучкевич. – Погодите, мой дорогой. Если мы с вами сошлись на том, что вы знали о желании Лебедя стать над новой властью, то должен родиться следующий вопрос: «Кому это выгодно?» Это не может быть выгодно украинцам: они погибнут без новой, немецкой, культурной власти, сгниют заживо, в помоях утонут. Кому же в таком случае выгодно стать н а д властью?
– Кому? – Доверчиво, моля глазами о помощи, Трушницкий повторил вопрос Чучкевича.
– Ну а вы как думаете? Кому?
– Что-то у меня голова идет кругом… И потом я не могу понять: меня арестовали?
– Это зависит от того, что и как вы будете отвечать, Трушницкий, все от вас зависит. Всегда все зависит от человека.
– Но сегодня же концерт должен быть…
Он подумал с ужасом, что никогда он не станет за пюпитр, никогда, никогда, н и к о г д а не услышит оваций зала, и стало ему до того жаль себя, что Трушницкий сказал:
– Господи, за что все это? В чем моя вина? В чем?
– Корыстной вины за вами нет, – уверенно сказал Чучкевич, – все можно поправить, только надо быть честным, предельно честным. И не только перед господином Дицем или мною, его помощником. Честным надо быть перед самим собой, Трушницкий. Ответьте мне, пожалуйста: кому было выгодно желание Лебедя стать над новой властью? Врагам новой германской власти, разве ж нет?
– Вы думаете, врагам?
– А вы как думаете? Как вы сами об этом думаете?
– Кто бы мог представить себе…
– Вот это дело другого рода… Представить себе этого никто не мог, ни у кого в голове подобное не могло уместиться – тут вы правы, спору нет. Значит, вам кажется, что поступки Лебедя объективно служили врагам новой власти. Так?
– Теперь мне, конечно, так кажется, но раньше я не мог об этом и подумать.
Чучкевич посмотрел на Дица. Тот кивнул головой, Трушницкому дали подписать протокол и увезли в камеру. Там он и потерял сознание, когда пан Ладислав, обнимая детей своих, вошел к нему, подмигнул пустой, кровавой глазницей – глаз был выбит, висел на длинной синей ж и л к е – и сказал:
– В Опера, в Опера, хочу в Опера, мой друг!
…К десяти утра Чучкевич «оформил» еще пятерых, которые в картотеке Мельника проходили как «слабаки». «Улики» против Лебедя и Стецко были, таким образом, «неопровержимые».
…Ознакомившись с показаниями арестованных, Лебедь закричал, срывая голос:
– Да вы что, озверели?! Господин Диц, мы ж свои! На кого руку поднимаете?! Это все штучки Мельника! Мы ж очистили Львов, мы все для новой власти делали! Что ж это такое, господин Диц! Это ж навет Мельника, как вы не понимаете?!
Чучкевич поднялся со своего табурета и лениво ударил Лебедя толстой потной ладонью – словно кот.
Диц вскочил из-за стола, рявкнул:
– Чучкевич! Вон отсюда!
Тот какое-то время недоумевал, потом выпрямился, щелкнул каблуками и вышел из камеры. Диц подошел к Лебедю, снял с него наручники, улыбнулся заговорщически и шепнул:
– Неужели вы не понимаете, что так сейчас н а д о?
– Что н а д о? – так же тихо спросил его Лебедь. – Что?
– Нужно с т р а д а н и е, – сказал Диц. – Разве трудно понять? Кто-кто, а уж вы-то должны были попять это, г о с п о д и н Лебедь. Вам и вашим друзьям нужен терновый венец национального страдания. В серьезную, с а м у ю серьезную борьбу вы включитесь чуть позже. Вы меня поняли, господин Лебедь?
…Гестапо зафиксировало три самоубийства членов ОУН. Один из самоубийц, учитель Гребенюк, написал в предсмертной записке: «Я был самостийником, а сейчас я понял, что я обычный наймит. Я считал себя патриотом вольной Украины – оказалось, что я обезьяна, таскавшая каштаны из огня для гитлеров. Мне стыдно жить».
…А девятнадцатилетнего легионера «Нахтигаля» Миколу Шаповала, сына крестьянина Степана, повесили во дворе львовской тюрьмы. Было выстроено каре немецких солдат. Поодаль стояли оуновцы из штаба Мельника.
– Предавший идеи рейха украинец Микола Шаповал за измену делу великой Германии приговаривается к смертной казни через повешение. Так будет с каждым украинцем, который мыслью, словом или делом изменит великой Германии, – прочел приговор Диц, глядя на лица мельниковских штабистов.
Те стояли тихие: и в глазах у них был страх и затравленное, рабье почтение…
…Полковник Лахузен, помощник адмирала Канариса, все-таки успел встретить Оберлендера – все берлинские аэродромы контролировались армией, поэтому о сроке прибытия «юнкерсов» из Львова в штабе ОКВ (и соответственно в абвере) узнали незамедлительно.
Поскольку Оберлендер не был арестован, а лишь вызван в партийную канцелярию для объяснений, Лахузен посадил его в свой «майбах» и сказал:
– Гиммлер выиграл. На этом этапе выиграл. Но Розенберг и Канарис настояли, чтобы Бандера был помещен в особый «коттедж» Заксенхаузена: там держат «национальные резервы», с которыми предстоит работа. На определенном этапе и при определенных обстоятельствах мы вернемся к Бандере. Он будет в ореоле мученика национальной идеи – это впечатляет. Вам следует опередить события: внесите предложение немедленно отвести «Нахтигаль» в генерал-губернаторство. Предложите придать легиону полицейские функции на польских или сербских землях. – Лахузен закурил и, глубоко затянувшись, добавил: – Или на французских. Главное – сохраняйте лицо. Канарис, мне кажется, уже договорился о вашем откомандировании в Прагу по линии моего отдела с продолжением работы в университете. Потом мы снова переведем вас в Россию, как только падет Москва: надо будет налаживать сельское хозяйство в черноземных областях – это ваш конек.
– Обидно, – сказал Оберлендер, и его мягкое, округлое лицо ожесточилось. – Обидно, когда проигрываем в мелочах.
– Всякий проигрыш чреват выигрышем. Относитесь к проигрышу как к обещанию победы. Гитлер уйдет, но дух нации вечен. Он сделает то, что должен был сделать, – доделывать предстоит нам, прагматикам великогерманской идеи.
Оберлендер посмотрел на Лахузена изучающе, скосив глаза, словно конь.
– Не слишком ли рискованно говорите, полковник?
– Я веду машину, радио включено, вас вызвали для головомойки – какой вам смысл доносить? Обсуждая личность Адольфа Гитлера, я думаю лишь о величии Германии, ни о чем другом. И знаете ли, лучше получать тысячу марок за то, что держишь язык за зубами, чем сто – за то, что держишь кирку в руках.
– Разумно, – согласился Оберлендер. – Для себя – не для дела. Значит, идея вассальных славян исчерпала себя?
– Пока еще трудно ответить определенно. Армия поддерживает Розенберга. Возможно, нам удастся внести в один серьезный документ несколько весьма важных абзацев. Мы думаем, что фюрер – на этой стадии – подпишет наш документ: у него нет времени вчитываться в абзацы, поскольку большевики отчаянно дерутся. Абзацы, необходимые на будущее, трудно протаскивать в дни мира; война помогает тем, кто рискует…
…Розенберг отправил во Львов директивы, поручив партийному аппарату гауляйтера ознакомить с ними всех сотрудников министерства восточных территорий; копия была вручена им фюреру, чтобы «отвести всяческие инсинуации по поводу моего так называемого либерализма по отношению к славянам».
Первый документ назывался «Памятка для молодых работников рейхсминистерства» и гласил следующее:
«1. Не ошибается тот, кто не посвятил себя борьбе.Следующая директива носила чисто экономический характер, разъясняя, каковы должны быть нормы выдачи продуктов на душу населения.
2. Краткие указания в форме приказа – никаких разъяснений: украинцы хотят видеть в нас авторитетных руководителей.
3. Если у тебя и есть основания возмущаться немцем, твоим коллегой, – не делай этого при украинце. Перед украинцем защити и покрой любую ошибку немца.
4. Решающее: занятые нами территории на Украине принадлежат немцам отныне и навечно. Поэтому следует применять крайне жестокие меры по отношению к населению, если этого потребует государственная необходимость.
5. Не терзайся последствиями твоих действий для украинца – думай об интересах Германии.
6. Не вздумай привлекать украинцев к национал-социализму! Не подпускай их к нашим задачам!
7. Бедствия и голод украинцы переносили столетиями. Не вздумай предложить им немецкий стандарт!
8. Никакого сострадания к украинцу! Вы хозяева – отныне и навсегда!»
«Работающий украинец получает по отрывным талонам двести граммов хлеба в день. Ребенок – сто граммов. Работающему – и только ему – в месяц выдаются по карточкам следующие продукты: 60 граммов масла (из расчета 2 грамма в день); 400 граммов муки, 300 граммов крупы, 1,5 килограмма мяса, 250 граммов сахара, 2 коробки спичек, 30 штук папирос».По поводу промышленных товаров директива гласила следующее:
«Если украинец пожелает купить пальто, костюм или туфли, он обязан написать мотивированное заявление управляющему домом, который должен создать комиссию для обследования заявителя: в какой мере тот нуждается в ботинках или пальто; две пары ботинок или два костюма украинцу иметь запрещено. Заключение об истинном экономическом положении заявителя и о состоянии его обуви и костюма должно быть передано в районную управу, а оттуда – с заключением авторитетного служащего (желательно завизированное немецким руководителем) – пересылается в городскую управу, которая выносит окончательное решение».Другие предписания исходили уже не от Розенберга, а из различных управлений рейхсминистерства, но все они были завизированы руководителем «украинского отдела» Смаль-Стоцким.
Предписания эти были сугубо конкретны:
«Все библиотеки сразу же закрыть. Университет не открывать. В театр разрешить вход украинцам только по вторникам и пятницам. В кинотеатры, кроме „Глории“, „Метро“ и „Коперника“, украинцам вход запрещен. Район бывших Красноармейских улиц, где размещены офицеры вермахта и СС, для украинцев закрыт. За нарушение расстрел на месте.…Прочитав эти директивы, Штирлиц какое-то время сидел оцепенев. Он еще раз посмотрел подпись Смаль-Стоцкого, и брезгливая, дергающаяся гримаса появилась на его лице.
Гетто для тех евреев, которые будут обнаружены после а к ц и й, определено в районе Подзамче. За нарушение светомаскировки расстрел. За появление на улицах после 22.00 и до 6.00 расстрел (пропуска и разрешения на перемещения по району получать на улице Чернецкого, в бывшем здании Воеводства). Всех душевнобольных в клиниках уничтожить как дармоедов. За укрывание украинских, русских коммунистов и евреев расстрел. Для вновь открываемых врачебных кабинетов, принадлежащих собственникам, установить расценки, превышать которые не разрешено: операция по удалению аппендикса не должна стоить больше 750 рублей; удаление гланд – не более 600 рублей; удаление паховой грыжи – не дороже 1500 рублей. Собственникам, открывающим аптеки, запрещено продавать лекарства по ценам выше, чем: порошок от головной боли – 13 рублей, таблетку красного стрептоцида – 25 рублей, кальцекс и аспирин – не дороже 10 рублей за один порошок. Целую упаковку (десять порошков) украинцам продавать запрещено.
Разрешить украинцам, проверенным по линии службы безопасности, открыть частные лавки и магазины. Обязать владельцев лавок и магазинов вывесить объявления на немецком и украинском языках. Обязать владельцев лавок и магазинов поместить в красном углу портрет великого фюрера германской нации и новой Европы Адольфа Гитлера».
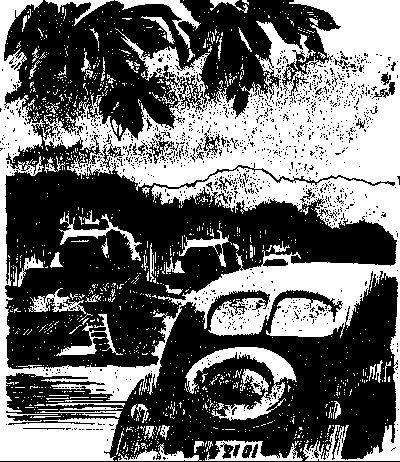
Сделав фотокопии, чтобы передать их новому своему связнику для отправки в Центр, он спрятал документы в сейф и поехал к Дицу. Он ехал по городу, облик которого за несколько дней стал иным. Он видел, как немецкие солдаты срывали таблички с названиями улиц: площадь Рынка стала Кракауэрштрассе, улица Абрагамовичей сделалась Кляйнштрассе, Пидвальна – Ам Грабен. Штирлиц ехал медленно, яростно сжимая руль, и думал о том, что сейчас надо держаться, как никогда раньше, потому что, прочитав документы Розенберга, он еще раз убедился в обреченности гитлеризма – вопрос времени, и только. А то, что первыми прольют кровь и погибнут лучшие, те, что с самого начала принимают бой со злом, – что ж, от этого не уйти.
Штирлиц рассуждал сейчас спокойно, впервые за последние дни спокойно. Он рассуждал о том, почему нацисты решили сделать ставку на мелких лавочников – не только в рейхе, но и повсюду, куда они приходили. Это только кажется, думал Штирлиц, что собственность делает человека свободным. Нет, собственность делает человека своим рабом, а разве рабы могут быть проводниками нового? Пушкин и Кант были богаче тебя, Геринг, с твоими концернами, и с твоими «народными заводами», и с твоими «народными германскими банками», потому что они были свободны в своей мысли и им было о чем мыслить, а тебе не о чем мыслить – тебе надо принимать парады люфтваффе, выслушивать доклады адъютантов, давать санкции на расстрелы, читать победные сводки, и все это подминает тебя, а в душе у тебя нет ничего, ибо ты лишен страсти познавать. Тебя ведь не интересует, есть ли конец у вселенной, а если нет, то как это уместить в разуме; тебя не интересует, что такое людская память, как она живет в веках и кто хранит ее, эту память. Глупые наци, вам не понять, что мечты детей – это будущее общества. О чем мечтают дети? Вы думали об этом в своих рейхсканцеляриях? Разве вы помните свои детские мечты? Разве вы умеете узнавать мечты своих детей? Ведь нормальные дети мечтают стать пилотами или музыкантами, хирургами или шоферами, маршалами или актерами, но никто из них не мечтает стать лавочником. Дети хотят иметь гоночный автомобиль, но не таксомоторный парк. Лавочник – раб достигнутого. Для него нет иных идеалов, кроме как удержать, сохранить, оставить все, как есть. А это невозможно в наш век – оставить все, как есть. Миру сообщена скорость, новая, особая скорость, и ее нельзя погасить, и мелкий лавочник, раб вещи, ее владелец и собственник, смешон в мире новых скоростей, которые целенаправленны, то есть идейны.
Мир определяют причина и случай. Но если причина – это свидетельство разумной необходимости, следствие развития разума, то случай чаще всего есть выражение хаоса.
Если бы ты, фюрер, служил идее серьезной, реальной, а не химерической, ты бы ставил на иных и на иное. А ты случаен, фюрер, от начала и до конца случаен, хотя кажешься сейчас таким сильным и несокрушимым, и так все орут в твою честь «хайль» и так благоговеют перед тобой. Но ведь важно быть , а не казаться, фюрер. Надейся на лавочника, фюрер, надейся! Я очень прошу тебя, считай его своей опорой. Думай, фюрер, что благополучие нескольких тысяч в многомиллионном море неблагополучия – та реальная сила, которая будет служить тебе опорой. Тысяча не может быть опорой, если дело касается миллионов. И эти миллионы должны узнать, что им приготовил твой Розенберг. И они узнают об этом. Я уж постараюсь.
Штирлиц увидел, как в тюрьму заехали три машины, три крытые машины. Штирлиц остановил свой «вандерер» у проходной, показал жетон и вошел в тюремный двор. Трупы, раздетые донага, с двумя огнестрельными ранами – на груди и голове – лежали возле стены. Деловитые эсэсовцы ходили среди трупов, переворачивали тела и склонялись над лицами. Слышался быстрый перестук металла: эсэсовцы выбивали молотками золотые коронки.
Штирлиц почувствовал дурноту, отвернулся, пошел в умывальню, ополоснул лицо студеной, с голубинкой водой и, деревянно ступая, вышел из тюрьмы. Он долго сидел в машине, не в силах повернуть ключ зажигания. А потом он приказал себе ехать к Мельнику, говорить с Дицем, писать рапорт Шелленбергу – надо было работать, чтобы все знать и все помнить. Это очень плохое качество – месть, но если за все это не придет возмездие, тогда мир кончится, и дети будут рождаться четвероногими, и исчезнет музыка, и не станет солнца, и будет вечная, черная, беззвездная ночь. Память хранят люди и выражают ее борьбою, когда иначе поступать нельзя, ибо во всем, всегда и для каждого есть предел.
Берлин – Львов
1973
