Страница:
В машине он, наоборот, замер, словно бы оцепенел, впившись пальцами в холодную баранку, и сидел так с минуту. Он думал о том, где сейчас Диц может быть с Еленой. Он не мог ошибиться. Лицо Дица, чувственное и тяжелое, было так полно нетерпения и похоти, когда он пил якоби.
«Дурашка. Он решил, что мы с ним пришли сюда с одним и тем же делом, — рассуждал Штирлиц. — Поэтому он обратился ко мне. Он все рассчитывает по своей логике и в меру своих умственных возможностей. Он вправе, конечно, вербовать эту Елену — находка невелика, хотя, может, и похвалят за расширение агентурной сети. Но если я прав и если ты поволок в постель эту бабу, которая очень не любит своего мужа, тогда ты станешь моим рабом, Диц. За связь с иностранкой полагается партийный суд. Если я сделаю то, что я решил сделать, тогда мне не будут страшны твои холодные вопросы о Магде и твоя проклятая зрительная память, будь она неладна, и весь ты — более того, ты очень будешь нужен мне в ближайшие дни, как никто другой, Диц».
Штирлиц должен был рассчитать, куда Диц повез Елену. Конспиративные квартиры гестапо на Пачлиньской и Славковской были забиты бандеровцами и мельниковцами. Организационные вопросы решались в краковском управлении гестапо — туда оуновцев не допускали. Когда Штирлиц однажды спросил Дица, надежно ли в их офицерской гостинице на Плянтах, что напротив Вавеля, тот ответил, что самое надежное место именно в этом отеле — никто из посторонних не имеет права входа, «только в сопровождении наших людей».
Штирлиц включил зажигание, медленно закурил и поехал в отель.
Портье он спросил рассеянно, скрывая зевоту:
— Оберштурмбанфюрер Диц уже у себя?
— Он пришел двадцать минут тому назад, господин Штирлиц. Он просил предупредить, что будет занят по работе полчаса. — Портье глянул на часы. — Соединить?
— Нет, нет. Благодарю вас. Я подожду его у себя.
Штирлиц похлопал себя по карманам, сосредоточенно нахмурился, снова похлопал себя по карманам, досадливо щелкнул пальцами:
— Черт возьми, мой ключ остался на работе… У вас есть ключ ко всем дверям, нет?
— Да, конечно.
— Дайте, пожалуйста, на минуту ваш ключ.
— Я открою вам дверь, оберштурмбанфюрер…
— Дайте ключ, — повторил Штирлиц, — не уходите с поста, я сам умею открывать двери.
В их гостинице были особые замки; изнутри вместо скважинки — кнопка. Ключ, таким образом, внутри оставить нельзя. Нажмешь изнутри кнопку — дверь заперта, повернешь ключ снаружи — открыта.
Штирлиц подошел к двери того номера, где жил Диц, и прислушался: было включено радио, передавали концерт Брамса.
«Кажется, третий», — машинально отметил Штирлиц и мягко повернул ключ, который подходил ко всем дверям — в военных гостиницах было вменено в обязанность иметь такой универсальный ключ. Он вошел в маленькую темную прихожую тихо, на цыпочках. Музыка неслась из комнаты, одна лишь музыка. Штирлиц рывком распахнул дверь. С большой тахты взметнулся Диц, который показался сейчас Штирлицу рыхлым и нескладным: в форме он всегда был подтянут. Елена медленно натягивала на себя простыню. Диц выскочил в прихожую — лицо его стало багровым.
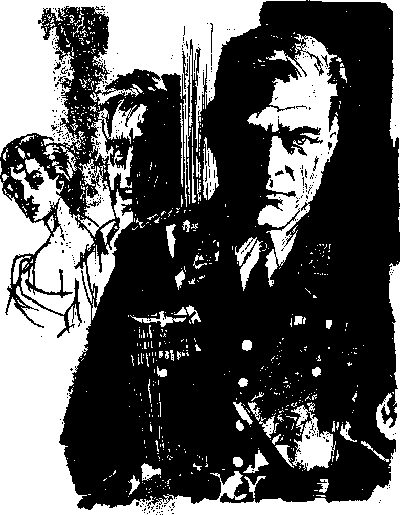
— Бога ради, извините, — сказал Штирлиц. — Там Омельченко устраивает истерику…
— Штирлиц, слушайте, — Диц растерянно потер щеки, и на них остались белые полосы, — слушайте, это какой-то бред.
Штирлиц похлопал его по плечу:
— Продолжайте работу. И поскорее возвращайтесь.
— Штирлиц, что у вас в кармане? Вы фотографировали? Слушайте, не делайте подлости, я же вам ваш товарищ…
— Заканчивайте работу, — повторил Штирлиц, — и поскорее возвращайтесь. Потом поговорим. Ладно?
— Погодите, поймите же, — забормотал Диц, но Штирлиц не стал его слушать, повернулся и вышел.
…Он долго сидел за рулем, ощутив страшную усталость. Он затеял драку, и он победил в первом раунде, получив такого врага, который теперь не остановится ни перед чем.
«Неверно, — возразил себе Штирлиц. — Не надо придумывать человека, исходя из собственного опыта. Люди разные, и, если проецировать на себя каждого, с кем сводит жизнь, тогда можно наломать много дров и провалить все дело. Нет, он раздавлен теперь. Он будет другим, хотя постарается казаться прежним. Он будет успокаивать себя тем, что я был один, без свидетелей; он будет убеждать себя, что показания Елены, если ее вызовут, не примут во внимание — какая-то полурусская украинка, ей нет веры. Но это все будет на поверхности его сознания. Внутри он уже сломлен. Он станет гнать от себя эту мысль. И я должен помочь ему в этом. Я должен сделать так, чтобы он испытывал ко мне благодарность — как арестанты, которых они готовят к процессу: те тоже начинают любить своих следователей и верить им».
…Вернувшись в клуб, Штирлиц сказал Омельченко, что он вынужден откланяться в связи со срочными делами, а господин Диц и Елена едут следом: она хотела посмотреть вечерний город.
— Пойдем, Магда, — сказал Штирлиц, протянув женщине руку, — пойдем, голубчик.
Он долго возил ее в машине по городу, не говоря ни слова, — просто крутил по красивым, опустевшим уже (комендантский час) улицам и ощущал в себе покой, потому что она была рядом и Диц теперь не посмеет его спросить, что это за женщина, каких она кровей, чем занимается и часто ли путешествует. Он мог бы, конечно, и не ответить, но в таком случае Диц получит основание обратиться за санкцией к руководству — выяснить самому, что это была за женщина, каких кровей, откуда и почему. И он бы выяснил. Это уж точно.
На берегу Вислы Штирлиц остановил машину, оперся подбородком на руль, вздохнул прерывисто и, кивнув головой, сказал:
— Смотрите на воду — здесь поразительно отражаются звезды. Они плывут.
«Я должен был накормить ее, — внезапно подумал Штирлиц, словно бы продолжая спор с самим собой, такой спор, который продолжать не хочешь и боишься того момента, когда этот спор начнется снова. — Только поэтому я повел ее туда. Только поэтому, — повторил он себе, стараясь заглушить другие слова, которые были в нем до того, как он произнес эти, самооправдывающие, и он услыхал эти слова именно потому, что не хотел их слышать. — Ты привел ее туда от отчаяния, вот почему ты привел ее, Максим. Она как пуповина для тебя, она связь, а тебе сейчас очень страшно, и ты мечешься, ты в панике, оттого что не знаешь, как сделать так, чтобы тебя услышали. И тебе было очень страшно все это время — до тех пор, пока не приехала Магда. Магда? Да какая она Магда?! Никакая она не Магда. И давай больше не врать друг другу. Для того, чтобы врать другим, нужна хорошая память, а себе врать слишком опасно: можно кончить в доме умалишенных».
Словно угадавего, Магда тихо сказала:
— Поворачивайтесь спиной — я как следует помассирую вам шею, бедненький вы мой…
ГАННА ПРОКОПЧУК (IV)
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
«Дурашка. Он решил, что мы с ним пришли сюда с одним и тем же делом, — рассуждал Штирлиц. — Поэтому он обратился ко мне. Он все рассчитывает по своей логике и в меру своих умственных возможностей. Он вправе, конечно, вербовать эту Елену — находка невелика, хотя, может, и похвалят за расширение агентурной сети. Но если я прав и если ты поволок в постель эту бабу, которая очень не любит своего мужа, тогда ты станешь моим рабом, Диц. За связь с иностранкой полагается партийный суд. Если я сделаю то, что я решил сделать, тогда мне не будут страшны твои холодные вопросы о Магде и твоя проклятая зрительная память, будь она неладна, и весь ты — более того, ты очень будешь нужен мне в ближайшие дни, как никто другой, Диц».
Штирлиц должен был рассчитать, куда Диц повез Елену. Конспиративные квартиры гестапо на Пачлиньской и Славковской были забиты бандеровцами и мельниковцами. Организационные вопросы решались в краковском управлении гестапо — туда оуновцев не допускали. Когда Штирлиц однажды спросил Дица, надежно ли в их офицерской гостинице на Плянтах, что напротив Вавеля, тот ответил, что самое надежное место именно в этом отеле — никто из посторонних не имеет права входа, «только в сопровождении наших людей».
Штирлиц включил зажигание, медленно закурил и поехал в отель.
Портье он спросил рассеянно, скрывая зевоту:
— Оберштурмбанфюрер Диц уже у себя?
— Он пришел двадцать минут тому назад, господин Штирлиц. Он просил предупредить, что будет занят по работе полчаса. — Портье глянул на часы. — Соединить?
— Нет, нет. Благодарю вас. Я подожду его у себя.
Штирлиц похлопал себя по карманам, сосредоточенно нахмурился, снова похлопал себя по карманам, досадливо щелкнул пальцами:
— Черт возьми, мой ключ остался на работе… У вас есть ключ ко всем дверям, нет?
— Да, конечно.
— Дайте, пожалуйста, на минуту ваш ключ.
— Я открою вам дверь, оберштурмбанфюрер…
— Дайте ключ, — повторил Штирлиц, — не уходите с поста, я сам умею открывать двери.
В их гостинице были особые замки; изнутри вместо скважинки — кнопка. Ключ, таким образом, внутри оставить нельзя. Нажмешь изнутри кнопку — дверь заперта, повернешь ключ снаружи — открыта.
Штирлиц подошел к двери того номера, где жил Диц, и прислушался: было включено радио, передавали концерт Брамса.
«Кажется, третий», — машинально отметил Штирлиц и мягко повернул ключ, который подходил ко всем дверям — в военных гостиницах было вменено в обязанность иметь такой универсальный ключ. Он вошел в маленькую темную прихожую тихо, на цыпочках. Музыка неслась из комнаты, одна лишь музыка. Штирлиц рывком распахнул дверь. С большой тахты взметнулся Диц, который показался сейчас Штирлицу рыхлым и нескладным: в форме он всегда был подтянут. Елена медленно натягивала на себя простыню. Диц выскочил в прихожую — лицо его стало багровым.
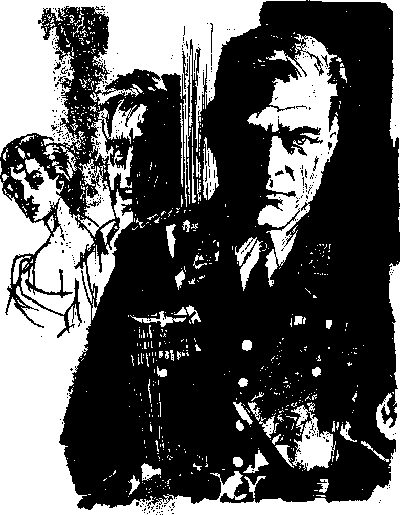
— Бога ради, извините, — сказал Штирлиц. — Там Омельченко устраивает истерику…
— Штирлиц, слушайте, — Диц растерянно потер щеки, и на них остались белые полосы, — слушайте, это какой-то бред.
Штирлиц похлопал его по плечу:
— Продолжайте работу. И поскорее возвращайтесь.
— Штирлиц, что у вас в кармане? Вы фотографировали? Слушайте, не делайте подлости, я же вам ваш товарищ…
— Заканчивайте работу, — повторил Штирлиц, — и поскорее возвращайтесь. Потом поговорим. Ладно?
— Погодите, поймите же, — забормотал Диц, но Штирлиц не стал его слушать, повернулся и вышел.
…Он долго сидел за рулем, ощутив страшную усталость. Он затеял драку, и он победил в первом раунде, получив такого врага, который теперь не остановится ни перед чем.
«Неверно, — возразил себе Штирлиц. — Не надо придумывать человека, исходя из собственного опыта. Люди разные, и, если проецировать на себя каждого, с кем сводит жизнь, тогда можно наломать много дров и провалить все дело. Нет, он раздавлен теперь. Он будет другим, хотя постарается казаться прежним. Он будет успокаивать себя тем, что я был один, без свидетелей; он будет убеждать себя, что показания Елены, если ее вызовут, не примут во внимание — какая-то полурусская украинка, ей нет веры. Но это все будет на поверхности его сознания. Внутри он уже сломлен. Он станет гнать от себя эту мысль. И я должен помочь ему в этом. Я должен сделать так, чтобы он испытывал ко мне благодарность — как арестанты, которых они готовят к процессу: те тоже начинают любить своих следователей и верить им».
…Вернувшись в клуб, Штирлиц сказал Омельченко, что он вынужден откланяться в связи со срочными делами, а господин Диц и Елена едут следом: она хотела посмотреть вечерний город.
— Пойдем, Магда, — сказал Штирлиц, протянув женщине руку, — пойдем, голубчик.
Он долго возил ее в машине по городу, не говоря ни слова, — просто крутил по красивым, опустевшим уже (комендантский час) улицам и ощущал в себе покой, потому что она была рядом и Диц теперь не посмеет его спросить, что это за женщина, каких она кровей, чем занимается и часто ли путешествует. Он мог бы, конечно, и не ответить, но в таком случае Диц получит основание обратиться за санкцией к руководству — выяснить самому, что это была за женщина, каких кровей, откуда и почему. И он бы выяснил. Это уж точно.
На берегу Вислы Штирлиц остановил машину, оперся подбородком на руль, вздохнул прерывисто и, кивнув головой, сказал:
— Смотрите на воду — здесь поразительно отражаются звезды. Они плывут.
«Я должен был накормить ее, — внезапно подумал Штирлиц, словно бы продолжая спор с самим собой, такой спор, который продолжать не хочешь и боишься того момента, когда этот спор начнется снова. — Только поэтому я повел ее туда. Только поэтому, — повторил он себе, стараясь заглушить другие слова, которые были в нем до того, как он произнес эти, самооправдывающие, и он услыхал эти слова именно потому, что не хотел их слышать. — Ты привел ее туда от отчаяния, вот почему ты привел ее, Максим. Она как пуповина для тебя, она связь, а тебе сейчас очень страшно, и ты мечешься, ты в панике, оттого что не знаешь, как сделать так, чтобы тебя услышали. И тебе было очень страшно все это время — до тех пор, пока не приехала Магда. Магда? Да какая она Магда?! Никакая она не Магда. И давай больше не врать друг другу. Для того, чтобы врать другим, нужна хорошая память, а себе врать слишком опасно: можно кончить в доме умалишенных».
Словно угадавего, Магда тихо сказала:
— Поворачивайтесь спиной — я как следует помассирую вам шею, бедненький вы мой…
* * *
(В шифровке Центра, которую Магда передала Штирлицу, говорилось следующее:
«Найдите возможность локализовать действия террористов „Нахтигаля“, внимательно просмотрите линию взаимоотношений Оберлендера с гестапо. Можете предпринимать шаги против „Нахтигаля“, сообразуясь с обстановкой на месте. По нашим сведениям, между абвером и СД существуют тактические расхождения во взглядах на функции „Нахтигаля“. Смысл этих расхождений нам до конца не известен. Однако можно предположить, что СД не хочет отдавать свои права кому бы то ни было, в чем бы то ни было и где бы то ни было. Постарайтесь также выяснить взаимоотношения, сложившиеся между СД и сотрудниками иностранного отдела НСДАП.
А л е к с».)
* * *
«Бригадефюреру СС Шелленбергу.
Строго секретно, лично.
По сведениям, полученным мною от Омельченко, руководители «Нахтигаля» стараются присвоить себе право карать и вершить суд на украинских территориях, подлежащих колонизации. Поскольку это входит в противоречие с доктриной великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера, подчеркивавшего, что право карать поверженных принадлежит только германским властям, прошу санкции на действия.
Оберштурмбанфюрер СС Штирлиц».
«Штирлицу.
По прочтении сжечь.
Запрещаю предпринимать какие-либо действия против «Нахтигаля» — впредь до особых указаний. Сообщите позиции чиновников иностранного отдела НСДАП и сотрудников министерства восточных территорий в связи с этим вновь открывшимся обстоятельством. Выясните, является ли намерение ОУН присвоить себе карательные функции инициативой Оберлендера, или он действует, консультируясь с соответствующими службами НСДАП.
Шелленберг».
«Бригадефюреру СС Шелленбергу.
По моим сведениям, Оберлендер поддерживает постоянные контакты с полковником абвера Лахузеном. Его связи с гестапо (Диц) или Фохтом (мин. вост. территорий) мне неизвестны.
Оберштурмбанфюрер СС Штирлиц».
«Штирлицу.
По прочтении сжечь.
Собирайте все факты, имеющие отношение к этому вопросу. Сообщайте обо всех попытках Оберлендера считать себя персоной, претендующей на самостоятельность. Какие-либо акции без соответствующего на то указания запрещаю.
Шелленберг».
«Алексу.
Получил задание Шелленберга тщательно изучать претензии шефа «Нахтигаля» Оберлендера на самостоятельность и на право карательных функций без утверждения РСХА. Какие-либо действия без его санкций запрещены.
Юстас».
«Юстасу.
Выполняя распоряжение Шелленберга, предпринимайте всевозможные шаги для того, чтобы скомпрометировать «Нахтигаль» в глазах СД.
Алекс».
«Бригадефюреру СС Шелленбергу.
Строго секретно, лично.
По моим сведениям, оберштурмбанфюрер Диц (IV управление РСХА) имеет постоянные доверительные контакты с Мельником. Можно через Дица точно выяснить намерения легионеров «Нахтигаля». Следует ли мне подключиться к Дицу?
Оберштурмбанфюрер СС Штирлиц».
«Штирлицу.
По прочтении сжечь.
От совместной работы с Дицем воздержитесь. Выполняйте возложенное на вас поручение — держать руку на пульсе событий и постоянно информировать меня о новостях. Помните, что легион «Нахтигаль» нужен нам как послушное орудие террора. Все, что мешает этому, будет предметом особого рассмотрения.
Шелленберг».
ГАННА ПРОКОПЧУК (IV)
Когда вагон второго класса, в котором ехали специалисты, пересек границу Германии и «зоны» (так называлась оккупированная часть Франции), вошел длинный человек со значком национал-социалистской партии на лацкане серого пиджака, раскрыл папку и приказал — без всяких привычных «битте»:
— Семейные — налево, мужчины — направо, дамы — ко мне.
Он начал выкрикивать фамилии — так же резко и деревянно, и после каждого его выкрика и тихого ответа выкликаемых возникала тяжелая тишина, и было слышно пыхтение паровозов на путях, и Ганна представила себе, как вырывается тугая струя белого пара, и вспомнила, что в детстве ей казалось, будто именно этими струями паровоз отталкивается от земли, набирая скорость.
Напряженная тишина возникала оттого, что немец долго отмечал в своем списке выкликаемых, делая быстрые, но довольно подробные записи в маленьком блокноте, и Ганна не могла понять, почему он так долго пишет: что можно написать, выслушав имя и фамилию человека?
«У них ужасно длинные слова, — успокоила она себя. — Кажется, Марк Твен написал: „Если смотреть на немецкое слово прищурившись, то оно будет похоже на бесконечный рельс“. Я, наверное, думаю про их длинные слова потому, что ужасно боюсь. Я трусиха, и мне сейчас невесть какой ужас мерещится. Но тот парижский чиновник был такой милый, в конце концов, если что-то будет не так, я напишу ему — он ведь оставил свой адрес. Ничего, потрясусь немного, зато скоро поеду к мальчикам, ничего».
Кончив выкликать специалистов, словно новобранцев на первом построении, немец приказал взять вещи:
— Дальше вы поедете другим поездом.
Их поместили в теплушки с высокими, зарешеченными окнами, и здесь только все поняли, что ждет их не «творчество на любимом поприще», а нечто совсем другое, и тихо стало, так тихо, что, казалось, слышно было, как медленно текли крупные горькие слезы по щекам…
Ганну привезли в городок под Берлином, отбив, словно теленка в стаде, от остальных специалистов. Поселили ее в маленькой комнате в деревянном бараке — окна без решеток, умывальник в конце холодного — даже в полуденную жару — коридора, а туалет — на пыльном, без единого деревца дворе.
Жила в этом бараке Ганна одна. Перед тем как выдать ключ, с нее взяли подписку, запрещавшую ей вступать в «половую связь с арийцами и беременеть от иностранцев». Она сначала не могла понять смысла напечатанного, как тогда, в редакции у Богдановича, когда она должна была вслух прочитать статью, чтобы поверить в реальность литер, сложенных в слова и фразы.
Питалась она в архитектурной мастерской, где ей отвели место в отдельной маленькой комнате с большим, светлым окном. На завтрак давали чашку кофе с одним куском сахара, ломоть хлеба и порцию мармелада; немецким архитекторам давали три куска сахара, порцию масла и ломтик сыра. На обед она получала миску супа, сваренного из старых овощей, и картофельное пюре, политое соусом; немцы получали мясо. Ужинать ей разрешалось дома: два куска сахара, хлеб и через день пайка масла.
Вскоре Ганна так похудела, что была вынуждена купить новое платье. Начальник мастерской герр Эссен, который первое время давал Ганне проектировать узлы непонятных ей длинных зданий, выслушав просьбу женщины, пообещал помочь ей и этим же вечером дал пропуск на выход в город и две синенькие карточки для приобретения «промышленных товаров на сумму пятнадцать марок».
— Деньги будете получать раз в месяц, — сказал он. — Карточки на промышленные товары (его французский язык был чудовищным) для иностранных специалистов мы также выделяем раз в месяц. Продуктов питания вам, вероятно, хватает, так что дополнительные талоны на еду вам не нужны. Карточки на сигареты и спички — вы, я заметил, неравнодушны к табаку — я постараюсь достать для вас.
— Мне обещали в Париже, что я смогу начать поиск моих детей.
— Какие дети? — удивился Эссен. — Мне ничего об этом неизвестно…
— Мои дети остались в По… в генерал-губернаторстве.
— Ну и что?
— Я согласилась приехать сюда, потому что в Париже господин из военной комендатуры пообещал помочь, если я уеду в Германию.
— Хорошо. Мы запросим Париж. Теперь по поводу работы, фрау Прокопчук. Я доволен вашей работой. Я знал ваши проекты еще до войны — они интересны. Сейчас вы упорно облегчаете те конструкции, которые я прошу вас прикинуть, в то время как мы, архитектурная мастерская СС, должны думать не об ажурной и солнечной легкости помещений, а об их прочности и устрашающей мощи.
— Я не умею работать иначе. Я привыкла ловить солнце.
Эссен чуть улыбнулся:
— Мы будем вместе ловить солнце, когда уничтожим врагов рейха. Видимо, стоит показать вам несколько наших объектов, фрау Прокопчук. Вы тогда сможете понять, чего мы ждем от вас.
— Когда можно надеяться на ответ из Парижа?
— Я запрошу Париж на этой неделе. Как ваша комната? Не холодна?
— Наоборот, ночью страшная духота, крыша так раскаляется за день…
— Да, необычайно жаркий июнь… Завтра я постараюсь достать для вас разрешение на вход в городской кинотеатр — есть один сеанс, куда можно приходить иностранцам. Только не смотрите тяжелые фильмы, пожалуйста: у вас и так глаза часто бывают припухшими. Плачем? Не можем привыкнуть к новому месту? Ничего, крепитесь. Вам надо приспособиться к новым условиям как можно скорее — это в ваших же интересах.
…В кинотеатре, куда ей действительно выдали пропуск, демонстрировали сентиментальный фильм о немецкой семье: глава семьи, увлекается другой, но другая, как истинный член НСДАП, не может лишать маленьких арийцев семьи, и паппи постепенно начинает понимать, что лучше мутти никого нет, и лучше другой — тоже никого нет, и вообще в рейхе живут самые замечательные и добрые люди, мало ли что случается, самое важное ведь итог — никто не нашумел сверх меры, никого не растоптали, все хорошо все на месте.
…Ганна вышла в сухое тепло улицы, и ее замутило после липкой духоты зала, где люди неотрывно следили за происходящим на экране. Некоторые, что постарше, то и дело вытирали глаза. Особенно часто стали вытирать глаза, когда паппи пришел в спальню к сыну и мальчик в ночной рубашке потянулся к отцу и обнял его шею толстыми, словно перевязанными, ручонками.
«Толстой написал это один раз и во имя святого, — подумала Ганна. — Как много к святому пристает грязи и безвкусицы… Я бы тоже должна заплакать, потому что ручки у маленького, как у Никитки, но у меня не было слез, а только ощущение грязи и нечестности. Добро обязано порождать добро, а здесь зло, слюнявое и жестокое по отношению к свободному человеку. Как трудно жить на этой земле, милостивый боже мой, как трудно… Нет, добро не может рождать зло. Только зло рождает зло. Ты живешь спокойно и счастливо, но тебя незаслуженно обидели, ударили, и ты ответила на удар, и конец спокойствию! Ты должна готовиться к тому, что тебя снова стукнут, и ты загодя думаешь о том, как защитить себя, как стать сильнее и жестче. Непротивление — это попытка создать универсальный рецепт счастья. Один ведь миг: надо пережить обиду, погасить зло, заставить себя не думать о мщении, и жизнь твоя будет по-прежнему счастливой. Смири я тогда гордыню, останься в Кракове — мальчики были бы со мной. Но это мое, маленькое добро, — возразила себе Ганна, — а в мире так много зла, которое мне неподвластно: разве я смогла бы спасти Варшаву от бомб? Все устроено так, чтобы зло соседствовало с добром, а добро всегда слабее и беззащитней…»
Она миновала маленькую площадь сонного городка и свернула по аллее, которая вела в лес. Здесь было тихо, и если идти, чуть подавшись вперед, заложив руки за спину, то можно вдыхать поднимающийся от земли запах — точно так же пахло в кабинете электротерапии у доктора Пернье, который лечил хронические простуды сеансами «горного солнца».
«Земля отдает себя солнцу по утрам. Днем она вбирает в себя солнце, а ночью ждет его: платоническая любовь, верно, должна быть именно такой», — подумала Ганна и замерла — два огромных, испуганных и одновременно любопытных глаза смотрели на нее из-за кустов. Глаза были подвижны и широко, по-детски раскрыты.
— Здравствуй, — шепнула Ганна, чувствуя, как в ней разлилось щемящее, забытое тепло, — не бойся меня, пожалуйста.
Коза сделала прыжок в сторону, но не убежала.
— Ну что ты, дурочка?
Бока у животного странно вздрагивали, словно коза задыхалась от волнения. Ганна поняла, отчего так судорожно вздымались бока козы: в трех шагах от дороги стоял козленок — совсем еще крохотный, на огромных, голенастых ногах.
— Ах ты, маленький, — прошептала Ганна и потянулась к козленку, родившемуся, видно, совсем недавно.
Козленок отскочил от нее боком, словно котенок, остановился, замерев, и снова уставился на женщину синими молочными глазищами, поводя плюшевым пятачком носа.
И вдруг Ганна услышала лес: она только сейчас могла понять, что та тишина, которая, казалось, окружает ее, на самом деле живет и радуется тому, что живет: свистели дрозды, носились по веткам желтогрудые синицы, стучал дятел.
«Надо было все эти годы брать мальчиков в лес, — подумала Ганна, посмотрев на то место, где еще мгновение назад стоял козленок. Сейчас там колыхалась трава, и не было уже синих глаз и мягкого вздрагивающего носа. — Надо было водить их в зоопарк, любоваться тем, как они завороженно смотрят на зверей, и сердце бы сжималось от счастья, и я бы стала очень талантливой, потому что только счастье твоих детей может дать истинное ощущение высокого покоя, а лишь это и есть истинный подступ к творчеству. Пусть бы я делала свое дело дома, пусть бы все мои замыслы реализовались потом, пусть бы их реализовали мальчики: ведь настоящее счастье — это когда ты только задумываешь, носишь в себе опасливо, по частям отдаешь это задуманное ватману… Потом начинается гадость — согласование, подбор металла и мрамора, торговля с поставщиками, доказательство своей правоты заказчику… Мы обкрадываем себя, когда мало бываем с детьми. Надо ходить с ними в театр, гулять в парках, наблюдать, как они строят из песка свои замки. Бабки, которые выводят маленьких, думают о своем, и нет для них чуда в том, как ребенок пыхтит над песчаным замком и как он смотрит на летящую птицу, — старики считают, что они постигли суть жизни, потому что прожили ее. А ведь на самом деле все совсем наоборот: суть жизни лучше всего ощущает новорожденный. Чем мы делаемся взрослее, тем больше мы сужаем мир, ограничиваем самих себя нормами морали, своими страхами, рожденными силой и злом».
Ганна села на пенек, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Мягкое тепло его доверчиво накрыло веки, лоб, губы.
«Наверное, надо меньше двигаться, — подумала она, — я раньше слишком много двигалась, только сейчас, случайно, поняла, что такое истинная ласка солнца. Я всегда торопилась с д е л а т ь. Нужно ли? Если мы странники, которым позволили ненадолго войти сюда, в этот мир, так, может, лучше ждать конца, наслаждаясь тем, что отпущено?»
Она долго сидела под солнцем на сосновом пеньке, и в душе у нее было спокойствие, потому что здесь, в тишине леса, она поверила, что с прежним все покончено, что теперь она другая, а значит, мальчики будут с ней, ведь все-таки справедливость есть в мире, ведь справедливо было то, что она повстречала в лесу новорожденного козленка, а не человека, в руке которого могло быть ружье…
— Семейные — налево, мужчины — направо, дамы — ко мне.
Он начал выкрикивать фамилии — так же резко и деревянно, и после каждого его выкрика и тихого ответа выкликаемых возникала тяжелая тишина, и было слышно пыхтение паровозов на путях, и Ганна представила себе, как вырывается тугая струя белого пара, и вспомнила, что в детстве ей казалось, будто именно этими струями паровоз отталкивается от земли, набирая скорость.
Напряженная тишина возникала оттого, что немец долго отмечал в своем списке выкликаемых, делая быстрые, но довольно подробные записи в маленьком блокноте, и Ганна не могла понять, почему он так долго пишет: что можно написать, выслушав имя и фамилию человека?
«У них ужасно длинные слова, — успокоила она себя. — Кажется, Марк Твен написал: „Если смотреть на немецкое слово прищурившись, то оно будет похоже на бесконечный рельс“. Я, наверное, думаю про их длинные слова потому, что ужасно боюсь. Я трусиха, и мне сейчас невесть какой ужас мерещится. Но тот парижский чиновник был такой милый, в конце концов, если что-то будет не так, я напишу ему — он ведь оставил свой адрес. Ничего, потрясусь немного, зато скоро поеду к мальчикам, ничего».
Кончив выкликать специалистов, словно новобранцев на первом построении, немец приказал взять вещи:
— Дальше вы поедете другим поездом.
Их поместили в теплушки с высокими, зарешеченными окнами, и здесь только все поняли, что ждет их не «творчество на любимом поприще», а нечто совсем другое, и тихо стало, так тихо, что, казалось, слышно было, как медленно текли крупные горькие слезы по щекам…
Ганну привезли в городок под Берлином, отбив, словно теленка в стаде, от остальных специалистов. Поселили ее в маленькой комнате в деревянном бараке — окна без решеток, умывальник в конце холодного — даже в полуденную жару — коридора, а туалет — на пыльном, без единого деревца дворе.
Жила в этом бараке Ганна одна. Перед тем как выдать ключ, с нее взяли подписку, запрещавшую ей вступать в «половую связь с арийцами и беременеть от иностранцев». Она сначала не могла понять смысла напечатанного, как тогда, в редакции у Богдановича, когда она должна была вслух прочитать статью, чтобы поверить в реальность литер, сложенных в слова и фразы.
Питалась она в архитектурной мастерской, где ей отвели место в отдельной маленькой комнате с большим, светлым окном. На завтрак давали чашку кофе с одним куском сахара, ломоть хлеба и порцию мармелада; немецким архитекторам давали три куска сахара, порцию масла и ломтик сыра. На обед она получала миску супа, сваренного из старых овощей, и картофельное пюре, политое соусом; немцы получали мясо. Ужинать ей разрешалось дома: два куска сахара, хлеб и через день пайка масла.
Вскоре Ганна так похудела, что была вынуждена купить новое платье. Начальник мастерской герр Эссен, который первое время давал Ганне проектировать узлы непонятных ей длинных зданий, выслушав просьбу женщины, пообещал помочь ей и этим же вечером дал пропуск на выход в город и две синенькие карточки для приобретения «промышленных товаров на сумму пятнадцать марок».
— Деньги будете получать раз в месяц, — сказал он. — Карточки на промышленные товары (его французский язык был чудовищным) для иностранных специалистов мы также выделяем раз в месяц. Продуктов питания вам, вероятно, хватает, так что дополнительные талоны на еду вам не нужны. Карточки на сигареты и спички — вы, я заметил, неравнодушны к табаку — я постараюсь достать для вас.
— Мне обещали в Париже, что я смогу начать поиск моих детей.
— Какие дети? — удивился Эссен. — Мне ничего об этом неизвестно…
— Мои дети остались в По… в генерал-губернаторстве.
— Ну и что?
— Я согласилась приехать сюда, потому что в Париже господин из военной комендатуры пообещал помочь, если я уеду в Германию.
— Хорошо. Мы запросим Париж. Теперь по поводу работы, фрау Прокопчук. Я доволен вашей работой. Я знал ваши проекты еще до войны — они интересны. Сейчас вы упорно облегчаете те конструкции, которые я прошу вас прикинуть, в то время как мы, архитектурная мастерская СС, должны думать не об ажурной и солнечной легкости помещений, а об их прочности и устрашающей мощи.
— Я не умею работать иначе. Я привыкла ловить солнце.
Эссен чуть улыбнулся:
— Мы будем вместе ловить солнце, когда уничтожим врагов рейха. Видимо, стоит показать вам несколько наших объектов, фрау Прокопчук. Вы тогда сможете понять, чего мы ждем от вас.
— Когда можно надеяться на ответ из Парижа?
— Я запрошу Париж на этой неделе. Как ваша комната? Не холодна?
— Наоборот, ночью страшная духота, крыша так раскаляется за день…
— Да, необычайно жаркий июнь… Завтра я постараюсь достать для вас разрешение на вход в городской кинотеатр — есть один сеанс, куда можно приходить иностранцам. Только не смотрите тяжелые фильмы, пожалуйста: у вас и так глаза часто бывают припухшими. Плачем? Не можем привыкнуть к новому месту? Ничего, крепитесь. Вам надо приспособиться к новым условиям как можно скорее — это в ваших же интересах.
…В кинотеатре, куда ей действительно выдали пропуск, демонстрировали сентиментальный фильм о немецкой семье: глава семьи, увлекается другой, но другая, как истинный член НСДАП, не может лишать маленьких арийцев семьи, и паппи постепенно начинает понимать, что лучше мутти никого нет, и лучше другой — тоже никого нет, и вообще в рейхе живут самые замечательные и добрые люди, мало ли что случается, самое важное ведь итог — никто не нашумел сверх меры, никого не растоптали, все хорошо все на месте.
…Ганна вышла в сухое тепло улицы, и ее замутило после липкой духоты зала, где люди неотрывно следили за происходящим на экране. Некоторые, что постарше, то и дело вытирали глаза. Особенно часто стали вытирать глаза, когда паппи пришел в спальню к сыну и мальчик в ночной рубашке потянулся к отцу и обнял его шею толстыми, словно перевязанными, ручонками.
«Толстой написал это один раз и во имя святого, — подумала Ганна. — Как много к святому пристает грязи и безвкусицы… Я бы тоже должна заплакать, потому что ручки у маленького, как у Никитки, но у меня не было слез, а только ощущение грязи и нечестности. Добро обязано порождать добро, а здесь зло, слюнявое и жестокое по отношению к свободному человеку. Как трудно жить на этой земле, милостивый боже мой, как трудно… Нет, добро не может рождать зло. Только зло рождает зло. Ты живешь спокойно и счастливо, но тебя незаслуженно обидели, ударили, и ты ответила на удар, и конец спокойствию! Ты должна готовиться к тому, что тебя снова стукнут, и ты загодя думаешь о том, как защитить себя, как стать сильнее и жестче. Непротивление — это попытка создать универсальный рецепт счастья. Один ведь миг: надо пережить обиду, погасить зло, заставить себя не думать о мщении, и жизнь твоя будет по-прежнему счастливой. Смири я тогда гордыню, останься в Кракове — мальчики были бы со мной. Но это мое, маленькое добро, — возразила себе Ганна, — а в мире так много зла, которое мне неподвластно: разве я смогла бы спасти Варшаву от бомб? Все устроено так, чтобы зло соседствовало с добром, а добро всегда слабее и беззащитней…»
Она миновала маленькую площадь сонного городка и свернула по аллее, которая вела в лес. Здесь было тихо, и если идти, чуть подавшись вперед, заложив руки за спину, то можно вдыхать поднимающийся от земли запах — точно так же пахло в кабинете электротерапии у доктора Пернье, который лечил хронические простуды сеансами «горного солнца».
«Земля отдает себя солнцу по утрам. Днем она вбирает в себя солнце, а ночью ждет его: платоническая любовь, верно, должна быть именно такой», — подумала Ганна и замерла — два огромных, испуганных и одновременно любопытных глаза смотрели на нее из-за кустов. Глаза были подвижны и широко, по-детски раскрыты.
— Здравствуй, — шепнула Ганна, чувствуя, как в ней разлилось щемящее, забытое тепло, — не бойся меня, пожалуйста.
Коза сделала прыжок в сторону, но не убежала.
— Ну что ты, дурочка?
Бока у животного странно вздрагивали, словно коза задыхалась от волнения. Ганна поняла, отчего так судорожно вздымались бока козы: в трех шагах от дороги стоял козленок — совсем еще крохотный, на огромных, голенастых ногах.
— Ах ты, маленький, — прошептала Ганна и потянулась к козленку, родившемуся, видно, совсем недавно.
Козленок отскочил от нее боком, словно котенок, остановился, замерев, и снова уставился на женщину синими молочными глазищами, поводя плюшевым пятачком носа.
И вдруг Ганна услышала лес: она только сейчас могла понять, что та тишина, которая, казалось, окружает ее, на самом деле живет и радуется тому, что живет: свистели дрозды, носились по веткам желтогрудые синицы, стучал дятел.
«Надо было все эти годы брать мальчиков в лес, — подумала Ганна, посмотрев на то место, где еще мгновение назад стоял козленок. Сейчас там колыхалась трава, и не было уже синих глаз и мягкого вздрагивающего носа. — Надо было водить их в зоопарк, любоваться тем, как они завороженно смотрят на зверей, и сердце бы сжималось от счастья, и я бы стала очень талантливой, потому что только счастье твоих детей может дать истинное ощущение высокого покоя, а лишь это и есть истинный подступ к творчеству. Пусть бы я делала свое дело дома, пусть бы все мои замыслы реализовались потом, пусть бы их реализовали мальчики: ведь настоящее счастье — это когда ты только задумываешь, носишь в себе опасливо, по частям отдаешь это задуманное ватману… Потом начинается гадость — согласование, подбор металла и мрамора, торговля с поставщиками, доказательство своей правоты заказчику… Мы обкрадываем себя, когда мало бываем с детьми. Надо ходить с ними в театр, гулять в парках, наблюдать, как они строят из песка свои замки. Бабки, которые выводят маленьких, думают о своем, и нет для них чуда в том, как ребенок пыхтит над песчаным замком и как он смотрит на летящую птицу, — старики считают, что они постигли суть жизни, потому что прожили ее. А ведь на самом деле все совсем наоборот: суть жизни лучше всего ощущает новорожденный. Чем мы делаемся взрослее, тем больше мы сужаем мир, ограничиваем самих себя нормами морали, своими страхами, рожденными силой и злом».
Ганна села на пенек, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Мягкое тепло его доверчиво накрыло веки, лоб, губы.
«Наверное, надо меньше двигаться, — подумала она, — я раньше слишком много двигалась, только сейчас, случайно, поняла, что такое истинная ласка солнца. Я всегда торопилась с д е л а т ь. Нужно ли? Если мы странники, которым позволили ненадолго войти сюда, в этот мир, так, может, лучше ждать конца, наслаждаясь тем, что отпущено?»
Она долго сидела под солнцем на сосновом пеньке, и в душе у нее было спокойствие, потому что здесь, в тишине леса, она поверила, что с прежним все покончено, что теперь она другая, а значит, мальчики будут с ней, ведь все-таки справедливость есть в мире, ведь справедливо было то, что она повстречала в лесу новорожденного козленка, а не человека, в руке которого могло быть ружье…
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
План беседы с Фохтом был в голове у Штирлица — после работы с архивами в берлинских библиотеках, после встреч с Мельником и Бандерой и после бесед с Дицем, который еще в Загребе затаил против чиновника из розенберговского ведомства тяжелую неприязнь.
Фохт встретил Штирлица подчеркнуто радушно, распахнул створку стеллажа, где за корешками книг был встроен большой буфет, предложил на выбор французский коньяк, шотландские виски и джин, рассеянно попросил мужчину-секретаря приготовить две чашки крепкого кофе и, полуобняв оберштурмбанфюрера, подвел его к старинному, с высокой спинкой кожаному креслу.
— На вас не действуют заботы, — сказал Фохт, рассматривая лицо Штирлица. — Я завидую вам. Вы словно бы отлиты из бронзы.
— Я поменяю имя на Цезарь, — пообещал Штирлиц, наблюдая, как Фохт картинно смаковал коньяк.
— Веезенмайер вчера получил новый титул, — сказал Фохт, — теперь, после победы в Хорватии, он «посол особых поручений». Можете отправить поздравительную телеграмму.
— Непременно. Он способный человек.
— Жаль, что его нет здесь.
— Я думаю, вы достаточно серьезно знаете славянскую проблему, чтобы здесь заменить Веезенмайера.
— Никогда не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите правду.
— Шутка тоже может быть правдой. И наоборот.
— Я, знаете ли, прагматик-метафизик, а Веезенмайера отличает дерзость.
— Что-то я не очень вижу разницу между метафизикой и дерзостью.
— Разница очевидна, Штирлиц. Метафизика есть нечто среднее между идеей и творчеством, между страстью и логикой; на мою же долю все больше выпадает надобность взвешивать возможности…
— Никому не признавайтесь в этом, Фохт. Никому. Вас тогда сожрут с костями. Если вы определяете свою функцию лишь как человек, оценивающий возможности, тогда вам не позволят высказывать точку зрения. Вы обречете себя на положение вечного советчика. А вам, как и любому нормальному человеку, хочется быть деятелем. Нет?
— Нет, — устало солгал Фохт, — больше всего мне хочется спокойствия, чтобы никто не дергал по пустякам и не мешал делать мое дело… Наше общее дело.
— По-моему, вы очень здорово отладили д е л о. Судя по моим встречам с Мельником и Бандерой, во всяком случае.
— Вы с профессором Смаль-Стоцким не познакомились?
— Нет. Кто он?
— Он назначен в украинский отдел министерства восточных территорий.
«Он по-прежнему боится своего провала с Дицем и Косоричем в Загребе, — понял Штирлиц, наблюдая за лицом Фохта. — Он очень боится меня и не любит, потому что я один знаю, что именно он виноват в гибели столь нужного нам подполковника Косорича. Поэтому он так доверителен со мной. Он хочет, чтобы я поверил в него; тогда, по его логике, мне будет невыгодно п о м н и т ь. Мне будет выгоднее з а б ы т ь».
— Это что-то новое в нашей практике, — сказал Штирлиц. — Впрочем, и министерство-то новое. Славянин — штатный сотрудник? Занятно. Нет?
— Смаль-Стоцкий — личность особая, чудовищная, говоря откровенно, личность. Он был министром иностранных дел в правительстве Петлюры и вместе с ним ушел в Польшу. И там стал осведомителем второго отдела польского генерального штаба. Собственно, именно он стоял у колыбели организации украинского национализма в Польше до тех пор, пока Пилсудский помогал националистам, рассчитывая обратить их против Советов. Но когда мы смогли обратить ОУН против Польши, Смаль-Стоцкий встретился с нашими людьми, отдыхая в Мариенбаде. Меня он поражает: эрудиция и при этом хулиганский, если хотите, цинизм. Я ни от кого не слыхал столько гадостей про украинцев, сколько от него.
Фохт встретил Штирлица подчеркнуто радушно, распахнул створку стеллажа, где за корешками книг был встроен большой буфет, предложил на выбор французский коньяк, шотландские виски и джин, рассеянно попросил мужчину-секретаря приготовить две чашки крепкого кофе и, полуобняв оберштурмбанфюрера, подвел его к старинному, с высокой спинкой кожаному креслу.
— На вас не действуют заботы, — сказал Фохт, рассматривая лицо Штирлица. — Я завидую вам. Вы словно бы отлиты из бронзы.
— Я поменяю имя на Цезарь, — пообещал Штирлиц, наблюдая, как Фохт картинно смаковал коньяк.
— Веезенмайер вчера получил новый титул, — сказал Фохт, — теперь, после победы в Хорватии, он «посол особых поручений». Можете отправить поздравительную телеграмму.
— Непременно. Он способный человек.
— Жаль, что его нет здесь.
— Я думаю, вы достаточно серьезно знаете славянскую проблему, чтобы здесь заменить Веезенмайера.
— Никогда не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите правду.
— Шутка тоже может быть правдой. И наоборот.
— Я, знаете ли, прагматик-метафизик, а Веезенмайера отличает дерзость.
— Что-то я не очень вижу разницу между метафизикой и дерзостью.
— Разница очевидна, Штирлиц. Метафизика есть нечто среднее между идеей и творчеством, между страстью и логикой; на мою же долю все больше выпадает надобность взвешивать возможности…
— Никому не признавайтесь в этом, Фохт. Никому. Вас тогда сожрут с костями. Если вы определяете свою функцию лишь как человек, оценивающий возможности, тогда вам не позволят высказывать точку зрения. Вы обречете себя на положение вечного советчика. А вам, как и любому нормальному человеку, хочется быть деятелем. Нет?
— Нет, — устало солгал Фохт, — больше всего мне хочется спокойствия, чтобы никто не дергал по пустякам и не мешал делать мое дело… Наше общее дело.
— По-моему, вы очень здорово отладили д е л о. Судя по моим встречам с Мельником и Бандерой, во всяком случае.
— Вы с профессором Смаль-Стоцким не познакомились?
— Нет. Кто он?
— Он назначен в украинский отдел министерства восточных территорий.
«Он по-прежнему боится своего провала с Дицем и Косоричем в Загребе, — понял Штирлиц, наблюдая за лицом Фохта. — Он очень боится меня и не любит, потому что я один знаю, что именно он виноват в гибели столь нужного нам подполковника Косорича. Поэтому он так доверителен со мной. Он хочет, чтобы я поверил в него; тогда, по его логике, мне будет невыгодно п о м н и т ь. Мне будет выгоднее з а б ы т ь».
— Это что-то новое в нашей практике, — сказал Штирлиц. — Впрочем, и министерство-то новое. Славянин — штатный сотрудник? Занятно. Нет?
— Смаль-Стоцкий — личность особая, чудовищная, говоря откровенно, личность. Он был министром иностранных дел в правительстве Петлюры и вместе с ним ушел в Польшу. И там стал осведомителем второго отдела польского генерального штаба. Собственно, именно он стоял у колыбели организации украинского национализма в Польше до тех пор, пока Пилсудский помогал националистам, рассчитывая обратить их против Советов. Но когда мы смогли обратить ОУН против Польши, Смаль-Стоцкий встретился с нашими людьми, отдыхая в Мариенбаде. Меня он поражает: эрудиция и при этом хулиганский, если хотите, цинизм. Я ни от кого не слыхал столько гадостей про украинцев, сколько от него.
