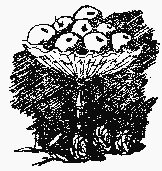Потом, устроив себе у поваленного дерева ложе из сухих листьев и наломанных веток, Безымянный пытался заснуть. Но его тревожили голоса леса, какое-то пересвистыванье, шорохи, легкий топот чьих-то копыт (за сутки Безымянный встретил лишь одно живое существо, это была молоденькая лань). А после полуночи с вершин гор сорвался ветер, и лес шумел низко, протяжно, грозно.
Разбудили Безымянного на заре другие голоса, исходящие из недр леса, и издаваемые, несомненно, живыми существами. Могучие трубные звуки, насыщенные страстью и гневом, волнами прокатывались по лесу. Безымянный вскочил, содрогаясь. До сих пор он никогда не слышал ничего подобного. Он не знал, что это трубят олени-самцы. Выбрав зеленую поляну, они созывали ланей на брачный пир. И горе рогачу, который вздумал бы затесаться в чужой гарем! Тогда между самцами-соперниками завязывается поединок не на жизнь, а на смерть. Даже у старых лесничих, давно обживших чащу, эта песнь любви и гнева оставляла неизгладимое впечатление. («Аж сумно делается!», — говаривал Степан Григорьевич). А Безымянного, непосвященного в лесные тайны, она заполнила суеверной, пробирающей до стука зубов, жутью…
— Эй, товарищ!
Безымянный вздрогнул, поднял голову и увидел на берегу человека с винтовкой за плечами.
— Вы что здесь делаете?
— Видите, ловлю рыбу…
— Вы знаете, что находитесь на заповедной территории. Здесь ловить рыбу запрещено.
— Разве? — Безымянный сделал удивленное лицо. — Прошу извинить.
— Пропуск у вас есть?
— Нет… вернее есть — у старшего. Я, видите ли, турист. Отбился от своей группы и заплутался в лесу. Вы сможете вывести меня на дорогу? Я вам заплачу…
— Выведу.
Безымянный проворно обулся и пошел за лесничим. Дорога оказалась совсем близко.
— Очень вам благодарен! — сказал Безымянный. — Сюда, вверх, кажется, путь на Ялту? Да, возьмите же за труды… — он полез в карман.
 — Не надо, — остановил его Ракитин. — А отпустить я вас пока не могу. Вам придется подойти со мной на кордон, уплатить штраф. Ну и, понятно, индивидуальный пропуск выправить.
— Не надо, — остановил его Ракитин. — А отпустить я вас пока не могу. Вам придется подойти со мной на кордон, уплатить штраф. Ну и, понятно, индивидуальный пропуск выправить.
— Да вы, собственно, кто будете?
— Наблюдатель лесной охраны.
— И прекрасно. Поймите: я очень тороплюсь, дорогой товарищ, — вкрадчиво сказал Безымянный. — Мне нужно догнать моих спутников, они могут сегодня уехать на пароходе. Получите с меня штраф, и дело с концом. И вам хлопот меньше, и мне.
— Да у меня, все равно, и квитанций нет.
— И не нужно, не нужно! — замахал руками Безымянный. — Я вижу, с каким человеком имею дело. Берите, берите! — он вытащил из кармана пачку денег и совал бумажки Ракитину. — Я вам еще на литр прибавлю…
— Не пью, — отрезал Ракитин, отводя руку с деньгами. — Пойдемте на кордон.
С четверть часа они шли молча.
— Послушайте, не будьте формалистом! — снова начал Безымянный. — Ну хорошо, ну я виноват… Но ведь любителю — натуралисту можно и простить оплошность. Я ведь рыбу ловил из научного интереса…
У Ракитина на языке вертелся язвительный вопрос:
«Какой, собственно, научный интерес может иметь пожирание рыбы живьем?» Но он удержался и сказал:
— Там разберемся. А почему вам так не хочется на кордон итти? У вас документы в порядке, гражданин?
Безымянный сразу отметил перемену в обращении: вместо «товарищ» — «гражданин».
— Я же все объяснил вам, упрямый вы человек. Так не возьмете штраф? Я вам предлагаю двести… даже триста рублей.
— Нет.
— Пятьсот? Возьмете, в последний раз спрашиваю? — сказал Безымянный, опуская руку в карман.
— Вы что, угрожаете мне? Нет — и весь сказ… Назад! — вдруг закричал Ракитин, наотмашь и со всей силой ударяя задержанного по кисти.
Браунинг выпал из руки Безымянного на землю.
— Так вот ты какой «турист-натуралист»! — усмехнулся Ракитин, снимая с плеча винтовку и щелкая затвором. Он подвинул к себе носком сапога пистолет, поднял его и сунул за пояс. — А ну, давай вперед!
Вскоре они вышли на Чучельский перевал. Отсюда открывалась необъятная, грандиозная панорама горного Крыма. Прямо перед ними вздымался коричневый купол Роман-Коша, высшей точки крымских гор. Вдали виднелась белая отвесная стена скал с темнеющими отверстиями сталактитовых пещер, а направо уходили гряды гор, покрытых кудрявым зеленым руном леса. Совсем, совсем далеко синела полоска моря, а надо всем этим в бездонной голубизне неба парил гриф, раскинув двухметровые крылья. Отсюда он казался пичужкой. Ракитин тысячу раз видел эту картину, но и в тысяча первый она вызывала в нем восхищение. Особенно хороши были здесь осенние закаты: все краски солнечного спектра ложились на горы, человек пьянел от этого зрелища как от вина.
Безымянный угрюмо глядел на горную панораму. Все это было не для него, у всего этого были другие хозяева…
— Да! — молвил Ракитин, угадав его мысли. — Не для вашего брата это приготовлено, не для таких, как ты, «туристов» с пистолетами… — Он выразительно сплюнул. — Не дадим мы вам эту красоту насиловать и поганить. Заповедана для вас эта земля, слышишь! Да и не только этот кусок, а вся, что дальше лежит, — до самого Тихого океана…
— Я ногу стер, — со злобой сказал Безымянный. — Разрешите отдохнуть хоть несколько минут. Иначе вам придется меня на руках нести.
— Ну, отдохни, отдохни! — согласился Ракитин. — Подыши напоследок свежим воздухом. Только не вздумай, смотри, на какие-нибудь штуки пускаться. Сядь спиной ко мне.
Степан Григорьевич опустился на откос и поставил винтовку между колен. Безымянный снял ботинок и стал вытряхивать из него мелкие камешки. С ногой не случилось ничего особенного, он просто хотел выиграть время, собраться с мыслями.
В этот момент перед Ракитиным упала записка. Он повернул голову и увидел выглядывающее из-за куста лицо Соболя. Лесничий хорошо знал его, так как майор не раз бывал в заповеднике. Соболь предостерегающе приложил палец к губам. «Дайте ему возможность бежать, — стояло в записке. — Так надо. Принимаю его у вас с рук на руки».
Ракитин, уже не оборачиваясь, поживал головой — «понимаю, мол». Лицо скрылось, а лесничий обнял ствол винтовки, громко зевнул и склонил голову. Безымянный, бросив искоса быстрый взгляд, заметил, что он дремлет. Не было ли здесь подвоха? Может быть, лесничий притворяется, чтобы спровоцировать попытку к бегству и на «законном основании» пустить ему пулю в спину? Однако Безымянный знал, что у русских такие приемы не приняты.
— Тысячу возьмете? — вполголоса спросил Безымянный.
Ракитин молчал. Тогда, выждав немного и убедившись, что стража его, действительно, сморило, Безымянный начал потихоньку отползать в сторону кустов. Голова Ракитина свешивалась все ниже… Скоро кусты скрыли пленника, а еще через несколько минут он мчался во весь опор по тропинке в сторону дороги.
Беглец прикидывал, сколько времени может быть в его распоряжении? На худой конец минут пять, десять, возможно — пятнадцать. Скоро он обогнет кордон Алабач, расположенный на альпийском лугу, а затем окажется перед самым трудным этапом. Чтобы спуститься на ялтинский участок заповедника, нужно перевалить. Яйлу — голое плоскогорье, лежащее на вершинах. После зеленых массивов Яйла поражает резким контрастом. Странно видеть в самом сердце заповедника, среди буйного изобилия зелени, эту каменистую пустыню, где на известняках растут лишь мхи да лишайники.
«Лесничий, очнувшись, не замедлит, конечно, начать преследование, а на Яйле человек виден за километр, — соображал беглец. — Да, шансов мало…»
Вдруг Безымянному необыкновенно повезло.
Выбежав на дорогу, он увидел трехтонку, из-под которой торчали ноги шофера. Из кабины выглядывало миловидное женское личико. А в кузове грузовика стояло нечто; до такой степени неожиданное, что даже Безымянный, у которого все тряслось внутри, остановился и поднял брови. Эта была щегольская закрытая карета, в каких когда-то ездили вельможи, карета, сверкающая черным лаком, зеркальными стеклами и бронзой затейливых фонарей. Не хватало только звероподобного бородатого кучера. Трудно было представить себе что-нибудь бесполезнее и нелепее этого музейного экспоната среди величавой природы заповедника.
— Любуетесь? — спросил шофер, вылезая из-под машины. — Хороша? Самого императора Александра третьего! — важно сообщил он. — На киносъемки возил, здесь царский приезд на охоту снимали. А теперь обратно везу, в бывший Массандровский дворец. Ну и драндулет: две скорости — «тпру» и «но»! — захохотал он, находя свою потрепанную трехтонку несравнимо красивее и удобнее царского экипажа.
«С этим веселым парнем, видимо, нетрудно будет столковаться» — решил беглец.
— Подвезите, пожалуйста, меня до ялтинского шоссе, товарищ шофер, — попросил он.
— Отчего не подвезти, можно, — согласился шофер. — Только в кузове придется ехать. А хотите, садитесь в карету. Никогда, небось, в царской карете не ездили? — и он снова захохотал, очень довольный своей выдумкой.
Однако Безымянному эта шутливая идея представилась серьезной находкой. Во-первых, в карете его никто не увидит, во-вторых, — никому и в голову не придет искать его там. Подхохатывая шоферу, он полез в карету. Весельчак завел мотор. Грузовик, урча и содрогаясь, начал медленно одолевать крутой подъем.
Безымянный опустился на кожаные подушки, захлопнул дверцы и задернул занавески. Сквозь узенькую полоску стекла поверх занавесок он скоро увидел пустыню Яйлы и тысячью метров ниже пестрый коврик гурзуфского курорта. На краю плато показались карликовые сосны. Затем машина пошла вниз, и на склонах захватывающей дух крутизны возникли ряды хвойных гигантов.
Через сорок минут трехтонка выехала на ялтинское шоссе. Безымянный перевел дух: он вырвался из зеленого плена.
Глава XIII
ЭПИЛОГ
Разбудили Безымянного на заре другие голоса, исходящие из недр леса, и издаваемые, несомненно, живыми существами. Могучие трубные звуки, насыщенные страстью и гневом, волнами прокатывались по лесу. Безымянный вскочил, содрогаясь. До сих пор он никогда не слышал ничего подобного. Он не знал, что это трубят олени-самцы. Выбрав зеленую поляну, они созывали ланей на брачный пир. И горе рогачу, который вздумал бы затесаться в чужой гарем! Тогда между самцами-соперниками завязывается поединок не на жизнь, а на смерть. Даже у старых лесничих, давно обживших чащу, эта песнь любви и гнева оставляла неизгладимое впечатление. («Аж сумно делается!», — говаривал Степан Григорьевич). А Безымянного, непосвященного в лесные тайны, она заполнила суеверной, пробирающей до стука зубов, жутью…
— Эй, товарищ!
Безымянный вздрогнул, поднял голову и увидел на берегу человека с винтовкой за плечами.
— Вы что здесь делаете?
— Видите, ловлю рыбу…
— Вы знаете, что находитесь на заповедной территории. Здесь ловить рыбу запрещено.
— Разве? — Безымянный сделал удивленное лицо. — Прошу извинить.
— Пропуск у вас есть?
— Нет… вернее есть — у старшего. Я, видите ли, турист. Отбился от своей группы и заплутался в лесу. Вы сможете вывести меня на дорогу? Я вам заплачу…
— Выведу.
Безымянный проворно обулся и пошел за лесничим. Дорога оказалась совсем близко.
— Очень вам благодарен! — сказал Безымянный. — Сюда, вверх, кажется, путь на Ялту? Да, возьмите же за труды… — он полез в карман.

— Да вы, собственно, кто будете?
— Наблюдатель лесной охраны.
— И прекрасно. Поймите: я очень тороплюсь, дорогой товарищ, — вкрадчиво сказал Безымянный. — Мне нужно догнать моих спутников, они могут сегодня уехать на пароходе. Получите с меня штраф, и дело с концом. И вам хлопот меньше, и мне.
— Да у меня, все равно, и квитанций нет.
— И не нужно, не нужно! — замахал руками Безымянный. — Я вижу, с каким человеком имею дело. Берите, берите! — он вытащил из кармана пачку денег и совал бумажки Ракитину. — Я вам еще на литр прибавлю…
— Не пью, — отрезал Ракитин, отводя руку с деньгами. — Пойдемте на кордон.
С четверть часа они шли молча.
— Послушайте, не будьте формалистом! — снова начал Безымянный. — Ну хорошо, ну я виноват… Но ведь любителю — натуралисту можно и простить оплошность. Я ведь рыбу ловил из научного интереса…
У Ракитина на языке вертелся язвительный вопрос:
«Какой, собственно, научный интерес может иметь пожирание рыбы живьем?» Но он удержался и сказал:
— Там разберемся. А почему вам так не хочется на кордон итти? У вас документы в порядке, гражданин?
Безымянный сразу отметил перемену в обращении: вместо «товарищ» — «гражданин».
— Я же все объяснил вам, упрямый вы человек. Так не возьмете штраф? Я вам предлагаю двести… даже триста рублей.
— Нет.
— Пятьсот? Возьмете, в последний раз спрашиваю? — сказал Безымянный, опуская руку в карман.
— Вы что, угрожаете мне? Нет — и весь сказ… Назад! — вдруг закричал Ракитин, наотмашь и со всей силой ударяя задержанного по кисти.
Браунинг выпал из руки Безымянного на землю.
— Так вот ты какой «турист-натуралист»! — усмехнулся Ракитин, снимая с плеча винтовку и щелкая затвором. Он подвинул к себе носком сапога пистолет, поднял его и сунул за пояс. — А ну, давай вперед!
Вскоре они вышли на Чучельский перевал. Отсюда открывалась необъятная, грандиозная панорама горного Крыма. Прямо перед ними вздымался коричневый купол Роман-Коша, высшей точки крымских гор. Вдали виднелась белая отвесная стена скал с темнеющими отверстиями сталактитовых пещер, а направо уходили гряды гор, покрытых кудрявым зеленым руном леса. Совсем, совсем далеко синела полоска моря, а надо всем этим в бездонной голубизне неба парил гриф, раскинув двухметровые крылья. Отсюда он казался пичужкой. Ракитин тысячу раз видел эту картину, но и в тысяча первый она вызывала в нем восхищение. Особенно хороши были здесь осенние закаты: все краски солнечного спектра ложились на горы, человек пьянел от этого зрелища как от вина.
Безымянный угрюмо глядел на горную панораму. Все это было не для него, у всего этого были другие хозяева…
— Да! — молвил Ракитин, угадав его мысли. — Не для вашего брата это приготовлено, не для таких, как ты, «туристов» с пистолетами… — Он выразительно сплюнул. — Не дадим мы вам эту красоту насиловать и поганить. Заповедана для вас эта земля, слышишь! Да и не только этот кусок, а вся, что дальше лежит, — до самого Тихого океана…
— Я ногу стер, — со злобой сказал Безымянный. — Разрешите отдохнуть хоть несколько минут. Иначе вам придется меня на руках нести.
— Ну, отдохни, отдохни! — согласился Ракитин. — Подыши напоследок свежим воздухом. Только не вздумай, смотри, на какие-нибудь штуки пускаться. Сядь спиной ко мне.
Степан Григорьевич опустился на откос и поставил винтовку между колен. Безымянный снял ботинок и стал вытряхивать из него мелкие камешки. С ногой не случилось ничего особенного, он просто хотел выиграть время, собраться с мыслями.
В этот момент перед Ракитиным упала записка. Он повернул голову и увидел выглядывающее из-за куста лицо Соболя. Лесничий хорошо знал его, так как майор не раз бывал в заповеднике. Соболь предостерегающе приложил палец к губам. «Дайте ему возможность бежать, — стояло в записке. — Так надо. Принимаю его у вас с рук на руки».
Ракитин, уже не оборачиваясь, поживал головой — «понимаю, мол». Лицо скрылось, а лесничий обнял ствол винтовки, громко зевнул и склонил голову. Безымянный, бросив искоса быстрый взгляд, заметил, что он дремлет. Не было ли здесь подвоха? Может быть, лесничий притворяется, чтобы спровоцировать попытку к бегству и на «законном основании» пустить ему пулю в спину? Однако Безымянный знал, что у русских такие приемы не приняты.
— Тысячу возьмете? — вполголоса спросил Безымянный.
Ракитин молчал. Тогда, выждав немного и убедившись, что стража его, действительно, сморило, Безымянный начал потихоньку отползать в сторону кустов. Голова Ракитина свешивалась все ниже… Скоро кусты скрыли пленника, а еще через несколько минут он мчался во весь опор по тропинке в сторону дороги.
Беглец прикидывал, сколько времени может быть в его распоряжении? На худой конец минут пять, десять, возможно — пятнадцать. Скоро он обогнет кордон Алабач, расположенный на альпийском лугу, а затем окажется перед самым трудным этапом. Чтобы спуститься на ялтинский участок заповедника, нужно перевалить. Яйлу — голое плоскогорье, лежащее на вершинах. После зеленых массивов Яйла поражает резким контрастом. Странно видеть в самом сердце заповедника, среди буйного изобилия зелени, эту каменистую пустыню, где на известняках растут лишь мхи да лишайники.
«Лесничий, очнувшись, не замедлит, конечно, начать преследование, а на Яйле человек виден за километр, — соображал беглец. — Да, шансов мало…»
Вдруг Безымянному необыкновенно повезло.
Выбежав на дорогу, он увидел трехтонку, из-под которой торчали ноги шофера. Из кабины выглядывало миловидное женское личико. А в кузове грузовика стояло нечто; до такой степени неожиданное, что даже Безымянный, у которого все тряслось внутри, остановился и поднял брови. Эта была щегольская закрытая карета, в каких когда-то ездили вельможи, карета, сверкающая черным лаком, зеркальными стеклами и бронзой затейливых фонарей. Не хватало только звероподобного бородатого кучера. Трудно было представить себе что-нибудь бесполезнее и нелепее этого музейного экспоната среди величавой природы заповедника.
— Любуетесь? — спросил шофер, вылезая из-под машины. — Хороша? Самого императора Александра третьего! — важно сообщил он. — На киносъемки возил, здесь царский приезд на охоту снимали. А теперь обратно везу, в бывший Массандровский дворец. Ну и драндулет: две скорости — «тпру» и «но»! — захохотал он, находя свою потрепанную трехтонку несравнимо красивее и удобнее царского экипажа.
«С этим веселым парнем, видимо, нетрудно будет столковаться» — решил беглец.
— Подвезите, пожалуйста, меня до ялтинского шоссе, товарищ шофер, — попросил он.
— Отчего не подвезти, можно, — согласился шофер. — Только в кузове придется ехать. А хотите, садитесь в карету. Никогда, небось, в царской карете не ездили? — и он снова захохотал, очень довольный своей выдумкой.
Однако Безымянному эта шутливая идея представилась серьезной находкой. Во-первых, в карете его никто не увидит, во-вторых, — никому и в голову не придет искать его там. Подхохатывая шоферу, он полез в карету. Весельчак завел мотор. Грузовик, урча и содрогаясь, начал медленно одолевать крутой подъем.
Безымянный опустился на кожаные подушки, захлопнул дверцы и задернул занавески. Сквозь узенькую полоску стекла поверх занавесок он скоро увидел пустыню Яйлы и тысячью метров ниже пестрый коврик гурзуфского курорта. На краю плато показались карликовые сосны. Затем машина пошла вниз, и на склонах захватывающей дух крутизны возникли ряды хвойных гигантов.
Через сорок минут трехтонка выехала на ялтинское шоссе. Безымянный перевел дух: он вырвался из зеленого плена.
Глава XIII
НА ЗАПОВЕДНОЙ ЗЕМЛЕ (Окончание)
Соболь выпрыгнул из грузовика первым, когда шофер начал притормаживать. Майор проделал весь путь из заповедника до ялтинского шоссе буквально на запятках беглеца: он вскочил на машину, как только она тронулась, и довольно удобно устроился в кузове, позади кареты, так что его не могли видеть ни Безымянный, ни водитель.
Солнце уже склонялось к западу. Внизу, всего в двух километрах, виднелись белые фасады ялтинских здравниц. Безымянный, пройдя сотню шагов, остановился у ворот, украшенных лепными кистями винограда. На стеклянной доске значилось: «Управление винкомбината „Массандра“». Он вошел в ворота и направился к двухэтажному серому зданию.
— Вам кого? — встретила его вопросом пожилая женщина в синем халате, со щеткой и ведром в руках. — Занятия уже кончились.
— Да? И директор ушел?
— Ушел.
— Ах, какая досада! Тогда разрешите, я позвоню по телефону…
— А идите вот сюда, — сказала уборщица, указывая на приоткрытую дверь одного из кабинетов. — Просите прямо: квартиру директора. У нас свой коммутатор.
Безымянный подождал, пока шаги женщины затихли в конце коридора, прикрыл дверь и взял трубку.
— Коммутатор комбината? Дайте Ялту…
Полминутой раньше мимо этой двери прошел Соболь и поднялся на второй этаж, в коммутаторную. Показав девушке удостоверение, он знаком попросил дать ему наушники. Девушка соединила абонента с Ялтой, и Соболь услышал следующий диалог:
Безымянный: Наберите 35–72. Это что?.. Ага! Мне Алексея Алексеевича. Это вы? Говорит Прокофьев. Да, да.
Ялта: Я думал, что вы болеете. Как ваше самочувствие?
Безымянный: Я очень нездоров. Несмотря на это, хотел бы видеть вас. Сегодня. Ялта. Хорошо. Вечером. В конторе.
Безымянный: Время?
Ялта: 10.30. Захватите лекарство для Маши.
Безымянный: Какое?
Ялта: Глюкозу.
Безымянный: Запомню.
Спустившись в Ялту и выйдя на набережную, Безымянный взглянул на часы. Было еще только 8. Он зашел в парикмахерскую и сел в кресло. Соболь поджидал его на скамеечке поодаль, под мохнатой пальмой.
Набережную заполняли гуляющие. Кузнец с московского автозавода в добротном костюме серого коверкота и желтых туфлях направлялся сыграть партию в бильярд и встречался со знаменитым полярником, который в пижаме, с перекинутым через плечо мохнатым полотенцем, возвращался с пляжа в свой санаторий. Студентки в широчайших, восточной расцветки, шароварах и дымчатых очках спешили сменить этот экзотический костюм на вечернее платье. Граждане всех возрастов и положений облепляли киоски с газированной водой… Словом, на ялтинской набережной было очень оживленно, как и положено в отличный августовский вечер. На скамьях парапета не было ни одного свободного места — столько оказалось желающих полюбоваться морем, удивительно тихим, палево-голубым в этот час.
В саду ресторана «Аврора» играл симфонический оркестр. Под пестрыми зонтами курортники пили душистое крымское вино и лимонад. За одним из столиков старшина второй статьи Василий Колодочка и Маруся Кулешова ели мороженое. Колодочка заканчивал отпуск и накануне воскресного дня решил свезти свою подругу в Ялту.
На танцевальной площадке известный киноактер выписывал ногами затейливые вензеля. Маруся с любопытством следила за его хореографическими упражнениями.
— Он это нарочно, Вася? — спросила она Колодочку.
— Кто?
Маруся фыркнула. Но затем взгляд ее упал на один из столиков напротив, улыбка погасла, лицо побелело, серые глаза странно округлились.
— Он! — с трудом произнесла подруга Колодочки.
— Да кто? — спросил старшина.
— Тот… на берегу…
Колодочка посмотрел в том же направлении и увидел склоненный над тарелкой свеже-прилизанный пробор. Гражданин, на которого указала Маруся, со свирепым петитом поглощал отбивную котлету. Так лицо Колодочки тоже стало серьезным:
— Ты не ошибаешься?
— Ой, нет! — шепотом сказала Маруся. — Глаза, Вася…
Колодочка встал и решительно направился к столику напротив. Он не совсем ясно представлял себе, что скажет, что сделает, но знал одно — этому человеку сейчас будет худо. Он хорошо помнил слова Соболя: «Если вы встретите этого субъекта и сумеете его узнать — держите покрепче».
Но на полпути ему преградил дорогу сам Соболь в штатском костюме.
— Добрый вечер, старшина, — сказал он. — Веселитесь? Добро! — и, не давая Колодочке ответить, взял его под локоть и увлек к своему столику. Он сидел далеко позади Безымянного.
— Садитесь, старшина. Вы угадали — это он, (Соболь заметил, что пальцы Колодочки складываются в кулаки). Но не торопитесь. Возьмите себя в руки и пока ничего не предпринимайте. Не подавайте вида, что он сколько-нибудь вас интересует. Есть?
— Есть, товарищ… — Колодочка хотел добавить «майор», но спохватился. — Может быть, моя помощь потребуется?
Соболь, прищурясь, поглядел на моряка, что-то соображая.
— Пожалуй, — согласился он после короткого раздумья. — Но дело, учтите, небезопасное…
— Хоть в огонь…
— Ладно. Идите к своей приятельнице и попросите ее подождать. Вы сумеете оставить ее на полчаса?
— Конечно. Она на набережной посидит.
— Когда я надену шляпу, вставайте и идите за мной.
…Человек, на котором теперь были сосредоточены мысли Соболя, Колодочки и Маруси Кулешовой, подозвал официанта, рассчитался, поглядел на часы и, не спеша, пошел к выходу.
Минуты через три вышли Соболь и Колодочка. Темнело. Безымянного не было видно, но Соболь по номеру телефона уже установил, о какой именно конторе шла речь. Майор и старшина прошли всю набережную, свернули в переулок и оказались во дворе двухэтажного особняка. Таблички на фасаде говорили о том, что дом этот сплошь занят учреждениями. Здание было погружено в темноту. Обойдя дом, Соболь и Колодочка увидели тонкую полоску света, пробивавшегося из-под шторы в одном из окон второго этажа.
— Становитесь сюда, в нишу, и следите за этим окном, — приказал Соболь. — С двумя оправитесь?
— Есть, с двумя справиться! — отвечал Колодочка, расправляя плечи.
— Добро. Ждите. Да учтите, что они, вероятно, вооружены.
— Есть.
Соболь снова обогнул дом и вошел в подъезд. На втором этаже он остановился перед входом в контору одной из организаций. Дверь была не заперта. Стараясь ступать как можно тише, майор приблизился ко второй двери с табличкой «Торговый отдел» и покрутил ручку. Эта дверь не поддавалась, но люди там были: слышался приглушенный разговор.
Соболь достал пистолет, спустил предохранитель и постучал по филенке костяшкой согнутого пальца. Голоса смолкли. Он постучал снова.
— Кто? — спросил хриплый голос.
— К Алексею Алексеевичу.
— Зачем? — после короткой паузы спросил голос. — Его здесь нет.
— Лекарство для Маши.
— Какое лекарство?
— Глюкоза…
Соболь услышал, как приходит в движение механизм английского замка. Дверь приоткрылась, и он увидел худую, с запавшими щеками, горбоносую физиономию. Открывший, при виде незнакомого лица, мгновенно сообразил, что попался на удочку. Дверь захлопнулась с такой силой, что чуть не перебила Соболю пальцы. Замок щелкнул, как выстрелил… Донеслись торопливые шаги, скрип открываемого окна.
Соболь налег плечом на дверь.
Безымянный выпрыгнул первым и… забился в могучих объятиях Колодочки. Попытка пустить в ход один из хулиганских приемов завершилась плачевно. Безымянный имел дело не с дедом Савчуком, который из всех ухищрений нападения и самозащиты знал только освященную веками «подножку», а с флотским спортсменом наделенным к тому же из ряду вон выходящей физической силой. Рассерженный Колодочка «слегка», как уверял потом, стукнул противника в подбородок. Но от этого «слегка» у Безымянного в глазах завертелись фейерверочные колеса. Колодочка бережно положил его на землю и почти на лету принял второго противника.
В окне появилась голова Соболя.
— Есть?
— Есть, товарищ майор.
— Оба?
— Так точно.
Соболь, взявшись за подоконник, легко и ловко, как кошка, выпрыгнул, присел на корточки.
— Да вы, невзначай, его не до смерти пришибли? — осведомился он, указывая на Безымянного.
— Что вы, товарищ майор! Можно сказать, как в колыбель принял.
— Что ж он лежит? Да и не дышит, кажется?
— Он брыкаться стал, товарищ майор. Ну, я его чуть-чуть и нокаутировал.
— Да пустите же, — прохрипел горбоносый, тщетно пытаясь освободиться. Он задыхался в руках старшины. Пистолет в его кисти, тесно прижатой к телу, упирался стволом в подбородок. Нажав спуск, горбоносый раздробил бы собственную челюсть.
Соболь высвободил оружие из его пальцев, ощупал карманы задержанного.
— Теперь пустите, — сказал майор Колодочке. — И держите пистолет, он может пригодиться.
— Есть, товарищ майор! — отвечал Колодочка, принимая из рук Соболя «Вальтер» и не без юмора посматривая на противников, имевших в эту минуту довольно-таки помятый вид.
— Этого я поручаю вам, — продолжал Соболь, кивая на Безымянного, который, кряхтя, поднимался на четвереньки. — А этого… Стоп! — вдруг резко и повелительно крикнул он, заметив быстрое движение, которое сделал горбоносый. — Стоп, говорю я вам!
Горбоносый, нырнув двумя пальцами в жилетный карман, поднес что-то ко рту, но Соболь успел перехватить его руку. Нажатием на нервный узел у кисти майор парализовал пальцы врага. Горбоносый не успел раздавить зубами крохотную стеклянную ампулу, она упала на асфальт и разбилась вдребезги.
— Не-е-ет! — протянул Соболь сквозь зубы. — Так просто вы не отделаетесь, мистер… Елагин. Для такой козырной фигуры, как вы, это, конечно, был бы самый легкий выход из игры. Но ответ держать все-таки придется… Прошу вперед! Пошли!
За воротами Соболь посигналил карманным фонариком. Тотчас к ним беззвучно подкатила большая закрытая машина. И два иноземца, сопровождаемые Соболем и Колодочкой, державшими пистолеты наготове, направились к ней, тяжело и понуро ступая по заповедной земле, которая жгла им подошвы.
Солнце уже склонялось к западу. Внизу, всего в двух километрах, виднелись белые фасады ялтинских здравниц. Безымянный, пройдя сотню шагов, остановился у ворот, украшенных лепными кистями винограда. На стеклянной доске значилось: «Управление винкомбината „Массандра“». Он вошел в ворота и направился к двухэтажному серому зданию.
— Вам кого? — встретила его вопросом пожилая женщина в синем халате, со щеткой и ведром в руках. — Занятия уже кончились.
— Да? И директор ушел?
— Ушел.
— Ах, какая досада! Тогда разрешите, я позвоню по телефону…
— А идите вот сюда, — сказала уборщица, указывая на приоткрытую дверь одного из кабинетов. — Просите прямо: квартиру директора. У нас свой коммутатор.
Безымянный подождал, пока шаги женщины затихли в конце коридора, прикрыл дверь и взял трубку.
— Коммутатор комбината? Дайте Ялту…
Полминутой раньше мимо этой двери прошел Соболь и поднялся на второй этаж, в коммутаторную. Показав девушке удостоверение, он знаком попросил дать ему наушники. Девушка соединила абонента с Ялтой, и Соболь услышал следующий диалог:
Безымянный: Наберите 35–72. Это что?.. Ага! Мне Алексея Алексеевича. Это вы? Говорит Прокофьев. Да, да.
Ялта: Я думал, что вы болеете. Как ваше самочувствие?
Безымянный: Я очень нездоров. Несмотря на это, хотел бы видеть вас. Сегодня. Ялта. Хорошо. Вечером. В конторе.
Безымянный: Время?
Ялта: 10.30. Захватите лекарство для Маши.
Безымянный: Какое?
Ялта: Глюкозу.
Безымянный: Запомню.
Спустившись в Ялту и выйдя на набережную, Безымянный взглянул на часы. Было еще только 8. Он зашел в парикмахерскую и сел в кресло. Соболь поджидал его на скамеечке поодаль, под мохнатой пальмой.
Набережную заполняли гуляющие. Кузнец с московского автозавода в добротном костюме серого коверкота и желтых туфлях направлялся сыграть партию в бильярд и встречался со знаменитым полярником, который в пижаме, с перекинутым через плечо мохнатым полотенцем, возвращался с пляжа в свой санаторий. Студентки в широчайших, восточной расцветки, шароварах и дымчатых очках спешили сменить этот экзотический костюм на вечернее платье. Граждане всех возрастов и положений облепляли киоски с газированной водой… Словом, на ялтинской набережной было очень оживленно, как и положено в отличный августовский вечер. На скамьях парапета не было ни одного свободного места — столько оказалось желающих полюбоваться морем, удивительно тихим, палево-голубым в этот час.
В саду ресторана «Аврора» играл симфонический оркестр. Под пестрыми зонтами курортники пили душистое крымское вино и лимонад. За одним из столиков старшина второй статьи Василий Колодочка и Маруся Кулешова ели мороженое. Колодочка заканчивал отпуск и накануне воскресного дня решил свезти свою подругу в Ялту.
На танцевальной площадке известный киноактер выписывал ногами затейливые вензеля. Маруся с любопытством следила за его хореографическими упражнениями.
— Он это нарочно, Вася? — спросила она Колодочку.
— Кто?
Маруся фыркнула. Но затем взгляд ее упал на один из столиков напротив, улыбка погасла, лицо побелело, серые глаза странно округлились.
— Он! — с трудом произнесла подруга Колодочки.
— Да кто? — спросил старшина.
— Тот… на берегу…
Колодочка посмотрел в том же направлении и увидел склоненный над тарелкой свеже-прилизанный пробор. Гражданин, на которого указала Маруся, со свирепым петитом поглощал отбивную котлету. Так лицо Колодочки тоже стало серьезным:
— Ты не ошибаешься?
— Ой, нет! — шепотом сказала Маруся. — Глаза, Вася…
Колодочка встал и решительно направился к столику напротив. Он не совсем ясно представлял себе, что скажет, что сделает, но знал одно — этому человеку сейчас будет худо. Он хорошо помнил слова Соболя: «Если вы встретите этого субъекта и сумеете его узнать — держите покрепче».
Но на полпути ему преградил дорогу сам Соболь в штатском костюме.
— Добрый вечер, старшина, — сказал он. — Веселитесь? Добро! — и, не давая Колодочке ответить, взял его под локоть и увлек к своему столику. Он сидел далеко позади Безымянного.
— Садитесь, старшина. Вы угадали — это он, (Соболь заметил, что пальцы Колодочки складываются в кулаки). Но не торопитесь. Возьмите себя в руки и пока ничего не предпринимайте. Не подавайте вида, что он сколько-нибудь вас интересует. Есть?
— Есть, товарищ… — Колодочка хотел добавить «майор», но спохватился. — Может быть, моя помощь потребуется?
Соболь, прищурясь, поглядел на моряка, что-то соображая.
— Пожалуй, — согласился он после короткого раздумья. — Но дело, учтите, небезопасное…
— Хоть в огонь…
— Ладно. Идите к своей приятельнице и попросите ее подождать. Вы сумеете оставить ее на полчаса?
— Конечно. Она на набережной посидит.
— Когда я надену шляпу, вставайте и идите за мной.
…Человек, на котором теперь были сосредоточены мысли Соболя, Колодочки и Маруси Кулешовой, подозвал официанта, рассчитался, поглядел на часы и, не спеша, пошел к выходу.
Минуты через три вышли Соболь и Колодочка. Темнело. Безымянного не было видно, но Соболь по номеру телефона уже установил, о какой именно конторе шла речь. Майор и старшина прошли всю набережную, свернули в переулок и оказались во дворе двухэтажного особняка. Таблички на фасаде говорили о том, что дом этот сплошь занят учреждениями. Здание было погружено в темноту. Обойдя дом, Соболь и Колодочка увидели тонкую полоску света, пробивавшегося из-под шторы в одном из окон второго этажа.
— Становитесь сюда, в нишу, и следите за этим окном, — приказал Соболь. — С двумя оправитесь?
— Есть, с двумя справиться! — отвечал Колодочка, расправляя плечи.
— Добро. Ждите. Да учтите, что они, вероятно, вооружены.
— Есть.
Соболь снова обогнул дом и вошел в подъезд. На втором этаже он остановился перед входом в контору одной из организаций. Дверь была не заперта. Стараясь ступать как можно тише, майор приблизился ко второй двери с табличкой «Торговый отдел» и покрутил ручку. Эта дверь не поддавалась, но люди там были: слышался приглушенный разговор.
Соболь достал пистолет, спустил предохранитель и постучал по филенке костяшкой согнутого пальца. Голоса смолкли. Он постучал снова.
— Кто? — спросил хриплый голос.
— К Алексею Алексеевичу.
— Зачем? — после короткой паузы спросил голос. — Его здесь нет.
— Лекарство для Маши.
— Какое лекарство?
— Глюкоза…
Соболь услышал, как приходит в движение механизм английского замка. Дверь приоткрылась, и он увидел худую, с запавшими щеками, горбоносую физиономию. Открывший, при виде незнакомого лица, мгновенно сообразил, что попался на удочку. Дверь захлопнулась с такой силой, что чуть не перебила Соболю пальцы. Замок щелкнул, как выстрелил… Донеслись торопливые шаги, скрип открываемого окна.
Соболь налег плечом на дверь.
Безымянный выпрыгнул первым и… забился в могучих объятиях Колодочки. Попытка пустить в ход один из хулиганских приемов завершилась плачевно. Безымянный имел дело не с дедом Савчуком, который из всех ухищрений нападения и самозащиты знал только освященную веками «подножку», а с флотским спортсменом наделенным к тому же из ряду вон выходящей физической силой. Рассерженный Колодочка «слегка», как уверял потом, стукнул противника в подбородок. Но от этого «слегка» у Безымянного в глазах завертелись фейерверочные колеса. Колодочка бережно положил его на землю и почти на лету принял второго противника.
В окне появилась голова Соболя.
— Есть?
— Есть, товарищ майор.
— Оба?
— Так точно.
Соболь, взявшись за подоконник, легко и ловко, как кошка, выпрыгнул, присел на корточки.
— Да вы, невзначай, его не до смерти пришибли? — осведомился он, указывая на Безымянного.
— Что вы, товарищ майор! Можно сказать, как в колыбель принял.
— Что ж он лежит? Да и не дышит, кажется?
— Он брыкаться стал, товарищ майор. Ну, я его чуть-чуть и нокаутировал.
— Да пустите же, — прохрипел горбоносый, тщетно пытаясь освободиться. Он задыхался в руках старшины. Пистолет в его кисти, тесно прижатой к телу, упирался стволом в подбородок. Нажав спуск, горбоносый раздробил бы собственную челюсть.
Соболь высвободил оружие из его пальцев, ощупал карманы задержанного.
— Теперь пустите, — сказал майор Колодочке. — И держите пистолет, он может пригодиться.
— Есть, товарищ майор! — отвечал Колодочка, принимая из рук Соболя «Вальтер» и не без юмора посматривая на противников, имевших в эту минуту довольно-таки помятый вид.
— Этого я поручаю вам, — продолжал Соболь, кивая на Безымянного, который, кряхтя, поднимался на четвереньки. — А этого… Стоп! — вдруг резко и повелительно крикнул он, заметив быстрое движение, которое сделал горбоносый. — Стоп, говорю я вам!
Горбоносый, нырнув двумя пальцами в жилетный карман, поднес что-то ко рту, но Соболь успел перехватить его руку. Нажатием на нервный узел у кисти майор парализовал пальцы врага. Горбоносый не успел раздавить зубами крохотную стеклянную ампулу, она упала на асфальт и разбилась вдребезги.
— Не-е-ет! — протянул Соболь сквозь зубы. — Так просто вы не отделаетесь, мистер… Елагин. Для такой козырной фигуры, как вы, это, конечно, был бы самый легкий выход из игры. Но ответ держать все-таки придется… Прошу вперед! Пошли!
За воротами Соболь посигналил карманным фонариком. Тотчас к ним беззвучно подкатила большая закрытая машина. И два иноземца, сопровождаемые Соболем и Колодочкой, державшими пистолеты наготове, направились к ней, тяжело и понуро ступая по заповедной земле, которая жгла им подошвы.
ЭПИЛОГ
«СМЕРТИ НЕ ПОДВЛАСТНО!»
В начале сентября пресса обоих полушарий сообщила о кончине крупнейшего финансового магната современности Хайрама Кэртиса Дюрана. «Царь Мидас» сам ускорил свой конец. Не дожидаясь возвращения Безымянного, он потребовал, чтобы ему сделали вторичную операцию омоложения. С медицинской точки зрения эта операция, заключавшаяся в пересадке некоторых желез, в его возрасте была равносильна самоубийству. Но окружавшим Дюрана врачам была важна не жизнь миллиардера, а весьма значительный гонорар. И операция состоялась. К Дюрану как будто вернулся пыл молодости. Но хирурги, пересадив железы, не могли, конечно, дать ему молодое сердце, заменить кровеносные сосуды, пораженные старческим склерозом. Нагрузка оказалась непосильной: на третий день Дюран умер от кровоизлияния в мозг.
Крупнейшие заокеанские газеты посвятили покойному пространные некрологи. Его величали «великим бизнесменом» и другими пышными титулами. Прогрессивная печать также поместила несколько статей. Самую точную и выразительную характеристику Дюрана дала «Дейли Уоркер»: «Этот человек был олицетворением капитализма во всей его отвратительной наготе».
О Безымянном с этих пор не было ни слуху, ни духу. Фрэнк, сопоставляя некоторые данные, пришел к выводу, что его агент не только провалился сам, но и провалил целую группу ему подобных во главе с работником, которого Фрэнк чрезвычайно ценил. «Б-317» был навсегда вычеркнут из списков разведывательного управления.
В это же, примерно, время на Сиваше произошло исключительное событие, сообщение о котором облетело всю советскую печать. Строгановские колхозники, добывая на Сиваше соль, нашли в иле тело красноармейца — Прохора Иванова, как значилось в его документах. Тридцать пять лет пролежал здесь он, один из орлов Фрунзе. И Соль сохранила тело от разрушающей руки времени. Колхозники вынесли тело бойца на берег и бережно положили на траву. Безмолвно стояли они вокруг. Уже кто-то сплел из поздних цветов венок и положил его на грудь воина. И кто-то молвил, высказывая созревшую у всех мысль:
— Деда Савчука покликать надо…
Но дед шел уже сюда сам, морщинистый, крепкий, прямой.
Никто, собственно, не мог сказать: зачем нужно было позвать деда. Мало вероятно, чтобы дед Савчук мог опознать погибшего, в полках Фрунзе было более 20 тысяч человек. Но так или иначе, все чувствовали, что дед Савчук сейчас должен быть здесь, что это очень важно.
И вот дед, сняв шапку, стоял над телом бойца. Прохор Иванов лежал на песке, лицом кверху. Голова его покоилась среди пахучих стеблей душана, синих шариков «миколайчиков» и еще каких-то незатейливых лиловых цветочков. Нетронутым осталось его могучее тело, пробитое вражеским осколком прямо против сердца.
Дед Савчук, обычно такой словоохотливый на воспоминания о всем, что касалось тех дней, сейчас молчал.
Молчали и все окружающие.
Вскоре подошли Алмазов, Любушко, Кристев и Костров, как люди науки чрезвычайно заинтересованные необыкновенной находкой.
Дед Савчук пошел к ним навстречу и отвел Алмазова в сторону.
— Савва Никитич, у меня до вас просьба! Крепко, крепко вас попрошу: оживите того бойца…
Алмазов, потрясенный этой просьбой, глядел в глава старика, в уголках которых поблескивала влага.
— Вы ведь все можете… — умоляюще повторил дед Савчук.
Такая вера в могущество науки, создавшей «Рубиновую звезду» и вернувшей Кристева из небытия, звучала в голосе деда, что никому в голову не пришло улыбнуться наивности его слов.
— Это невозможно! — очень серьезно ответил Алмазов.
— Ни як?
— Нет.
Старик печально поник головой. Алмазов понял, что творилось в его душе.
— Послушайте меня, Иван Иванович! Если я говорю вам «нет», не чувствуйте себя обманутым, — сказал он. — Недалек час, когда для передовой науки не будет ничего невозможного. Уже сейчас она может творить чудеса. Она уже поднимает сады в бесплодных от века пустынях. А завтра она заставит служить делу жизни и эти мертвые воды, — Алмазов обвел рукой Сиваш. — Взнуздав энергию солнца, мы используем ее для блага народа. Наша наука скоро сделает возможными пересадки сердца и, нужно надеяться, научится восстанавливать ткани мозга. Я не хочу сказать, что человек тогда будет жить вечно. Нет, жизнь и смерть есть закон природы. Но наука поможет людям жить сто двадцать — сто пятьдесят лет, сохраняя до конца дней способность к творческому труду, запас сил и бодрости.
…Пусть не поколеблется ваша вера в науку, Иван Иванович. Верьте в нее. Эта наука, действительно, постигла секрет человеческого счастья. Она победит внезапную, насильственную смерть, подобную той, которая настигла этого бойца, и заставит далеко отступить ту, что подкрадывается постепенно. Она победит все болезни…
— Кроме одной — той, которой болен капитализм, — сказал Любушко. — Эта — неизлечима. Да и не медикам врачевать ее.
— Целиком разделяю твое мнение, — ответил Алмазов. — Но будем говорить о жизни. Что может быть почетнее и радостнее борьбы за жизнь человека? Как светло итти путем, который проложили Мечников, Павлов, Мичурин — гении мировой науки и великие жизнелюбы! А — впереди?! Мы овладеваем тайной белка и в скором будущем сможем сами создавать новые живые формы. Осуществить переход от неживого вещества к живому, от химии к биологии — какая ослепительная, сверкающая цель! Какой это будет переворот в науке!
— Я понимаю вас, дорогой друг, — горячо подхватил Кристев. — Создать ткань — трепетную, полную движения, заронить в нее искру прометеева огня и сознавать, что ты ее творец, — нет и не может быть на свете радости выше этой!..
— Да! — продолжал Алмазов. — Тогда откроются необозримые возможности для обновления тканей и органов человека, и задача долголетия будет решена окончательно. Это будет, Иван Иванович! Если нам с вами не придется воспользоваться плодами этой величайшей победы науки, то этого добьется наша смена. Правда, Олег Константинович? — и Алмазов дружески положил руку на плечо Кострова.
Принесли носилки и, опустив на них тело Прохора Иванова, унесли в сельсовет. Люди стали медленно сходиться.
— Пойдемте и мы, — позвал Любушко.
Они повернулись и пошли к станции.
— Я хочу досказать свою мысль, с которой начал, помните, в тот вечер, — молвил Любушко, беря деда под руку. — Все, что делается у нас, — все, все! — делается для того, чтобы человек жил не только счастливо — мы уже живем так! — но и неслыханно долго. Для врагов мира и человечества каждый минувший час, каждый сделанный шаг — шаг к неизбежной гибели. Для нас это — еще шаг к коммунизму, когда будут созданы все условия для долголетия. Мы все участвуем в борьбе за это. И новая эра вернет каждому из нас, за каждый год, вложенный в строительство коммунизма, лишние три-пять лет жизни.
А Прохор Иванов и его соратники вечно будут живы в памяти народной. Ибо дело, за которое они отдали самое дорогое, что имели, несказанно прекрасно и не подвластно смерти!..
Беседуя, они вошли в ворота сада и направились к лужайке, где освещенный закатными лучами солнца, придавшими мрамору, теплые, телесные краски, казалось, в глубоком раздумье сидел, как живой, Мичурин с яблоком в руке.
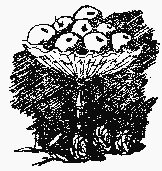
Крупнейшие заокеанские газеты посвятили покойному пространные некрологи. Его величали «великим бизнесменом» и другими пышными титулами. Прогрессивная печать также поместила несколько статей. Самую точную и выразительную характеристику Дюрана дала «Дейли Уоркер»: «Этот человек был олицетворением капитализма во всей его отвратительной наготе».
О Безымянном с этих пор не было ни слуху, ни духу. Фрэнк, сопоставляя некоторые данные, пришел к выводу, что его агент не только провалился сам, но и провалил целую группу ему подобных во главе с работником, которого Фрэнк чрезвычайно ценил. «Б-317» был навсегда вычеркнут из списков разведывательного управления.
В это же, примерно, время на Сиваше произошло исключительное событие, сообщение о котором облетело всю советскую печать. Строгановские колхозники, добывая на Сиваше соль, нашли в иле тело красноармейца — Прохора Иванова, как значилось в его документах. Тридцать пять лет пролежал здесь он, один из орлов Фрунзе. И Соль сохранила тело от разрушающей руки времени. Колхозники вынесли тело бойца на берег и бережно положили на траву. Безмолвно стояли они вокруг. Уже кто-то сплел из поздних цветов венок и положил его на грудь воина. И кто-то молвил, высказывая созревшую у всех мысль:
— Деда Савчука покликать надо…
Но дед шел уже сюда сам, морщинистый, крепкий, прямой.
Никто, собственно, не мог сказать: зачем нужно было позвать деда. Мало вероятно, чтобы дед Савчук мог опознать погибшего, в полках Фрунзе было более 20 тысяч человек. Но так или иначе, все чувствовали, что дед Савчук сейчас должен быть здесь, что это очень важно.
И вот дед, сняв шапку, стоял над телом бойца. Прохор Иванов лежал на песке, лицом кверху. Голова его покоилась среди пахучих стеблей душана, синих шариков «миколайчиков» и еще каких-то незатейливых лиловых цветочков. Нетронутым осталось его могучее тело, пробитое вражеским осколком прямо против сердца.
Дед Савчук, обычно такой словоохотливый на воспоминания о всем, что касалось тех дней, сейчас молчал.
Молчали и все окружающие.
Вскоре подошли Алмазов, Любушко, Кристев и Костров, как люди науки чрезвычайно заинтересованные необыкновенной находкой.
Дед Савчук пошел к ним навстречу и отвел Алмазова в сторону.
— Савва Никитич, у меня до вас просьба! Крепко, крепко вас попрошу: оживите того бойца…
Алмазов, потрясенный этой просьбой, глядел в глава старика, в уголках которых поблескивала влага.
— Вы ведь все можете… — умоляюще повторил дед Савчук.
Такая вера в могущество науки, создавшей «Рубиновую звезду» и вернувшей Кристева из небытия, звучала в голосе деда, что никому в голову не пришло улыбнуться наивности его слов.
— Это невозможно! — очень серьезно ответил Алмазов.
— Ни як?
— Нет.
Старик печально поник головой. Алмазов понял, что творилось в его душе.
— Послушайте меня, Иван Иванович! Если я говорю вам «нет», не чувствуйте себя обманутым, — сказал он. — Недалек час, когда для передовой науки не будет ничего невозможного. Уже сейчас она может творить чудеса. Она уже поднимает сады в бесплодных от века пустынях. А завтра она заставит служить делу жизни и эти мертвые воды, — Алмазов обвел рукой Сиваш. — Взнуздав энергию солнца, мы используем ее для блага народа. Наша наука скоро сделает возможными пересадки сердца и, нужно надеяться, научится восстанавливать ткани мозга. Я не хочу сказать, что человек тогда будет жить вечно. Нет, жизнь и смерть есть закон природы. Но наука поможет людям жить сто двадцать — сто пятьдесят лет, сохраняя до конца дней способность к творческому труду, запас сил и бодрости.
…Пусть не поколеблется ваша вера в науку, Иван Иванович. Верьте в нее. Эта наука, действительно, постигла секрет человеческого счастья. Она победит внезапную, насильственную смерть, подобную той, которая настигла этого бойца, и заставит далеко отступить ту, что подкрадывается постепенно. Она победит все болезни…
— Кроме одной — той, которой болен капитализм, — сказал Любушко. — Эта — неизлечима. Да и не медикам врачевать ее.
— Целиком разделяю твое мнение, — ответил Алмазов. — Но будем говорить о жизни. Что может быть почетнее и радостнее борьбы за жизнь человека? Как светло итти путем, который проложили Мечников, Павлов, Мичурин — гении мировой науки и великие жизнелюбы! А — впереди?! Мы овладеваем тайной белка и в скором будущем сможем сами создавать новые живые формы. Осуществить переход от неживого вещества к живому, от химии к биологии — какая ослепительная, сверкающая цель! Какой это будет переворот в науке!
— Я понимаю вас, дорогой друг, — горячо подхватил Кристев. — Создать ткань — трепетную, полную движения, заронить в нее искру прометеева огня и сознавать, что ты ее творец, — нет и не может быть на свете радости выше этой!..
— Да! — продолжал Алмазов. — Тогда откроются необозримые возможности для обновления тканей и органов человека, и задача долголетия будет решена окончательно. Это будет, Иван Иванович! Если нам с вами не придется воспользоваться плодами этой величайшей победы науки, то этого добьется наша смена. Правда, Олег Константинович? — и Алмазов дружески положил руку на плечо Кострова.
Принесли носилки и, опустив на них тело Прохора Иванова, унесли в сельсовет. Люди стали медленно сходиться.
— Пойдемте и мы, — позвал Любушко.
Они повернулись и пошли к станции.
— Я хочу досказать свою мысль, с которой начал, помните, в тот вечер, — молвил Любушко, беря деда под руку. — Все, что делается у нас, — все, все! — делается для того, чтобы человек жил не только счастливо — мы уже живем так! — но и неслыханно долго. Для врагов мира и человечества каждый минувший час, каждый сделанный шаг — шаг к неизбежной гибели. Для нас это — еще шаг к коммунизму, когда будут созданы все условия для долголетия. Мы все участвуем в борьбе за это. И новая эра вернет каждому из нас, за каждый год, вложенный в строительство коммунизма, лишние три-пять лет жизни.
А Прохор Иванов и его соратники вечно будут живы в памяти народной. Ибо дело, за которое они отдали самое дорогое, что имели, несказанно прекрасно и не подвластно смерти!..
Беседуя, они вошли в ворота сада и направились к лужайке, где освещенный закатными лучами солнца, придавшими мрамору, теплые, телесные краски, казалось, в глубоком раздумье сидел, как живой, Мичурин с яблоком в руке.