Страница:
– Что тебе здесь надо? – как мог невозмутимо обратился Томас к своему бывшему другу.
– Не прикидывайся еще большим глупцом, чем ты есть, – отозвался Стокли. – Ты отлично знаешь, зачем я здесь. – И обернувшись, скомандовал: – Арестовать обоих. Госпожу проводить обратно к месту ее пребывания.
В их сторону направились двое. Томас, загородив собой Марию, выставил вперед кулаки.
– Томас, не надо, – упавшим голосом сказала она. – Поздно. Слишком поздно.
– Она права, – усмехнулся Стокли то ли губами, то ли своим шрамом. – Действительно поздно. И между вами все кончено. А теперь позволь даме пройти к своим провожатым. Прояви, так сказать, благородство.
Томас не двигался, и тогда Мария сама обошла его, легонько стиснув ему при этом предплечье. Напоследок. Вместо прощания. Томас в гневном отчаянии смотрел, как три фигуры – женская посередине, две мужские по бокам – уходят по тропе в сторону Биргу.
Затем по кивку Стокли двое скрутили руки Томасу за спиной.
– Ну что, Томас, дорогой мой, – пропел бывший друг, глумливо его озирая. – Что же нас теперь ждет?
Глава 6
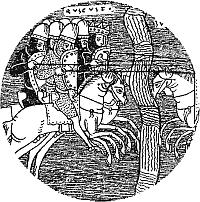 Жан д’Омедес выслушал сообщение Оливера Стокли с мрачным выражением лица. Великий магистр иоаннитов, человек уже немолодой, был поднят с постели в третьем часу ночи, а потому вначале даже накричал на наглеца и лишь постепенно вник сонным еще рассудком в суть происшествия, из-за которого караульщик дерзнул настоять на побудке магистра. Тогда д’Омедес, поспешно одевшись, вызвал к себе в зал совещаний, расположенный в самом сердце Ордена – форте Сент-Анжело, – старшего командующего галерами Ромегаса, а также Жана де ла Валетта.
Жан д’Омедес выслушал сообщение Оливера Стокли с мрачным выражением лица. Великий магистр иоаннитов, человек уже немолодой, был поднят с постели в третьем часу ночи, а потому вначале даже накричал на наглеца и лишь постепенно вник сонным еще рассудком в суть происшествия, из-за которого караульщик дерзнул настоять на побудке магистра. Тогда д’Омедес, поспешно одевшись, вызвал к себе в зал совещаний, расположенный в самом сердце Ордена – форте Сент-Анжело, – старшего командующего галерами Ромегаса, а также Жана де ла Валетта.
Язычки свеч на сквозняке отбрасывали на торопливо созванное собрание трепетные, медно-золотистые отсветы. Томас стоял меж двумя вооруженными стражами перед длинным столом, за которым восседали три начальственные персоны. Сбоку от стола стоял Стокли, который произвел доклад. Когда он закончил, в помещении нависла напряженная тишина, нарушил которую сам Великий магистр. Откашлявшись, он воззрился на Томаса.
– Доходит ли до тебя, какой вред ты своими действиями нанес Ордену? Семейство Веничи, услышав о том, что произошло, не простят нам этого никогда. Как и герцог Сардинии, с сыном которого была помолвлена эта женщина. Нам ли в нашем положении, и без того непрочном, наживать себе новых врагов?
– Если нам, сир, закроют входы в порты Неаполя и Сардинии, где мы пополняем запасы галер, – угрюмо пробурчал Ромегас, – то это резко ударит по нашей возможности наносить удары по пиратам и османам.
– Так что же нам в таком случае делать? – досадливо спросил д’Омедес.
– Выбор, боюсь, один, – ответил Ромегас. – Мы должны наказать сэра Томаса, причем самым примерным образом. Думаю, на иное семейство Веничи не пойдет.
– Погодите, – повернулся к ним вполоборота ла Валетт. – Нет никакой нужды в суетной поспешности. Еще не поздно вообще скрыть все это дело от посторонних глаз и ушей.
– В самом деле, поздно или нет? – как будто в тяжком раздумье произнес Великий магистр и проницательно поглядел на Томаса: – Сэр Томас, не нарушена ли честь дамы?
Молодой рыцарь, вспыхнув, потупил дерзкий взор в каменный пол.
– Понятно, – блеклым голосом произнес д’Омедес. – Значит, придется поступить так, как советует Ромегас. Пусть увидят, что Орден избавился от порочащего его негодяя.
– Он нарушил святой обет, – пригвоздил Ромегас, – и через это предал Святую веру. Кара должна быть быстрой и суровой. Веничи затребуют его голову. Хорошо, если хотя бы это утолит их гнев.
Ла Валетт желчно усмехнулся.
– Казнить сэра Томаса? Ты, часом, не шутишь?
– Представь себе, говорю абсолютно серьезно, – надменно поднял голову Ромегас.
– За что? За то, что он поддался зову плоти? Это, знаешь ли, еще не причина для повешения. Если так, то тогда надо б добрую половину рыцарей Ордена вздернуть с ним в один ряд. Ох уж эта мне незапятнанность чресл… Можно подумать, из наших доблестных рыцарей никто не имеет любовниц и не портит девиц. Я уж помалкиваю, что они вытворяют с женами врагов наших.
– Помилуйте, тише, – поднял руку Великий магистр. – Мы сейчас обсуждаем не все наше рыцарство. А только сэра Томаса.
– Если нет единого мерила для всех, сир, то впору и вовсе отказаться от кодекса рыцарской чести.
Великий магистр насупленно возвел бровь.
– Ты заходишь слишком далеко, ла Валетт.
– Смею заверить, что нет, сир. Это как раз вы допускаете лишку. – Ла Валетт указал на Томаса. – Этот рыцарь мне хорошо известен. Под моим началом он воевал последние два года. Равных ему нет ни в ратном деле, ни в преданности Ордену. Во всяком случае, я среди нынешнего племени такого не встречал. Сэр Томас – один из самых многообещающих рыцарей нашего молодого поколения. А потому зарубить на корню такой талант было бы в высшей степени опрометчиво, особенно сейчас, когда нам как воздух нужно достойное пополнение. Наказать его – несомненно, да. Может, даже подвергнуть публичной порке. Это живо всех приструнит и напомнит о необходимости следовать понятиям чести и благородства. Но на этом можно и остановиться.
– Этого недостаточно, – возразил Ромегас. – Если поступить так и позволить сэру Томасу остаться в Ордене, он будет для нас непреходящим постыдным напоминанием, причем не только своего позорного проступка, но и нашей к нему снисходительности, ежели не сказать попустительства, что самым пагубным образом скажется на дисциплине, да еще и будет разлагать нравственность. Нашему юному рыцарству нужно преподать урок. Им нужно напоминание о глубине и святости клятв, скрепляющих наш Орден воедино. Потому, сир, настоятельно призываю вас казнить этого отступника.
Ла Валетт на это покачал головой.
– Казнив его, вы тем самым рискуете отвадить от вступления в Орден других достойных молодых людей. Преступление сэра Томаса в том, что он молод; кто из нас в свое время сам не изведал столь же пламенных позывов и желаний, как этот совсем еще, в сущности, юноша? Ну, признайтесь же без ханжества, хотя бы самим себе, – разве нет? Если казнить его сейчас за вспышку безрассудства, затмившую временно разум, то тогда и подобные ему люди – те люди, в которых мы с вами так остро нуждаемся, – обойдут нас стороной, откажутся от нас. Мне думается, есть лучший способ… – Ла Валетт загадочно примолк, после чего продолжил: – Способ, который наглядно покажет, что мы не миримся с подобной необузданностью. Допустим, мы можем… исключить сэра Томаса из Ордена.
– Исключить? – Великий магистр нахмурился. – Это еще что за наказание?
– Мне кажется, для него не может быть ничего более постыдного. – Ла Валетт оборотился к Томасу. – Я знаю этого человека достаточно хорошо. Свою принадлежность к Ордену он почитает за высшую честь, какую только человек способен достичь в своей жизни. Именно Орден дает смысл, заданность и ценность его существованию. Уберите их, и он будет жить в несмываемом позоре, чувствовать на себе все бремя этой потери изо дня в день. Вот какое наказание следует к нему применить. Кроме того, покуда он жив, он по-прежнему сможет проявлять свой ратный талант в деле борьбы за торжество христианства везде, где бы он ни находился, даже неважно, где именно.
Эти слова ла Валетта вызвали у Томаса прилив благодарности, а еще – жгучего стыда. Да, таким образом он, в общем-то, может сохранить себе жизнь. Но его наставник прав в главном: нет для него, Томаса, бесчестья большего, чем оказаться вышвырнутым из Ордена. Что же тогда будет? Честь рыцаря в глазах тех, кто прознает про его участь, несказанно падет, смешается с грязью.
Великий магистр молчал, обдумывая участь молодого рыцаря. Наконец замершее в тяжком ожидании собрание услышало его слова.
– Я принял решение, – со степенной величавостью заговорил он. – Сэр Томас Баррет лишается своего звания и всех привилегий, обусловленных принадлежностью к Ордену. Его герб изымается из капитула рыцарей Англии, а сам сэр Томас с первым же попутным кораблем покидает пределы острова. Сюда он более не возвращается под страхом смерти; исключение составляет экстренное допущение самого Ордена. Он объявляется изгнанником и остается таковым до самой своей кончины или же пока не отменит волю сию пребывающий на тот момент в верховном сане Великий магистр Ордена, который отменит данный ордонанс исходя из требований тогдашнего момента. – Издав вздох, д’Омедес легонько стукнул по столу костяшками пальцев. – Увести задержанного.
– Прошу вначале дать мне увидеться с Марией, – с тихой строптивостью вымолвил среди общего молчания осужденный.
– Что-о? – грозно приподнялся на своем кресле Ромегас. – Да как ты смеешь? Убрать этого наглеца! Сию же минуту!
На Томаса сзади навалились стражи, поволокли к дверям, но он упирался.
– Мне всего лишь попрощаться! Я должен! Явите ж снисхождение!
– Прочь с глаз моих! – требовательно возвысил голос д’Омедес.
– Что будет с ней? Что ждет Марию? – отчаянно извиваясь, выкрикнул Томас то, что, похоже, беспокоило его больше, чем собственная участь.
– Ее черед еще настанет, – сказал в ответ Великий магистр. – Можешь не волноваться, ее тоже ждет и суд, и сообразное ему наказание.
Сердце у Томаса готово было разорваться. Уже от дверей он умоляюще выкрикнул в сторону Стокли:
– Бывшей нашей дружбой заклинаю, Оливер: позаботься о ней! Твоего гнева заслуживаю я, а не Мария! Поклянись, что защитишь ее!
Стокли стоял в молчании, и лишь легкая мстительная ухмылка выказывала истинные его чувства – или же это была видимость, из-за шрама. Томаса между тем выволокли, и двери за ним сомкнулись.
Глава 7
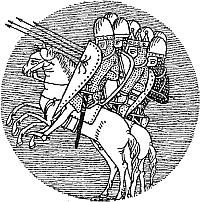 Родовое имение Баррета, Хартфордшир
Родовое имение Баррета, Хартфордшир
Год 1564-й, 13 декабря, День святой Люсии
Первое послание прибыло в сумерки, холодным невзрачным вечером.
Томас на старом резном стуле сидел у себя в рабочей комнате, бездумно уставясь в окно со свинцовым переплетом. За окном устилал долину снег. Неровные красновато-желтые блики от гаснущего в камине огня поигрывали, отражаясь на стекле. Снаружи синяя предвечерняя бездна, неуютно-холодноватая, которую Томас без движения – можно сказать, безжизненно – созерцал. Сердце было таким же холодным и безмолвным, как и этот мир снаружи, подернутый саваном в сонном ожидании грядущего животворного тепла, в наступление которого сейчас даже не верилось. Хотя всему своя пора. И весна возвратится так же неминуемо, как восход солнца. А затем – опять закат. Так что, собственно, чему радоваться? Так и годы – уныло разворачиваются подобно старому, видавшему виды полотну скатерти, и какая разница, что на нем за пятна, от каких былых пиров и увеселений? Сам дух у Томаса давно обратился в камень, такой же жесткий, неподатливый и бесчувственный. Но, несмотря на непреходящий упадок духа, о своем телесном состоянии Томас, как хозяин, все же заботился – был умерен в еде, упражнялся каждый день, в любую погоду и при любом самочувствии. Привычка формирует человека. Или его подобие.
Все те годы, что минули с его изгнания из Ордена Святого Иоанна, Томас неукоснительно держал себя в поджарой худобе, и ратный опыт его не пылился без дела. Европу бередили беспрестанные войны, в которых наемником изрядно поучаствовал и Томас. Смерть в бою, от голода и мора – все это гуляло по соседству, но как-то обходило его стороной (отдельные раны не в счет). А постоянное чтение вкупе со штудиями придавали гибкость уму. Томас не предавался самодовольной праздности, в которой погрязло, казалось, все новоявленное английское дворянство – пресловутый нобилитет, щеголяющий друг перед другом помпезной роскошью своих дворов и усадеб. Смешно сказать: куда ни плюнь, всюду маркизы да бароны, а сколькие из них способны стоять в боевом строю? Один из десяти, а то и того меньше.
В свои сорок пять Томас мог пощеголять выправкой молодого. И хотя виски и бородка его серебрились, а на обветренном лице прорезались морщинки, движения его были все так же легки и пружинисты, а сторонний глаз зорко подмечал: с таким попусту не шути. Бывали, правда, случаи (теперь они фактически сошли на нет), когда где-нибудь на званом пиру или балу к нему приставал какой-нибудь подвыпивший родовитый олух, слышавший невесть от кого историю про сэра Томаса, и с дурацкой настойчивостью пытался вызвать тихого рыцаря чем-нибудь помериться – умом ли, а то и силой. Однако Томас давно уже поднаторел в осаживании этаких болванов и делал это с неброским шиком и одновременно зрелостью возраста, избегая прямого столкновения, способного закончиться лишь публичным посрамлением молодого повесы. Сам познавший в юности горечь унижения, Томас за годы научился владеть собой и знал подлинную ценность самообладания – науки, оплаченной собственными мучениями, когда в темноте и одиночестве исступленно грызешь валик подушки, стремясь скрыть от остальных безысходность своего отчаяния. Стремления наживать новых врагов у него не было; что же до неотесанности этих скороспелых английских аристократов, то Бог с ними – как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лучше не связываться.
Лишь единожды он был вынужден ранить другого человека, и то в целях самозащиты – лет десять назад, на пиру у лондонского лорд-мэра. К Томасу тогда прицепился громкоголосый юноша – высокий, плечистый и, видимо, считающий себя непревзойденным мастером поединков. Но даже он занервничал, оказавшись с Томасом лицом к лицу: хмель как будто сошел, глаза напряженно выпучились, а рука на эфесе слегка подрагивала. Но он все-таки переместил ее на рукоять и с шелестом вытянул рапиру из тонко украшенных ножен – примерно наполовину; дальше помешала рука Томаса, сжавшая юноше запястье словно клещами. Перед тем как отвернуться, Томас с нежной предостерегающей улыбкой покачал головой. Но глупый забияка выкрикнул со спины что-то оскорбительное и снова взялся за рукоять оружия. Тогда Томас, крутнувшись, словно из ниоткуда взявшимся стилетом приколол ему руку к бедру, да так быстро, что никто и ахнуть не успел – кроме, пожалуй, самого юноши, который тотчас упал ничком. Томас невозмутимо вынул стилет и перевязал рану своим платком, после чего с извинениями откланялся.
При этом воспоминании он молча покачал головой, все еще досадуя на себя за то, что вовремя не вчитался в лицо того юноши – глядишь, обошлось бы без посмешища. И без крови. Ее на руках и без того достаточно, так что незачем больше сеять страдания, нанесенные в свое время многим, как иноверцам, так и христианам. Память об этом терзала Томаса даже спустя годы по возвращении домой, в Англию, став чем-то вроде еще одного шрама, который врачевало время наряду с познанием.
Томас плотнее запахнулся в плащ и, встав с приоконного стула, прошел к камину и аккуратно поместил на догорающие угли пару увесистых поленьев. С минуту он в ленивой зачарованности наблюдал, как из трещин в дереве с шипением струится дымчатый пар; но вот с сухим щелчком брызнул фонтан искр, и поленья занялись веселыми золотистыми языками огня. Тогда Томас возвратился к окну и снова сел, глядя, как за окном сгущаются фиолетовые сумерки.
За потрескиванием огня слух улавливал какую-то не то ходьбу, не то возню в большом, обычно безлюдном зале. Интересно, кто это там? Слуг в имении обитало всего ничего. У Томаса их вообще было немного. Уж во всяком случае, не десятки, что когда-то прислуживали родителям и братьям – давно, в детстве, еще до того, как отец присмотрел Томасу место в Ордене. А вскоре после того, как тот оставил Англию, мать и отец умерли. Помнится, Томас, тогда еще совсем мальчишка, получил сухое письмо от своего старшего брата Эдварда, извещающего, что оба родителя скончались от болезни, буквально один за другим. Затем на охоте случайно погиб сам Эдвард, а спустя год смерть нашла и младшего, Роберта, – в море, где он плавал на капере[21], единственной добычей которого оказалась дизентерия, смывшая без малого весь экипаж, за исключением кучки живых скелетов, что несколько месяцев спустя наконец дотянули до Дартмута. Эту грустную историю Томасу после его возвращения в имение поведала бывшая няня Роберта. Младший был в семье извечным любимцем и баловнем. Светловолосый проказник, он с детства неистово тянулся ко всяким приключениям, в отличие от того же Томаса, задумчивого молчуна. С братом Томас никогда не вздорил и не пытался с ним соперничать. Он его просто любил. Теперь из всех остался он один. Жил Томас в одиночестве, если не считать слуг: Джона, пожилой Ханны да еще молодого конюха, что управлялся с шестью лошадьми и упряжью в пристройке за стеной имения. Конюх Стивен с остальными слугами общался мало и был, по словам Ханны, «сам больше лошадь, нежели человек». Помимо них, за имением присматривал управляющий, который теперь жил неподалеку, в Бишопс-Стортфорде, и оттуда приглядывал за фермерами, что обитали в домиках на земле Томаса; с них он собирал ренту и пускал ее в оборот, дважды в год предоставляя господину отчеты.
Имение в Хартфорде служило Барретам родовым гнездом вот уже восемь поколений. Получается, Томас в этой цепочке являлся как бы замыкающим. Жены у него не было, наследников – тоже. С его кончиной имение предположительно должно было отойти какому-то дальнему родственнику, которого Томас отродясь не видывал и до которого ему, в сущности, не было дела.
Время от времени кто-нибудь из друзей отца делал попытки подыскать Томасу пару – усилия, которые тот вежливо, не неизменно отклонял. Быть может, и зря: некоторые из тех претенденток вращались в свете, были недурны собой и даже вполне тонкого ума. Но ни одна из них и сравниться не могла с Марией, а все вместе они лишь напоминали Томасу о том, что он утратил – и в этой жизни больше так и не обрел. А то, как они с Марией расстались, не оставляло надежды даже на провидение, которое могло бы их когда-нибудь обручить, если даже не на этом свете, то хотя бы на том. Вот так Томас и жил, с ощущением бессрочной утраты. После Марии не оставалось ничего, лишь зияющая боль воспоминаний. Немеркнущая память о прикосновениях, жестах, улыбках, малозаметных сменах мимики; о быстротечных и незабвенных минутах в объятиях друг друга…
На секунду груз воспоминаний сделался таким невыносимым, что Томас сердито тряхнул головой, незряче таращась со сжатыми кулаками в окно, на равнодушный в своей безмятежности заснеженный пейзаж. Но момент миновал, и Томас выдохнул, как человек, отходящий от сонного дурмана.
В дверь комнаты тихо постучали.
– Да? – повернулся от окна Томас.
Задвижка поднялась, дверь на заботливо смазанных петлях бесшумно открылась. На пороге стоял Джон. Кивая господину, он одновременно указал на неосвещенный коридор, ведущий в зал.
– Тут к вам гонец, сэр.
– Гонец? – поднял брови Томас. – Кто таков?
– Иноземец какой-то, – недоуменно, но с настороженностью ответил Джон. – Назвался этим, как его… Филиппом де Нантерром.
Томас секунду помолчал.
– Имени такого не припомню. Он сказал, кто его послал или о чем послание?
– Сказал, что оно исключительно для ваших ушей, сэр.
Томаса кольнуло волнение. Что здесь, в Англии, в его доме, делать какому-то французу, если только не ворошить что-нибудь из его, Томаса, давнего-предавнего прошлого?
– Где он сейчас?
– Я его, сэр, дальше прихожей не пустил, – заговорщицки сообщил Джон. – Так как-то спокойнее.
Подобные визиты Томаса откровенно раздражали. Гостей у него в последние годы было раз-два и обчелся; еще меньше приезжало с приглашениями на бал или банкет. Вообще он слыл нелюдимом, а визитеры были ему в тягость; не успев толком принять, он уже спешил как можно скорее от них отделаться. В костях ощущалась какая-то ломота, а потому нарушить свой вечерний покой у огня было досадно вдвойне. Если этот Филипп де Нантерр прибыл с предложением о военном найме, пусть даже за хорошие деньги, то ему предстоит уехать разочарованным. Томас уже примирился и с этим светом, и со своими врагами, а хотел лишь, чтобы его оставили в покое. Огладив аккуратную бородку, он прищурился на своего слугу:
– Ну а насчет сути его ко мне обращения ты ничего не разгадал?
– Маленько есть, – улыбнулся Джон. – У него к вам письмо, мой господин. Я его заметил в седельной сумке, когда отводил его лошадь на конюшню. Письмо он, понятно, забрал и сейчас держит при себе.
Томас не смог сдержать улыбки.
– Я не сомневаюсь, что та сумка взяла и открылась сама собой.
– Кто ж виноват, что она была плохо застегнута, сэр. А я лишь хотел добыть вам чуть больше сведений.
– Вот и молодец. Так что ж это за письмо, которое ты увидел?
– Пергамент, свернутый. С печатью. Имени отправителя снаружи не значится.
– А что за печать, не разглядел?
– Нет, сэр.
– Тогда опиши, хотя бы примерно.
– Отчего ж не описать. Крест. Крест с выемками на концах.
Голову Томасу вскружила внезапная легкость; он прикрыл глаза, сдерживая прилив образов и воспоминаний, непрошеных, а подчас и нежеланных. Одновременно с тем в груди затеплилось что-то вроде зыбкой надежды – искоркой, раздуваемой любопытством. С глубоким вдохом он открыл глаза и посмотрел на слугу так, будто увидел его только что.
– Отведи гостя на кухню и накорми.
– Сэр, но ведь он иноземец, – осторожно заметил Джон. – Такому доверия нет. Я б его на вашем месте спровадил подобру-поздорову.
– Вот и хорошо, что ты на своем месте, а я – на своем. Скоро совсем стемнеет, а дорогу на Бишопс-Стортфорд замело. Это не дело: человек может сбиться с пути. Скажи ему, что, если хочет, может остаться на ночлег. Накорми его ужином, предложи кровать. А я, скажи, скоро подойду.
Джон недовольно хмыкнул, но перечить хозяину – себе дороже.
Томас подбодрил его улыбкой:
– Похоже, путь до моего дома он проделал неблизкий. А потому предложить ему свое гостеприимство – наименьшее из того, что мы можем для него сделать. Так что давай-ка, ступай и устрой все как надо.
Джон с поклоном покинул рабочую комнату и прикрыл за собой дверь. Слушая, как под дубовой сенью зала смолкают его шаги, Томас задумчиво поглаживал бородку. Описание печати было ему хорошо знакомо. Эмблема рыцарей-госпитальеров. Спустя долгие годы ожидания Орден наконец прервал свое молчание.
Едва открыв дверь на кухню, Томас ощутил, что вся его рутина вместе с отшельничеством последних лет как будто слетают с плеч. За столом, спиной к огню очага, сидел посланец, ссутулясь над исходящей паром объемистой миской. Появление хозяина он встретил живым огоньком в глазах и поспешно встал, отирая губы тыльной стороной ладони. На смуглом лбу косым белесым штрихом выделялся заживший шрам. Обветренные, исполненные спокойного достоинства черты выдавали в нем солдата, возраст которому прибавляет образ жизни – так-то ему лет двадцать с небольшим, но уже первые годы в Ордене придают невольной зрелости. Он так и не снял толстого дорожного плаща с замызганным белым крестом, концы которого раздваивались по числу языков Ордена.
– Сэр Томас Баррет? У меня к вам послание. От Великого магистра, – уточнил гость на неплохом английском с густым акцентом, какой звучит на юге Франции. Томас, кивнув, жестом пригласил гостя сесть.
– Если желаете, можно прибегнуть к языку Ордена, – сказал он на французском.
– Было бы отрадой моему слуху, – одобрил гость, теперь уже на своем родном наречии.
– Им, – Томас кивнул в сторону своих слуг, – о моей прежней жизни известно немногое. Чтоб не распускали слухов по округе. Она и без того тесна, а сторонников римско-католической церкви здесь и без того не жалуют.
– Понимаю.
– Джон, можешь идти, – обернулся Томас к слуге. – Ханна, и ты тоже.
Когда дверь за ними закрылась, Томас, стоя напротив стола, пристально вгляделся в посланца:
– Ну так что?
– Великий магистр…
– Это который? – перебил Томас.
– Как понять «который»? – несколько растерялся молодой человек.
– Прошу прощения, – спохватился Томас. – Я несколько отошел от дел, в том числе и от тех, что в Ордене. А потому понятия не имею, кто его в данное время возглавляет.
– В самом деле? – посланец не смог скрыть своего удивления. – Лично я служу Великому магистру Жану де ла Валетту.
– Ла Валетт, – Томас задумчиво кивнул. – Помню его очень хорошо… Он сейчас, должно быть, уже совсем стар. – Посланец на это негодующе сверкнул глазами, вызвав у Томаса улыбку. – Во всяком случае, сметка у него всегда была как у бывалого. Умная, жесткая. А крепость в нем такая, какой я не встречал ни у кого. Истинно двужильный человек. Скажите, он все так же первый марш-бросок у новичков проводит сам?
– О да, – припоминая, выпятил губу француз. – И все так же приходит первым, а мы на карачках приползаем следом.
Оба расхохотались, и первоначальное напряжение как-то рассеялось. Томас вытянул из-под стола табурет и сел, улыбаясь припоминанию: гибкий худощавый человек лет за сорок, в испанском шлеме, бодро вышагивает впереди нестройной колонны измотанных юнцов, пыхтящих в попытке угнаться за рыцарем-ветераном. Впрочем, улыбка его сошла при повторном взгляде на крест, двоящий свои языки на плече у посланника.
– А сам ты откуда, брат?
– У нас родовое поместье под Номом.
– Ага, значит, я верно определил твой акцент, Филипп де Нантерр. Так у тебя, говоришь, ко мне послание?
– Не прикидывайся еще большим глупцом, чем ты есть, – отозвался Стокли. – Ты отлично знаешь, зачем я здесь. – И обернувшись, скомандовал: – Арестовать обоих. Госпожу проводить обратно к месту ее пребывания.
В их сторону направились двое. Томас, загородив собой Марию, выставил вперед кулаки.
– Томас, не надо, – упавшим голосом сказала она. – Поздно. Слишком поздно.
– Она права, – усмехнулся Стокли то ли губами, то ли своим шрамом. – Действительно поздно. И между вами все кончено. А теперь позволь даме пройти к своим провожатым. Прояви, так сказать, благородство.
Томас не двигался, и тогда Мария сама обошла его, легонько стиснув ему при этом предплечье. Напоследок. Вместо прощания. Томас в гневном отчаянии смотрел, как три фигуры – женская посередине, две мужские по бокам – уходят по тропе в сторону Биргу.
Затем по кивку Стокли двое скрутили руки Томасу за спиной.
– Ну что, Томас, дорогой мой, – пропел бывший друг, глумливо его озирая. – Что же нас теперь ждет?
Глава 6
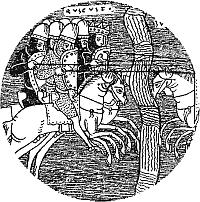
Язычки свеч на сквозняке отбрасывали на торопливо созванное собрание трепетные, медно-золотистые отсветы. Томас стоял меж двумя вооруженными стражами перед длинным столом, за которым восседали три начальственные персоны. Сбоку от стола стоял Стокли, который произвел доклад. Когда он закончил, в помещении нависла напряженная тишина, нарушил которую сам Великий магистр. Откашлявшись, он воззрился на Томаса.
– Доходит ли до тебя, какой вред ты своими действиями нанес Ордену? Семейство Веничи, услышав о том, что произошло, не простят нам этого никогда. Как и герцог Сардинии, с сыном которого была помолвлена эта женщина. Нам ли в нашем положении, и без того непрочном, наживать себе новых врагов?
– Если нам, сир, закроют входы в порты Неаполя и Сардинии, где мы пополняем запасы галер, – угрюмо пробурчал Ромегас, – то это резко ударит по нашей возможности наносить удары по пиратам и османам.
– Так что же нам в таком случае делать? – досадливо спросил д’Омедес.
– Выбор, боюсь, один, – ответил Ромегас. – Мы должны наказать сэра Томаса, причем самым примерным образом. Думаю, на иное семейство Веничи не пойдет.
– Погодите, – повернулся к ним вполоборота ла Валетт. – Нет никакой нужды в суетной поспешности. Еще не поздно вообще скрыть все это дело от посторонних глаз и ушей.
– В самом деле, поздно или нет? – как будто в тяжком раздумье произнес Великий магистр и проницательно поглядел на Томаса: – Сэр Томас, не нарушена ли честь дамы?
Молодой рыцарь, вспыхнув, потупил дерзкий взор в каменный пол.
– Понятно, – блеклым голосом произнес д’Омедес. – Значит, придется поступить так, как советует Ромегас. Пусть увидят, что Орден избавился от порочащего его негодяя.
– Он нарушил святой обет, – пригвоздил Ромегас, – и через это предал Святую веру. Кара должна быть быстрой и суровой. Веничи затребуют его голову. Хорошо, если хотя бы это утолит их гнев.
Ла Валетт желчно усмехнулся.
– Казнить сэра Томаса? Ты, часом, не шутишь?
– Представь себе, говорю абсолютно серьезно, – надменно поднял голову Ромегас.
– За что? За то, что он поддался зову плоти? Это, знаешь ли, еще не причина для повешения. Если так, то тогда надо б добрую половину рыцарей Ордена вздернуть с ним в один ряд. Ох уж эта мне незапятнанность чресл… Можно подумать, из наших доблестных рыцарей никто не имеет любовниц и не портит девиц. Я уж помалкиваю, что они вытворяют с женами врагов наших.
– Помилуйте, тише, – поднял руку Великий магистр. – Мы сейчас обсуждаем не все наше рыцарство. А только сэра Томаса.
– Если нет единого мерила для всех, сир, то впору и вовсе отказаться от кодекса рыцарской чести.
Великий магистр насупленно возвел бровь.
– Ты заходишь слишком далеко, ла Валетт.
– Смею заверить, что нет, сир. Это как раз вы допускаете лишку. – Ла Валетт указал на Томаса. – Этот рыцарь мне хорошо известен. Под моим началом он воевал последние два года. Равных ему нет ни в ратном деле, ни в преданности Ордену. Во всяком случае, я среди нынешнего племени такого не встречал. Сэр Томас – один из самых многообещающих рыцарей нашего молодого поколения. А потому зарубить на корню такой талант было бы в высшей степени опрометчиво, особенно сейчас, когда нам как воздух нужно достойное пополнение. Наказать его – несомненно, да. Может, даже подвергнуть публичной порке. Это живо всех приструнит и напомнит о необходимости следовать понятиям чести и благородства. Но на этом можно и остановиться.
– Этого недостаточно, – возразил Ромегас. – Если поступить так и позволить сэру Томасу остаться в Ордене, он будет для нас непреходящим постыдным напоминанием, причем не только своего позорного проступка, но и нашей к нему снисходительности, ежели не сказать попустительства, что самым пагубным образом скажется на дисциплине, да еще и будет разлагать нравственность. Нашему юному рыцарству нужно преподать урок. Им нужно напоминание о глубине и святости клятв, скрепляющих наш Орден воедино. Потому, сир, настоятельно призываю вас казнить этого отступника.
Ла Валетт на это покачал головой.
– Казнив его, вы тем самым рискуете отвадить от вступления в Орден других достойных молодых людей. Преступление сэра Томаса в том, что он молод; кто из нас в свое время сам не изведал столь же пламенных позывов и желаний, как этот совсем еще, в сущности, юноша? Ну, признайтесь же без ханжества, хотя бы самим себе, – разве нет? Если казнить его сейчас за вспышку безрассудства, затмившую временно разум, то тогда и подобные ему люди – те люди, в которых мы с вами так остро нуждаемся, – обойдут нас стороной, откажутся от нас. Мне думается, есть лучший способ… – Ла Валетт загадочно примолк, после чего продолжил: – Способ, который наглядно покажет, что мы не миримся с подобной необузданностью. Допустим, мы можем… исключить сэра Томаса из Ордена.
– Исключить? – Великий магистр нахмурился. – Это еще что за наказание?
– Мне кажется, для него не может быть ничего более постыдного. – Ла Валетт оборотился к Томасу. – Я знаю этого человека достаточно хорошо. Свою принадлежность к Ордену он почитает за высшую честь, какую только человек способен достичь в своей жизни. Именно Орден дает смысл, заданность и ценность его существованию. Уберите их, и он будет жить в несмываемом позоре, чувствовать на себе все бремя этой потери изо дня в день. Вот какое наказание следует к нему применить. Кроме того, покуда он жив, он по-прежнему сможет проявлять свой ратный талант в деле борьбы за торжество христианства везде, где бы он ни находился, даже неважно, где именно.
Эти слова ла Валетта вызвали у Томаса прилив благодарности, а еще – жгучего стыда. Да, таким образом он, в общем-то, может сохранить себе жизнь. Но его наставник прав в главном: нет для него, Томаса, бесчестья большего, чем оказаться вышвырнутым из Ордена. Что же тогда будет? Честь рыцаря в глазах тех, кто прознает про его участь, несказанно падет, смешается с грязью.
Великий магистр молчал, обдумывая участь молодого рыцаря. Наконец замершее в тяжком ожидании собрание услышало его слова.
– Я принял решение, – со степенной величавостью заговорил он. – Сэр Томас Баррет лишается своего звания и всех привилегий, обусловленных принадлежностью к Ордену. Его герб изымается из капитула рыцарей Англии, а сам сэр Томас с первым же попутным кораблем покидает пределы острова. Сюда он более не возвращается под страхом смерти; исключение составляет экстренное допущение самого Ордена. Он объявляется изгнанником и остается таковым до самой своей кончины или же пока не отменит волю сию пребывающий на тот момент в верховном сане Великий магистр Ордена, который отменит данный ордонанс исходя из требований тогдашнего момента. – Издав вздох, д’Омедес легонько стукнул по столу костяшками пальцев. – Увести задержанного.
– Прошу вначале дать мне увидеться с Марией, – с тихой строптивостью вымолвил среди общего молчания осужденный.
– Что-о? – грозно приподнялся на своем кресле Ромегас. – Да как ты смеешь? Убрать этого наглеца! Сию же минуту!
На Томаса сзади навалились стражи, поволокли к дверям, но он упирался.
– Мне всего лишь попрощаться! Я должен! Явите ж снисхождение!
– Прочь с глаз моих! – требовательно возвысил голос д’Омедес.
– Что будет с ней? Что ждет Марию? – отчаянно извиваясь, выкрикнул Томас то, что, похоже, беспокоило его больше, чем собственная участь.
– Ее черед еще настанет, – сказал в ответ Великий магистр. – Можешь не волноваться, ее тоже ждет и суд, и сообразное ему наказание.
Сердце у Томаса готово было разорваться. Уже от дверей он умоляюще выкрикнул в сторону Стокли:
– Бывшей нашей дружбой заклинаю, Оливер: позаботься о ней! Твоего гнева заслуживаю я, а не Мария! Поклянись, что защитишь ее!
Стокли стоял в молчании, и лишь легкая мстительная ухмылка выказывала истинные его чувства – или же это была видимость, из-за шрама. Томаса между тем выволокли, и двери за ним сомкнулись.
Глава 7
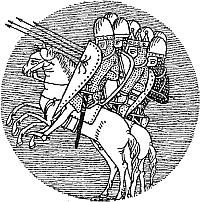
Год 1564-й, 13 декабря, День святой Люсии
Первое послание прибыло в сумерки, холодным невзрачным вечером.
Томас на старом резном стуле сидел у себя в рабочей комнате, бездумно уставясь в окно со свинцовым переплетом. За окном устилал долину снег. Неровные красновато-желтые блики от гаснущего в камине огня поигрывали, отражаясь на стекле. Снаружи синяя предвечерняя бездна, неуютно-холодноватая, которую Томас без движения – можно сказать, безжизненно – созерцал. Сердце было таким же холодным и безмолвным, как и этот мир снаружи, подернутый саваном в сонном ожидании грядущего животворного тепла, в наступление которого сейчас даже не верилось. Хотя всему своя пора. И весна возвратится так же неминуемо, как восход солнца. А затем – опять закат. Так что, собственно, чему радоваться? Так и годы – уныло разворачиваются подобно старому, видавшему виды полотну скатерти, и какая разница, что на нем за пятна, от каких былых пиров и увеселений? Сам дух у Томаса давно обратился в камень, такой же жесткий, неподатливый и бесчувственный. Но, несмотря на непреходящий упадок духа, о своем телесном состоянии Томас, как хозяин, все же заботился – был умерен в еде, упражнялся каждый день, в любую погоду и при любом самочувствии. Привычка формирует человека. Или его подобие.
Все те годы, что минули с его изгнания из Ордена Святого Иоанна, Томас неукоснительно держал себя в поджарой худобе, и ратный опыт его не пылился без дела. Европу бередили беспрестанные войны, в которых наемником изрядно поучаствовал и Томас. Смерть в бою, от голода и мора – все это гуляло по соседству, но как-то обходило его стороной (отдельные раны не в счет). А постоянное чтение вкупе со штудиями придавали гибкость уму. Томас не предавался самодовольной праздности, в которой погрязло, казалось, все новоявленное английское дворянство – пресловутый нобилитет, щеголяющий друг перед другом помпезной роскошью своих дворов и усадеб. Смешно сказать: куда ни плюнь, всюду маркизы да бароны, а сколькие из них способны стоять в боевом строю? Один из десяти, а то и того меньше.
В свои сорок пять Томас мог пощеголять выправкой молодого. И хотя виски и бородка его серебрились, а на обветренном лице прорезались морщинки, движения его были все так же легки и пружинисты, а сторонний глаз зорко подмечал: с таким попусту не шути. Бывали, правда, случаи (теперь они фактически сошли на нет), когда где-нибудь на званом пиру или балу к нему приставал какой-нибудь подвыпивший родовитый олух, слышавший невесть от кого историю про сэра Томаса, и с дурацкой настойчивостью пытался вызвать тихого рыцаря чем-нибудь помериться – умом ли, а то и силой. Однако Томас давно уже поднаторел в осаживании этаких болванов и делал это с неброским шиком и одновременно зрелостью возраста, избегая прямого столкновения, способного закончиться лишь публичным посрамлением молодого повесы. Сам познавший в юности горечь унижения, Томас за годы научился владеть собой и знал подлинную ценность самообладания – науки, оплаченной собственными мучениями, когда в темноте и одиночестве исступленно грызешь валик подушки, стремясь скрыть от остальных безысходность своего отчаяния. Стремления наживать новых врагов у него не было; что же до неотесанности этих скороспелых английских аристократов, то Бог с ними – как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лучше не связываться.
Лишь единожды он был вынужден ранить другого человека, и то в целях самозащиты – лет десять назад, на пиру у лондонского лорд-мэра. К Томасу тогда прицепился громкоголосый юноша – высокий, плечистый и, видимо, считающий себя непревзойденным мастером поединков. Но даже он занервничал, оказавшись с Томасом лицом к лицу: хмель как будто сошел, глаза напряженно выпучились, а рука на эфесе слегка подрагивала. Но он все-таки переместил ее на рукоять и с шелестом вытянул рапиру из тонко украшенных ножен – примерно наполовину; дальше помешала рука Томаса, сжавшая юноше запястье словно клещами. Перед тем как отвернуться, Томас с нежной предостерегающей улыбкой покачал головой. Но глупый забияка выкрикнул со спины что-то оскорбительное и снова взялся за рукоять оружия. Тогда Томас, крутнувшись, словно из ниоткуда взявшимся стилетом приколол ему руку к бедру, да так быстро, что никто и ахнуть не успел – кроме, пожалуй, самого юноши, который тотчас упал ничком. Томас невозмутимо вынул стилет и перевязал рану своим платком, после чего с извинениями откланялся.
При этом воспоминании он молча покачал головой, все еще досадуя на себя за то, что вовремя не вчитался в лицо того юноши – глядишь, обошлось бы без посмешища. И без крови. Ее на руках и без того достаточно, так что незачем больше сеять страдания, нанесенные в свое время многим, как иноверцам, так и христианам. Память об этом терзала Томаса даже спустя годы по возвращении домой, в Англию, став чем-то вроде еще одного шрама, который врачевало время наряду с познанием.
Томас плотнее запахнулся в плащ и, встав с приоконного стула, прошел к камину и аккуратно поместил на догорающие угли пару увесистых поленьев. С минуту он в ленивой зачарованности наблюдал, как из трещин в дереве с шипением струится дымчатый пар; но вот с сухим щелчком брызнул фонтан искр, и поленья занялись веселыми золотистыми языками огня. Тогда Томас возвратился к окну и снова сел, глядя, как за окном сгущаются фиолетовые сумерки.
За потрескиванием огня слух улавливал какую-то не то ходьбу, не то возню в большом, обычно безлюдном зале. Интересно, кто это там? Слуг в имении обитало всего ничего. У Томаса их вообще было немного. Уж во всяком случае, не десятки, что когда-то прислуживали родителям и братьям – давно, в детстве, еще до того, как отец присмотрел Томасу место в Ордене. А вскоре после того, как тот оставил Англию, мать и отец умерли. Помнится, Томас, тогда еще совсем мальчишка, получил сухое письмо от своего старшего брата Эдварда, извещающего, что оба родителя скончались от болезни, буквально один за другим. Затем на охоте случайно погиб сам Эдвард, а спустя год смерть нашла и младшего, Роберта, – в море, где он плавал на капере[21], единственной добычей которого оказалась дизентерия, смывшая без малого весь экипаж, за исключением кучки живых скелетов, что несколько месяцев спустя наконец дотянули до Дартмута. Эту грустную историю Томасу после его возвращения в имение поведала бывшая няня Роберта. Младший был в семье извечным любимцем и баловнем. Светловолосый проказник, он с детства неистово тянулся ко всяким приключениям, в отличие от того же Томаса, задумчивого молчуна. С братом Томас никогда не вздорил и не пытался с ним соперничать. Он его просто любил. Теперь из всех остался он один. Жил Томас в одиночестве, если не считать слуг: Джона, пожилой Ханны да еще молодого конюха, что управлялся с шестью лошадьми и упряжью в пристройке за стеной имения. Конюх Стивен с остальными слугами общался мало и был, по словам Ханны, «сам больше лошадь, нежели человек». Помимо них, за имением присматривал управляющий, который теперь жил неподалеку, в Бишопс-Стортфорде, и оттуда приглядывал за фермерами, что обитали в домиках на земле Томаса; с них он собирал ренту и пускал ее в оборот, дважды в год предоставляя господину отчеты.
Имение в Хартфорде служило Барретам родовым гнездом вот уже восемь поколений. Получается, Томас в этой цепочке являлся как бы замыкающим. Жены у него не было, наследников – тоже. С его кончиной имение предположительно должно было отойти какому-то дальнему родственнику, которого Томас отродясь не видывал и до которого ему, в сущности, не было дела.
Время от времени кто-нибудь из друзей отца делал попытки подыскать Томасу пару – усилия, которые тот вежливо, не неизменно отклонял. Быть может, и зря: некоторые из тех претенденток вращались в свете, были недурны собой и даже вполне тонкого ума. Но ни одна из них и сравниться не могла с Марией, а все вместе они лишь напоминали Томасу о том, что он утратил – и в этой жизни больше так и не обрел. А то, как они с Марией расстались, не оставляло надежды даже на провидение, которое могло бы их когда-нибудь обручить, если даже не на этом свете, то хотя бы на том. Вот так Томас и жил, с ощущением бессрочной утраты. После Марии не оставалось ничего, лишь зияющая боль воспоминаний. Немеркнущая память о прикосновениях, жестах, улыбках, малозаметных сменах мимики; о быстротечных и незабвенных минутах в объятиях друг друга…
На секунду груз воспоминаний сделался таким невыносимым, что Томас сердито тряхнул головой, незряче таращась со сжатыми кулаками в окно, на равнодушный в своей безмятежности заснеженный пейзаж. Но момент миновал, и Томас выдохнул, как человек, отходящий от сонного дурмана.
В дверь комнаты тихо постучали.
– Да? – повернулся от окна Томас.
Задвижка поднялась, дверь на заботливо смазанных петлях бесшумно открылась. На пороге стоял Джон. Кивая господину, он одновременно указал на неосвещенный коридор, ведущий в зал.
– Тут к вам гонец, сэр.
– Гонец? – поднял брови Томас. – Кто таков?
– Иноземец какой-то, – недоуменно, но с настороженностью ответил Джон. – Назвался этим, как его… Филиппом де Нантерром.
Томас секунду помолчал.
– Имени такого не припомню. Он сказал, кто его послал или о чем послание?
– Сказал, что оно исключительно для ваших ушей, сэр.
Томаса кольнуло волнение. Что здесь, в Англии, в его доме, делать какому-то французу, если только не ворошить что-нибудь из его, Томаса, давнего-предавнего прошлого?
– Где он сейчас?
– Я его, сэр, дальше прихожей не пустил, – заговорщицки сообщил Джон. – Так как-то спокойнее.
Подобные визиты Томаса откровенно раздражали. Гостей у него в последние годы было раз-два и обчелся; еще меньше приезжало с приглашениями на бал или банкет. Вообще он слыл нелюдимом, а визитеры были ему в тягость; не успев толком принять, он уже спешил как можно скорее от них отделаться. В костях ощущалась какая-то ломота, а потому нарушить свой вечерний покой у огня было досадно вдвойне. Если этот Филипп де Нантерр прибыл с предложением о военном найме, пусть даже за хорошие деньги, то ему предстоит уехать разочарованным. Томас уже примирился и с этим светом, и со своими врагами, а хотел лишь, чтобы его оставили в покое. Огладив аккуратную бородку, он прищурился на своего слугу:
– Ну а насчет сути его ко мне обращения ты ничего не разгадал?
– Маленько есть, – улыбнулся Джон. – У него к вам письмо, мой господин. Я его заметил в седельной сумке, когда отводил его лошадь на конюшню. Письмо он, понятно, забрал и сейчас держит при себе.
Томас не смог сдержать улыбки.
– Я не сомневаюсь, что та сумка взяла и открылась сама собой.
– Кто ж виноват, что она была плохо застегнута, сэр. А я лишь хотел добыть вам чуть больше сведений.
– Вот и молодец. Так что ж это за письмо, которое ты увидел?
– Пергамент, свернутый. С печатью. Имени отправителя снаружи не значится.
– А что за печать, не разглядел?
– Нет, сэр.
– Тогда опиши, хотя бы примерно.
– Отчего ж не описать. Крест. Крест с выемками на концах.
Голову Томасу вскружила внезапная легкость; он прикрыл глаза, сдерживая прилив образов и воспоминаний, непрошеных, а подчас и нежеланных. Одновременно с тем в груди затеплилось что-то вроде зыбкой надежды – искоркой, раздуваемой любопытством. С глубоким вдохом он открыл глаза и посмотрел на слугу так, будто увидел его только что.
– Отведи гостя на кухню и накорми.
– Сэр, но ведь он иноземец, – осторожно заметил Джон. – Такому доверия нет. Я б его на вашем месте спровадил подобру-поздорову.
– Вот и хорошо, что ты на своем месте, а я – на своем. Скоро совсем стемнеет, а дорогу на Бишопс-Стортфорд замело. Это не дело: человек может сбиться с пути. Скажи ему, что, если хочет, может остаться на ночлег. Накорми его ужином, предложи кровать. А я, скажи, скоро подойду.
Джон недовольно хмыкнул, но перечить хозяину – себе дороже.
Томас подбодрил его улыбкой:
– Похоже, путь до моего дома он проделал неблизкий. А потому предложить ему свое гостеприимство – наименьшее из того, что мы можем для него сделать. Так что давай-ка, ступай и устрой все как надо.
Джон с поклоном покинул рабочую комнату и прикрыл за собой дверь. Слушая, как под дубовой сенью зала смолкают его шаги, Томас задумчиво поглаживал бородку. Описание печати было ему хорошо знакомо. Эмблема рыцарей-госпитальеров. Спустя долгие годы ожидания Орден наконец прервал свое молчание.
Едва открыв дверь на кухню, Томас ощутил, что вся его рутина вместе с отшельничеством последних лет как будто слетают с плеч. За столом, спиной к огню очага, сидел посланец, ссутулясь над исходящей паром объемистой миской. Появление хозяина он встретил живым огоньком в глазах и поспешно встал, отирая губы тыльной стороной ладони. На смуглом лбу косым белесым штрихом выделялся заживший шрам. Обветренные, исполненные спокойного достоинства черты выдавали в нем солдата, возраст которому прибавляет образ жизни – так-то ему лет двадцать с небольшим, но уже первые годы в Ордене придают невольной зрелости. Он так и не снял толстого дорожного плаща с замызганным белым крестом, концы которого раздваивались по числу языков Ордена.
– Сэр Томас Баррет? У меня к вам послание. От Великого магистра, – уточнил гость на неплохом английском с густым акцентом, какой звучит на юге Франции. Томас, кивнув, жестом пригласил гостя сесть.
– Если желаете, можно прибегнуть к языку Ордена, – сказал он на французском.
– Было бы отрадой моему слуху, – одобрил гость, теперь уже на своем родном наречии.
– Им, – Томас кивнул в сторону своих слуг, – о моей прежней жизни известно немногое. Чтоб не распускали слухов по округе. Она и без того тесна, а сторонников римско-католической церкви здесь и без того не жалуют.
– Понимаю.
– Джон, можешь идти, – обернулся Томас к слуге. – Ханна, и ты тоже.
Когда дверь за ними закрылась, Томас, стоя напротив стола, пристально вгляделся в посланца:
– Ну так что?
– Великий магистр…
– Это который? – перебил Томас.
– Как понять «который»? – несколько растерялся молодой человек.
– Прошу прощения, – спохватился Томас. – Я несколько отошел от дел, в том числе и от тех, что в Ордене. А потому понятия не имею, кто его в данное время возглавляет.
– В самом деле? – посланец не смог скрыть своего удивления. – Лично я служу Великому магистру Жану де ла Валетту.
– Ла Валетт, – Томас задумчиво кивнул. – Помню его очень хорошо… Он сейчас, должно быть, уже совсем стар. – Посланец на это негодующе сверкнул глазами, вызвав у Томаса улыбку. – Во всяком случае, сметка у него всегда была как у бывалого. Умная, жесткая. А крепость в нем такая, какой я не встречал ни у кого. Истинно двужильный человек. Скажите, он все так же первый марш-бросок у новичков проводит сам?
– О да, – припоминая, выпятил губу француз. – И все так же приходит первым, а мы на карачках приползаем следом.
Оба расхохотались, и первоначальное напряжение как-то рассеялось. Томас вытянул из-под стола табурет и сел, улыбаясь припоминанию: гибкий худощавый человек лет за сорок, в испанском шлеме, бодро вышагивает впереди нестройной колонны измотанных юнцов, пыхтящих в попытке угнаться за рыцарем-ветераном. Впрочем, улыбка его сошла при повторном взгляде на крест, двоящий свои языки на плече у посланника.
– А сам ты откуда, брат?
– У нас родовое поместье под Номом.
– Ага, значит, я верно определил твой акцент, Филипп де Нантерр. Так у тебя, говоришь, ко мне послание?
