Страница:
Тёркин дальше тянет провод.
Взвод – за валом огневым,
Тёркин с ходу – вслед за взводом,
Топит провод, точно в воду,
Жив-здоров и невредим.
Вдруг из кустиков корявых,
Взрытых, вспаханных кругом, —
Чох! – снаряд за вспышкой ржавой.
Тёркин тотчас в снег – ничком.
Вдался вглубь, лежит – не дышит,
Сам не знает: жив, убит?
Всей спиной, всей кожей слышит,
Как снаряд в снегу шипит…
Хвост овечий – сердце бьётся.
Расстаётся с телом дух.
«Что ж он, чёрт, лежит – не рвётся,
Ждать мне больше недосуг».
Приподнялся – глянул косо.
Он почти у самых ног —
Гладкий, круглый, тупоносый,
И над ним – сырой дымок.
Сколько б душ рванул на выброс
Вот такой дурак слепой
Неизвестного калибра —
С поросёнка на убой.
Оглянулся воровато,
Подивился – смех и грех:
Все кругом лежат ребята,
Закопавшись носом в снег.
Тёркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид:
– Хватит, хлопцы, землю нюхать,
Не годится, – говорит.
Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду…
Видит Тёркин погребушку —
Не оттуда ль пушка бьёт?
Передал бойцам катушку:
– Вы – вперёд. А я – в обход.
С ходу двинул в дверь гранатой.
Спрыгнул вниз, пропал в дыму.
– Офицеры и солдаты,
Выходи по одному!..
Тишина. Полоска света.
Что там дальше – поглядим.
Никого, похоже, нету.
Никого. И я один.
Гул разрывов, словно в бочке,
Отдаётся в глубине.
Дело дрянь: другие точки
Бьют по занятой. По мне.
Бьют неплохо, спору нету,
Добрым словом помяни
Хоть за то, что погреб этот
Прочно сделали они.
Прочно сделали, надёжно —
Тут не то что воевать,
Тут, ребята, чай пить можно,
Стенгазету выпускать.
Осмотрелся, точно в хате:
Печка тёплая в углу,
Вдоль стены идут полати,
Банки, склянки на полу.
Непривычный, непохожий
Дух обжитого жилья:
Табаку, одёжи, кожи
И солдатского белья.
Снова сунутся? Ну что же,
В обороне нынче – я…
На прицеле вход и выход,
Две гранаты под рукой.
Смолк огонь. И стало тихо.
И идут – один, другой…
Тёркин, стой. Дыши ровнее.
Тёркин, ближе подпусти.
Тёркин, целься. Бей вернее,
Тёркин. Сердце, не части.
Рассказать бы вам, ребята,
Хоть не верь глазам своим,
Как немецкого солдата
В двух шагах видал живым.
Подходил он в чем-то белом,
Наклонившись от огня,
И как будто дело делал:
Шёл ко мне – убить меня.
В этот ровик, точно с печки,
Стал спускаться на заду…
Тёркин, друг, не дай осечки.
Пропадёшь, – имей в виду.
За секунду до разрыва,
Знать, хотел подать пример:
Прямо в ровик спрыгнул живо
В полушубке офицер.
И поднялся незадетый,
Цельный. Ждём за косяком.
Офицер – из пистолета,
Тёркин – в мягкое – штыком.
Сам присел, присел тихонько.
Повело его легонько.
Тронул правое плечо.
Ранен. Мокро. Горячо.
И рукой коснулся пола;
Кровь, – чужая иль своя?
Тут как даст вблизи тяжёлый,
Аж подвинулась земля!
Вслед за ним другой ударил,
И темнее стало вдруг.
«Это – наши, – понял парень, —
Наши бьют, – теперь каюк».
Оглушённый тяжким гулом,
Тёркин никнет головой.
Тула, Тула, что ж ты, Тула,
Тут же свой боец живой.
Он сидит за стенкой дзота,
Кровь течёт, рукав набряк.
Тула, Тула, неохота
Помирать ему вот так.
На полу в холодной яме
Неохота нипочём
Гибнуть с мокрыми ногами,
Со своим больным плечом.
Жалко жизни той, приманки,
Малость хочется пожить,
Хоть погреться на лежанке,
Хоть портянки просушить…
Тёркин сник. Тоска согнула.
Тула, Тула… Что ж ты, Тула?
Тула, Тула. Это ж я…
Тула… Родина моя!..





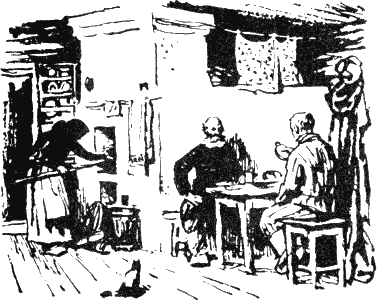

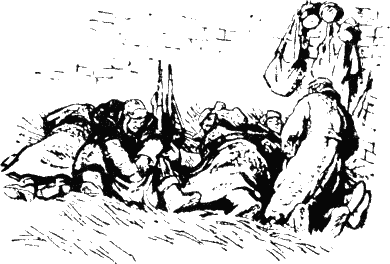


Взвод – за валом огневым,
Тёркин с ходу – вслед за взводом,
Топит провод, точно в воду,
Жив-здоров и невредим.
Вдруг из кустиков корявых,
Взрытых, вспаханных кругом, —
Чох! – снаряд за вспышкой ржавой.
Тёркин тотчас в снег – ничком.
Вдался вглубь, лежит – не дышит,
Сам не знает: жив, убит?
Всей спиной, всей кожей слышит,
Как снаряд в снегу шипит…
Хвост овечий – сердце бьётся.
Расстаётся с телом дух.
«Что ж он, чёрт, лежит – не рвётся,
Ждать мне больше недосуг».
Приподнялся – глянул косо.
Он почти у самых ног —
Гладкий, круглый, тупоносый,
И над ним – сырой дымок.
Сколько б душ рванул на выброс
Вот такой дурак слепой
Неизвестного калибра —
С поросёнка на убой.
Оглянулся воровато,
Подивился – смех и грех:
Все кругом лежат ребята,
Закопавшись носом в снег.
Тёркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид:
– Хватит, хлопцы, землю нюхать,
Не годится, – говорит.
Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду…
Видит Тёркин погребушку —
Не оттуда ль пушка бьёт?
Передал бойцам катушку:
– Вы – вперёд. А я – в обход.
С ходу двинул в дверь гранатой.
Спрыгнул вниз, пропал в дыму.
– Офицеры и солдаты,
Выходи по одному!..
Тишина. Полоска света.
Что там дальше – поглядим.
Никого, похоже, нету.
Никого. И я один.
Гул разрывов, словно в бочке,
Отдаётся в глубине.
Дело дрянь: другие точки
Бьют по занятой. По мне.
Бьют неплохо, спору нету,
Добрым словом помяни
Хоть за то, что погреб этот
Прочно сделали они.
Прочно сделали, надёжно —
Тут не то что воевать,
Тут, ребята, чай пить можно,
Стенгазету выпускать.
Осмотрелся, точно в хате:
Печка тёплая в углу,
Вдоль стены идут полати,
Банки, склянки на полу.
Непривычный, непохожий
Дух обжитого жилья:
Табаку, одёжи, кожи
И солдатского белья.
Снова сунутся? Ну что же,
В обороне нынче – я…
На прицеле вход и выход,
Две гранаты под рукой.
Смолк огонь. И стало тихо.
И идут – один, другой…
Тёркин, стой. Дыши ровнее.
Тёркин, ближе подпусти.
Тёркин, целься. Бей вернее,
Тёркин. Сердце, не части.
Рассказать бы вам, ребята,
Хоть не верь глазам своим,
Как немецкого солдата
В двух шагах видал живым.
Подходил он в чем-то белом,
Наклонившись от огня,
И как будто дело делал:
Шёл ко мне – убить меня.
В этот ровик, точно с печки,
Стал спускаться на заду…
Тёркин, друг, не дай осечки.
Пропадёшь, – имей в виду.
За секунду до разрыва,
Знать, хотел подать пример:
Прямо в ровик спрыгнул живо
В полушубке офицер.
И поднялся незадетый,
Цельный. Ждём за косяком.
Офицер – из пистолета,
Тёркин – в мягкое – штыком.
Сам присел, присел тихонько.
Повело его легонько.
Тронул правое плечо.
Ранен. Мокро. Горячо.
И рукой коснулся пола;
Кровь, – чужая иль своя?
Тут как даст вблизи тяжёлый,
Аж подвинулась земля!
Вслед за ним другой ударил,
И темнее стало вдруг.
«Это – наши, – понял парень, —
Наши бьют, – теперь каюк».
Оглушённый тяжким гулом,
Тёркин никнет головой.
Тула, Тула, что ж ты, Тула,
Тут же свой боец живой.
Он сидит за стенкой дзота,
Кровь течёт, рукав набряк.
Тула, Тула, неохота
Помирать ему вот так.
На полу в холодной яме
Неохота нипочём
Гибнуть с мокрыми ногами,
Со своим больным плечом.
Жалко жизни той, приманки,
Малость хочется пожить,
Хоть погреться на лежанке,
Хоть портянки просушить…
Тёркин сник. Тоска согнула.
Тула, Тула… Что ж ты, Тула?
Тула, Тула. Это ж я…
Тула… Родина моя!..
* * *
А тем часом издалёка,
Глухо, как из-под земли,
Ровный, дружный, тяжкий рокот
Надвигался, рос. С востока
Танки шли.
Низкогрудый, плоскодонный,
Отягчённый сам собой,
С пушкой, в душу наведённой,
Стращен танк, идущий в бой.
А за грохотом и громом,
За бронёй стальной сидят,
По местам сидят, как дома,
Трое-четверо знакомых
Наших стриженых ребят.
И пускай в бою впервые,
Но ребята – свет пройди,
Ловят в щели смотровые
Кромку поля впереди.
Видят – вздыбился разбитый,
Развороченный накат.
Крепко бито. Цель накрыта.
Ну, а вдруг как там сидят!
Может быть, притих до срока
У орудия расчёт?
Развернись машина боком —
Бронебойным припечёт.
Или немец с автоматом,
Лезть наружу не дурак,
Там следит за нашим братом,
Выжидает. Как не так.
Двое вслед за командиром
Вниз – с гранатой – вдоль стены.
Тишина. – Углы темны…
– Хлопцы, занята квартира, —
Слышат вдруг из глубины.
Не обман, не вражьи шутки,
Голос вправдашный, родной:
– Пособите. Вот уж сутки
Точка данная за мной…
В темноте, в углу каморки,
На полу боец в крови.
Кто такой? Но смолкнул Тёркин,
Как там хочешь, так зови.
Он лежит с лицом землистым,
Не моргнёт, хоть глаз коли.
В самый срок его танкисты
Подобрали, повезли.
Шла машина в снежной дымке,
Ехал Тёркин без дорог.
И держал его в обнимку
Хлопец – башенный стрелок.
Укрывал своей одёжей,
Грел дыханьем. Не беда,
Что в глаза его, быть может,
Не увидит никогда…
Свет пройди, – нигде не сыщешь,
Не случалось видеть мне
Дружбы той святей и чище,
Что бывает на войне.

О награде

– Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.
Буду ль жив ещё? – Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчёт медали:
Мне её тогда подай.
Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое —
Человек пришёл с войны.
Вот пришёл я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришёл, а тут гулянка.
Нет гулянки? Ладно, нет.
Я в другой колхоз и в третий —
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.
И, явившись на вечёрку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».
И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.
И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.
– Как, мол, что? – Бывало всяко.
– Трудно всё же? – Как когда.
– Много раз ходил в атаку?
– Да, случалось иногда.
И девчонки на вечёрке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.
И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна…
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!
Ждёт девчонка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего…
– Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечёрке,
И девчонка – самый цвет.
– Нет, – сказал Василий Тёркин
И вздохнул. И снова: – Нет.
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.
* * *
Тёркин, Тёркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далёко вдаль.
Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.
Где девчонки, где вечёрки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Тёркин,
Что туда дороги нет.
Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.
Страшный бой идёт, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Гармонь

По дороге прифронто?вой,
Запоясан, как в строю,
Шёл боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.
Шёл легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой.
Отлежался. Да к тому же
Щёлкал по лесу мороз,
Защемлял в пути всё туже,
Подгонял, под мышки нёс.
Вдруг – сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофёр,
Тормозит:
– Садись, пехота,
Щёки снегом бы натёр.
Далёко ль?
– На фронт обратно.
Руку вылечил.
– Понятно.
Не герой?
– Покамест нет.
– Доставай тогда кисет.
Курят, едут. Гроб – дорога.
Меж сугробами – туннель.
Чуть ли что, свернёшь немного,
Как свернул – снимай шинель.
– Хорошо – как есть лопата.
– Хорошо, а то беда.
– Хорошо – свои ребята.
– Хорошо, да как когда.
Грузовик гремит трёхтонный,
Вдруг колонна впереди.
Будь ты пеший или конный,
А с машиной – стой и жди.
С толком пользуйся стоянкой.
Разговор – не разговор.
Наклонился над баранкой, —
Смолк шофёр,
Заснул шофёр.
Сколько суток полусонных,
Сколько вёрст в пурге слепой
На дорогах занесённых
Он оставил за гобой…
От глухой лесной опушки
До невидимой реки —
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики,
Легковые – криво, косо,
В ряд, не вряд, вперёд-назад,
Гусеницы и колёса
На снегу ещё визжат.
На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь —
Не дотронься как-нибудь.
– Вот беда: во всей колонне
Завалящей нет гармони,
А мороз – ни стать, ни сесть…
Снял перчатки, трёт ладони,
Слышит вдруг:
– Гармонь-то есть.
Уминая снег зернистый,
Впеременку – пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.
– У кого гармонь, ребята?
– Да она-то здесь, браток… —
Оглянулся виновато
На водителя стрелок.
– Так сыграть бы на дорожку?
– Да сыграть – оно не вред.
– В чём же дело? Чья гармошка?
– Чья была, того, брат, нет…
И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
– Командир наш был любитель…
Схоронили мы его.
– Так… – С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой,
Нехотя обидел вдруг.
Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь:
– Я считал, сыграть-то можно,
Думал, что ж её беречь.
А стрелок:
– Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем…
Трое – были мы друзья.
– Да нельзя так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну…
И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же – посудите —
Может, завтра – с места в бой…
– Знаешь что, – сказал водитель, —
Ну, сыграй ты, шут с тобой.
Только взял боец трёхрядку,
Сразу видно – гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Позабытый деревенский
Вдруг завёл, глаза закрыв,
Стороны родной смоленской
Грустный памятный мотив,
И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.
От машин заиндевелых
Шёл народ, как на огонь.
И кому какое дело,
Кто играет, чья гармонь.
Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомёк.
Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли…
И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повёл о трёх танкистах,
Трёх товарищах рассказ.
Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.
А боец зовёт куда-то,
Далеко, легко ведёт.
– Ах, какой вы все, ребята,
Молодой ещё народ.
Я не то ещё сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так ещё сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу.
Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу,
И давайте я на шутку
Это всё переведу.
Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.
– Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.
– Отморозил парень пальцы, —
Надо помощь скорую.
– Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую…
И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трёхрядку
Повернул другим концом.
И забыто – не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому ещё лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?
Плясуны на пару пара
С места кинулися вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.
– Веселей кружитесь, дамы!
На носки не наступать!
И бежит шофёр тот самый,
Опасаясь опоздать.
Чей кормилец, чей поилец,
Где пришёлся ко двору?
Крикнул так, что расступились:
– Дайте мне, а то помру!..
И пошёл, пошёл работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.
Словно в праздник на вечёрке
Половицы гнёт в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.
Подаёт за штукой штуку:
– Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощёный круг!
Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук,
Припечатать так, чтоб сразу
Каблуку тому – каюк!
А гармонь зовёт куда-то,
Далёко, легко ведёт…
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.
Хоть бы что ребятам этим,
С места – в воду и в огонь.
Всё, что может быть на свете,
Хоть бы что – гудит гармонь.
Выговаривает чисто,
До души доносит звук.
И сказали два танкиста
Гармонисту:
– Знаешь, друг…
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат?
Вся в крови была одёжа,
И просил ты пить да пить…
Приглушил гармонь:
– Ну что же,
Очень даже может быть.
– Нам теперь стоять в ремонте.
У тебя маршрут иной.
– Это точно…
– А гармонь-то,
Знаешь что, – бери с собой.
Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту.
– Что вы, хлопцы, как же так?..
– Ничего, – сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это – память про него…
И с опушки отдалённой
Из-за тысячи колёс
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» – донеслось.
И опять увалы, взгорки,
Снег да ёлки с двух сторон…
Едет дальше Вася Тёркин, —
Это был, конечно, он.

Два солдата
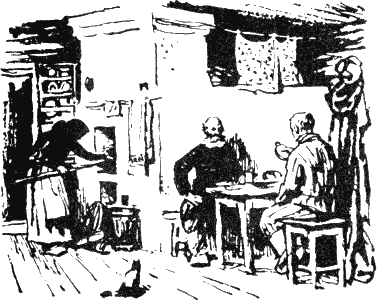
В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гудит война.
На печи в избе старуха,
Дед-хозяин у окна.
Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит – Тёркин дома,
Тёркин снова на войне.
А старик как будто ухом
По привычке не ведёт.
– Перелёт! Лежи, старуха. —
Или скажет:
– Недолёт…
На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика,
С кем жила – не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого вдали держала
По хозяйству все ключи.
А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.
– Вот не режет, точишь, точишь,
Не берёт, ну что ты хочешь!.. —
Тёркин встал:
– А может, дед,
У неё развода нет?
Сам пилу берёт:
– А ну-ка… —
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.
Повела, повисла кротко.
Тёркин щурится:
– Ну, вот.
Поищи-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.
Посмотреть – и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.
Обернулась – и готово.
– На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инстру?мент не кори.
И хозяин виновато
У бойца берёт пилу.
– Вот что значит мы, солдаты, —
Ставит бережно в углу.
А старуха:
– Слаб глазами.
Стар годами мой солдат.
Поглядел бы, что с часами,
С той войны ещё стоят…
Снял часы, глядит: машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.
Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.
Осмотрев часы детально, —
Всё ж часы, а не пила, —
Мастер тихо и печально
Посвистел:
– Плохи дела…
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
Что ты думаешь, – пошли!
Крутит стрелку, ставит пятый,
Час – другой, вперёд – назад.
– Вот что значит мы, солдаты.
Прослезился дед-солдат.
Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
– Идут!
– Ну и парень, ну и шут…
Удивляется. А парень
Услужить ещё не прочь.
– Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.
Тут старуха застонала:
– Сало, сало! Где там сало…
Тёркин:
– Бабка, сало здесь.
Не был немец – значит, есть!
И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
– Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?
Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
– Бог с тобою, разве можно…
Помолчи уж, помолчи.
А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
– Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.
Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.
Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.
– Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.
Отвинтил у фляги крышку:
– Пей, отец, не будет лишку.
Поперхнулся дед-солдат.
Подтянулся:
– Виноват!..
Крошку хлебушка понюхал.
Пожевал – и сразу сыт.
А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
– Рассуждая так ли, сяк ли,
Всё равно такою каплей
Не согреть бойца в бою.
Будьте живы!
– Пейте.
– Пью…
И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.
Дед кипит:
– Позволь, товарищ.
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?
Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне – тогда я бог!
Снова где-то на задворках
Мёрзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чём – Василий Тёркин,
Как ни в чём – старик солдат.
– Эти штуки в жизни нашей, —
Дед расхвастался, – пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадёт, откинешь ложкой,
А в тебя – так и мертвец.
– Но не знали вы бомбёжки,
Я скажу тебе, отец.
– Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрёшь.
А скажи, простая штука
Есть у вас?
– Какая?
– Вошь.
И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Тёркин
И сказал
– Частично есть…
– Значит, есть? Тогда ты – воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты – солдат, хотя и млад,
А солдат солдату – брат.
И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьёз.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьём мы немца
Или, может, не побьём?
– Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.
Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь – захочешь есть.
Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднёс.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе
И солдату самому.
Молча в путь запоясался,
Осмотрелся – все ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!
Всё припомнил, всё проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:
– Побьём, отец…
В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гремит война.
На печи в избе – старуха.
Дед-хозяин у окна.
В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперёд,
По снегам идёт Василий
Тёркин. Немца бить идёт.

О потере
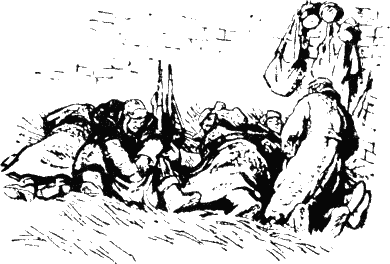
Потерял боец кисет,
Заискался, – нет и нет.
Говорит боец:
– Досадно.
Столько вдруг свалилось бед:
Потерял семью. Ну, ладно.
Нет, так на? тебе – кисет!
Запропастился куда-то,
Хвать-похвать, пропал и след.
Потерял и двор и хату.
Хорошо. И вот – кисет.
Кабы годы молодые,
А не целых сорок лет…
Потерял края родные,
Всё на свете и кисет.
Посмотрел с тоской вокруг:
– Без кисета, как без рук.
В неприютном школьном доме
Мужики, не детвора.
Не за партой – на соломе,
Перетёртой, как костра?.
Спят бойцы, кому досуг.
Бородач горюет вслух:
– Без кисета у махорки
Вкус не тот уже. Слаба!
Вот судьба, товарищ Тёркин. —
Тёркин:
– Что там за судьба!
Так случиться может с каждым, —
Возразил бородачу, —
Не такой со мной однажды
Случай был. И то молчу.
И молчит, сопит сурово.
Кое-где привстал народ.
Из мешка из вещевого
Тёркин шапку достаёт.
Просто шапку меховую,
Той подругу боевую,
Что сидит на голове.
Есть одна. Откуда две?
– Привезли меня на танке, —
Начал Тёркин, – сдали с рук.
Только нет моей ушанки,
Непорядок чую вдруг.
И не то чтоб очень зябкий, —
Просто гордость у меня.
Потому, боец без шапки —
Не боец. Как без ремня.
А девчонка перевязку
Нежно делает, с опаской,
И, видать, сама она
В этом деле зелена.
– Шапку, шапку мне, иначе
Не поеду! – Вот дела.
Так кричу, почти что плачу,
Рана трудная была.
А она, девчонка эта,
Словно «баюшки-баю»:
– Шапки вашей, – молвит, – нету,
Я вам шапку дам свою.
Наклонилась и надела.
– Не волнуйтесь, – говорит
И своей ручонкой белой
Обкололась: был небрит.
Сколько в жизни всяких шапок
Я носил уже – не счесть,
Но у этой даже запах
Не такой какой-то есть…
– Ишь ты, выдумал примету.
– Слышал звон издалека.
– А зачем ты шапку эту
Сохраняешь?
– Дорога?.
Дорога бойцу, как память.
А ещё сказать могу
По секрету, между нами, —
Шапку с целью берегу.
И в один прекрасный вечер
Вдруг случится разговор:
«Разрешите вам при встрече
Головной вручить убор…»
Сам привстал Василий с места
И под смех бойцов густой,
Как на сцене, с важным жестом
Обратился будто к той,
Что пять слов ему сказала,
Что таких ребят, как он,
За войну перевязала,
Может, целый батальон.
– Ишь, какие знает речи,
Из каких политбесед:
«Разрешите вам при встрече…»
Вон тут что. А ты – кисет.
– Что ж, понятно, холостому
Много лучше на войне:
Нет тоски такой по дому,
По детишкам, по жене.
– Холостому? Это точно.
Это ты как угадал.
Но поверь, что я нарочно
Не женился. Я, брат, знал!
– Что ты знал! Кому другому
Знать бы лучше наперёд,
Что уйдёт солдат из дому,
А война домой придёт.
Что пройдёт она потопом
По лицу земли живой
И заставит рыть окопы
Перед самою Москвой.
Что ты знал!..
– А ты постой-ка,
Не гляди, что с виду мал,
Я не столько,
Не полстолько, —
Четверть столько! —
Только знал.
– Ничего, что я в колхозе,
Не в столице курс прошёл.
Жаль, гармонь моя в обозе,
Я бы лекцию прочёл.
Разреши одно отметить,
Мой товарищ и сосед:
Сколько лет живём на свете?
Двадцать пять! А ты – кисет.
Бородач под смех и гомон
Роет вновь труху-солому,
Перещупал всё вокруг:
– Без кисета, как без рук…
– Без кисета, несомненно,
Ты боец уже не тот.
Раз кисет – предмет военный,
На-ко мой, не подойдёт?
Принимай, я – добрый парень.
Мне не жаль. Не пропаду.
Мне ещё пять штук подарят
В наступающем году.
Тот берёт кисет потёртый,
Как дитя, обновке рад…
И тогда Василий Тёркин
Словно вспомнил:
– Слушай, брат,
Потерять семью не стыдно —
Не твоя была вина.
Потерять башку – обидно,
Только что ж, на то война.
Потерять кисет с махоркой,
Если некому пошить, —
Я не спорю, – тоже горько,
Тяжело, но можно жить,
Пережить беду-проруху,
В кулаке держать табак,
Но Россию, мать-старуху,
Нам терять нельзя никак.
Наши деды, наши дети,
Наши внуки не велят.
Сколько лет живём на свете?
Тыщу?.. Больше! То-то, брат!
Сколько жить ещё на свете, —
Год, иль два, иль тащи лет, —
Мы с тобой за всё в ответе.
То-то, врат! А ты – кисет…

Поединок

Немец был силён и ловок,
Ладно скроен, крепко сшит,
Он стоял, как на подковах,
Не пугай – не побежит.
Сытый, бритый, бережёный,
Дармовым добром кормлённый,
На войне, в чужой земле
Отоспавшийся в тепле.
Он ударил, не стращая,
Бил, чтоб сбить наверняка.
И была как кость большая
В русской варежке рука…
Не играл со смертью в прятки, —
Взялся – бейся и молчи, —
Тёркин знал, что в этой схватке
Он слабей: не те харчи.
Есть войны закон не новый:
В отступленье – ешь ты вдоволь,
В обороне – так ли сяк,
В наступленье – натощак.
Немец стукнул так, что челюсть
