Страница:
Вера Новицкая
Веселые будни. Дневник гимназистки

Молебен. – Японка.
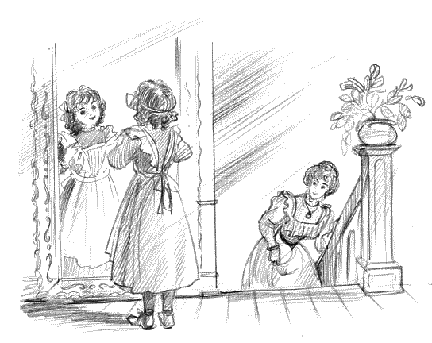
Ну, теперь я совсем настоящая гимназистка, даже и платье на мне форменное! То есть не то, чтобы уж очень форменное, потому на нем есть и складочки, и оборочки, передник тоже с крылышками и кружевом обшит, но все же платье на мне коричневое, a передник черный. Мне даже кажется, будто я немножко выросла, но это, быть может, только так кажется, потому что все-таки я самая маленькая в нашем классе. Как это приятно сказать – наш класс, наша гимназия!
Мундир свой я надела первый раз на молебен, a – представьте себе! – были же такие чудачки, которые в пестрых платьях явились. Вот охота!
Как только мы пришли, сама начальница забрала всех нас, новеньких, и повела в зал на молебен. Жарко было страшно. Две или три девочки из старших классов хлопнулись в обморок, но, говорят, это ничего, всегда так бывает.
Кончили мы молиться, подошла к нам девица в синем платье и повела по лестнице на самый верх, потому что малыши-приготовишки, мы, шестой и пятый классы[1] – все в верхнем коридоре. Оказалось, это и есть наша классная дама, она сейчас же представилась нам.
Ужасно миленькая: небольшого роста, но толстушка порядочная, личико круглое-круглое, как дядя Коля говорит, «циркулем обведенное», глаза большие, карие, веселые и блестят, точно мокрые вишни. Носуля у нее совсем коротенький, верхняя губа тоже. Засмеется – точно ей все лицо веревочкой кверху подтянут! A зубы большие, белые, тоже как у инспектора, на миндаль похожи. Сама живая, веселая, так и крутится. Дуся!
Вот стала она нас по скамейкам рассаживать.
Я еще за молебном заметила одну ужасно миленькую девочку, в темно-синем платье, с двумя длинными светлыми косами. Мы с ней рядом стояли, a потом, пока шли наверх, и побеседовать немного успели. Зовут ее Юля Бек.
Мне очень хотелось сесть с ней на одну скамейку, да не тут-то было – она высокого роста, и ее на третью загнали, a меня посадили на первую, но не совсем вперед, а во второй колонне от учительского стола. Место-то чудесное, ворчать нечего, но если бы вы только знали, кого со мной посадили!
Ее я тоже раньше заметила, и мудрено проглядеть. Смотрю: японка, ну, право японка! И фасон лица такой, и глаза немного кверху. Фу! Правда, она довольно беленькая, и у нее дивная толстая каштановая коса ниже пояса – но все ж она японка. И вдруг именно меня с ней сажают! Я чуть не заплакала со злости.
Ничего не поделаешь, сидим рядом, но я нарочно с ней ни слова, будто ее и не существует. Вот еще, может, ее дядя или братья русских убивали, a я с ней разговаривать стану! И зачем ее только в нашу гимназию приняли?
Отвернулась. A все-таки интересно. Стала я сперва так вкось на нее поглядывать, a потом не выдержала, повернулась совсем: ведь вместе сидеть будем, поневоле придется в конце концов познакомиться.
Пока я обо всем этом раздумывала, классная дама ходила от одной скамейки к другой и у каждой девочки спрашивала, как зовут, фамилию и кто такая, православная или нет. Добралась и до нас. Я сказала. Потом японку спрашивает:
– Как ваша фамилия?
– Снежина.
– A имя?
– Люба.
– Вы православная?
– Да.
Вот тебе и фунт!.. То есть pardon, я хотела сказать. Вот так штука, вот тебе и «японка»!
Я ужасно обрадовалась, что ошиблась, теперь можно будет подружиться с ней. Сейчас, конечно, и разговорились. A ведь она совсем миленькая, особенно когда говорит или улыбается, так потешно рот бантиком складывает, и веселая, хохотушка – так и заливается.
В этот день нас недолго в гимназии продержали, велели только записать, какие книги и тетради купить надо, a потом распустили по домам.
Мы, сколько могли, поболтали с Любой, но в какие-нибудь полчаса много ли успеешь? Ничего, мы свое наверстаем, потому ведь я ой-ой как люблю поговорить, да и «японка» моя, видно, по этой части тоже не промах.
После обеда мы с мамочкой отправились за всем нужным. Купили книги, тетради, и ранец – это было самое интересное! Мамочка хотела сумку; но тут я и руками и ногами замахала. Подумайте только: если купить сумку, то ее за мной горничная будет носить, – ужасно нужно! – тогда как ранец я сама на плечи нацеплю. И всякий издали увидит, что гимназистка идет!
Купили мы еще целую массу белой бумаги для обертки тетрадей, клякспапиру[2] и ленточек. Конечно, клякспапир не обыкновенный, розовый, как во всякой тетради даром дают, – фи! Нет, у меня они двух цветов: чудесные светло-сиреневые, и к ним пунцовые ленточки, a другие светло-желтые с нежно-голубыми лентами. Разве плохой вкус? Совсем bon genre[3], даже мамуся одобрила.
Мой милейший двоюродный братец Володя смеется, конечно, говорит «бабство». Да что с мальчишки взять? – Пусть болтает! A все-таки красиво, и во всем классе таких тетрадей точно больше ни у кого не будет. Только бы клякс слишком много не насаживать, это уж вовсе не bon genre выйдет.
Наши учительницы.
Ну, теперь я, кажется, всякий уголок и закоулочек у нас в гимназии знаю, все облетела и высмотрела.
В самом низу один только первый, выпускной класс, квартира начальницы, докторская, дамская[4] и еще какая-то большая-большая комната с желтыми шкафами и столами, a на них все хитрые машины стоят; написано «физический кабинет», но кто его знает, что там делают. В среднем этаже второй, третий и четвертый классы, a на самом верху остальные. Во всех трех этажах есть коридор и зала, и оба верхних как две капли воды друг на друга похожи, только в средней зале есть образ «Благословения детей», потому что там всякое утро общая молитва бывает.
Нам, малышам, бегать вниз только до начала уроков позволяют, a потом ни-ни.
Класс у нас большой, светлый, веселенький. Уроков каждый день пять полагается, только в субботу четыре.
Вот одна за другой стали учительницы являться.
Русская – тот же самый милый толстый Барбос, который экзаменовал меня, настоящее его имя – Ольга Викторовна.
Француженка – тоже та самая, что меня на экзамене спрашивала, только теперь лицо у нее не такое смуглое, как тогда. Зовут ее Надежда Аркадьевна, и она русская француженка, не французская.
Девочки ее не любят, говорят «цыганка», a мне она нравится, хотя правда – некрасивая: глаза у нее черные и точно вон выскочить собираются, a прическа – как большое-большое гнездо. Все-таки она славная.
Попинька же у нас премиленький, настоящий душка; некрасивый и тоже желтоватый, но веселый, ласковый, постоянно шутит и нас иначе как «кралечками» да «красавицами» не называет. Евгения Васильевна (это нашу классную даму так зовут) говорила, кажется, что он академик, но, конечно, это вздор или я что-нибудь не разобрала, или она напутала. Первый раз слышу!.. То есть, понятно, не про академию, это я давным-давно знаю, да и дядя Коля мой – академик; но то совсем другое, он офицер, – так ему и полагается значок, шпоры и аксельбанты носить, но чтобы наш милый поп-батенька нарядился!..
Конечно, ерунда.
Ну и немка у нас! Откуда только такую откопали? Уж кого-кого, a ее точно циркулем не обводили – ни дать ни взять две дощечки в синее платье нарядились! И всю ее точно из треугольников сложили: локти углом, подбородок углом, нос углом. Глаза карие и ужасно блестящие, щеки – будто вдавленные, но розовые, a сама такая длинная, что хочется ее взять да посередине узлом завязать.
Зовут это сокровище мадемуазель Линде. Видно, злющая-презлющая, настоящая шипуля. A начнет по-русски говорить, все смеются: где только «л» попадется, она непременно мягкий знак поставит: «палька», «слюшайте». Ведь надо ж выдумать!
A я-то чуть не на первом же уроке отличилась!
Повесили нам на доску картину, a там нарисована девочка на стуле, и волосы у нее размалеваны – как раз как пестрые кошки бывают. Стала мадемуазель Линде вопросы задавать, a девочки отвечать должны. Уж и отвечают они – одно горе! На весь класс, кроме нас с Любой, всего пять-шесть есть, которые хоть что-нибудь маракуют. Вот немка и спрашивает одну девочку, Сахарову:
– Was für Haare hat das Mädchen?[5]
Ta стоит, рот разинув, ничего не понимает, a я Любе потихоньку и говорю:
– Bunte[6].
Правда ведь пестрые! Сахарова, умница дорогая, возьми да и повтори:
– Bunte!
Кто сообразил, понятно, так и покатился, мне тоже страшно смешно было, только я очень испугалась: ну, думаю, съест меня сейчас немка! Закусила я губу, сделала «святые глаза» и сижу тише воды ниже травы. Классная дама, кажется, видела, что это я шепнула, но она только собрала свою носулю на веревочку и хохочет-заливается.
Немка посмотрела-посмотрела – и ничего. Сказала только Сахаровой:
– Какие глюпости!
А потом объявила:
– Das Mädchen hat blondes Haar[7].
Хорошо, что сказала, иначе я бы до этого никогда не додумалась!
Кто ужасно-ужасно милый – так это учительница рисования. Высокая такая, волосы черные, глаза большущие, идет точно царица, но с нами такая ласковая, меня даже по голове погладила, a как в коридоре встретит, сейчас же:
– Ну-ка, черноглазый стригунчик, подите сюда, покажите ваши тараканчики!
Но если бы только вы видели, что этот самый «стригунчик» в тетрадке рисует!.. Господи, как мне совестно! Так бы хотелось угодить Юлии Григорьевне, но рука ни с места, a коли двинется, так и того хуже. И ведь есть же счастливые девочки, которые могут рисовать: и Юля Бек, и Зернова, да и «японочка» моя совсем недурно это делает. А у меня – Боже, Боже! – что за ужасные кривули в тетрадке красуются!
Учительница географии у нас очень хорошенькая, зовут ее Елена Петровна; она совсем молоденькая, розовая, тоненькая, нарядная и всегда как куколка одета. Девочки наши по ней с ума сходят, только не я. Вот хорошенькая она, a не нравится мне, потому что я знаю… То есть не знаю, а… Чувствую, что она никого из нас не любит. Я всегда чувствую, любят меня или нет. И когда нет, мне делается так неуютно, так холодно… А около нее всегда холодно, и глаза у нее недобрые.
Учительница арифметики и того хуже. Это не та, что меня экзаменовала, совсем другая. Зовут ее Вера Андреевна. Она молодая, но вся красная, вечно по классу бегает, руки потирает и вертится, и крутится. Ужасно ей хочется миленькой быть, a только, по-моему, она противная. Мы с Любой ее сейчас же «краснокожим индейцем» прозвали; все девочки одобрили, теперь ее никто иначе и не называет.
Весело у нас в гимназии, просто чудо! Чего мы только на переменках не вытворяем! Да кабы только на переменках – на уроках тоже всяко бывает. У нас своя компания, хоть и маленькая, но, правду надо сказать, шумная. Говорят, что мы и на новеньких не похожи, так скоро ко всему привыкли.
Да, все это хорошо, a уроки-то на завтра все-таки выучить надо. Это не дома – тут весь класс слушает, да и перед учительницами совестно. И задана-то гадость какая: горизонт, небосклон, параллельные круги – покорно благодарю. И зачем только все это выдумали?
Бегу, a то мамочка ворчать будет.
Только что пришло письмо от тети Лидуши. Пишет, что она с мужем приедет через месяц из Швейцарии и привезет мне что-то очень хорошее. Что бы это могло быть? И отчего прямо не сказать? Извольте-ка четыре недели мучиться!
В самом низу один только первый, выпускной класс, квартира начальницы, докторская, дамская[4] и еще какая-то большая-большая комната с желтыми шкафами и столами, a на них все хитрые машины стоят; написано «физический кабинет», но кто его знает, что там делают. В среднем этаже второй, третий и четвертый классы, a на самом верху остальные. Во всех трех этажах есть коридор и зала, и оба верхних как две капли воды друг на друга похожи, только в средней зале есть образ «Благословения детей», потому что там всякое утро общая молитва бывает.
Нам, малышам, бегать вниз только до начала уроков позволяют, a потом ни-ни.
Класс у нас большой, светлый, веселенький. Уроков каждый день пять полагается, только в субботу четыре.
Вот одна за другой стали учительницы являться.
Русская – тот же самый милый толстый Барбос, который экзаменовал меня, настоящее его имя – Ольга Викторовна.
Француженка – тоже та самая, что меня на экзамене спрашивала, только теперь лицо у нее не такое смуглое, как тогда. Зовут ее Надежда Аркадьевна, и она русская француженка, не французская.
Девочки ее не любят, говорят «цыганка», a мне она нравится, хотя правда – некрасивая: глаза у нее черные и точно вон выскочить собираются, a прическа – как большое-большое гнездо. Все-таки она славная.
Попинька же у нас премиленький, настоящий душка; некрасивый и тоже желтоватый, но веселый, ласковый, постоянно шутит и нас иначе как «кралечками» да «красавицами» не называет. Евгения Васильевна (это нашу классную даму так зовут) говорила, кажется, что он академик, но, конечно, это вздор или я что-нибудь не разобрала, или она напутала. Первый раз слышу!.. То есть, понятно, не про академию, это я давным-давно знаю, да и дядя Коля мой – академик; но то совсем другое, он офицер, – так ему и полагается значок, шпоры и аксельбанты носить, но чтобы наш милый поп-батенька нарядился!..
Конечно, ерунда.
Ну и немка у нас! Откуда только такую откопали? Уж кого-кого, a ее точно циркулем не обводили – ни дать ни взять две дощечки в синее платье нарядились! И всю ее точно из треугольников сложили: локти углом, подбородок углом, нос углом. Глаза карие и ужасно блестящие, щеки – будто вдавленные, но розовые, a сама такая длинная, что хочется ее взять да посередине узлом завязать.
Зовут это сокровище мадемуазель Линде. Видно, злющая-презлющая, настоящая шипуля. A начнет по-русски говорить, все смеются: где только «л» попадется, она непременно мягкий знак поставит: «палька», «слюшайте». Ведь надо ж выдумать!
A я-то чуть не на первом же уроке отличилась!
Повесили нам на доску картину, a там нарисована девочка на стуле, и волосы у нее размалеваны – как раз как пестрые кошки бывают. Стала мадемуазель Линде вопросы задавать, a девочки отвечать должны. Уж и отвечают они – одно горе! На весь класс, кроме нас с Любой, всего пять-шесть есть, которые хоть что-нибудь маракуют. Вот немка и спрашивает одну девочку, Сахарову:
– Was für Haare hat das Mädchen?[5]
Ta стоит, рот разинув, ничего не понимает, a я Любе потихоньку и говорю:
– Bunte[6].
Правда ведь пестрые! Сахарова, умница дорогая, возьми да и повтори:
– Bunte!
Кто сообразил, понятно, так и покатился, мне тоже страшно смешно было, только я очень испугалась: ну, думаю, съест меня сейчас немка! Закусила я губу, сделала «святые глаза» и сижу тише воды ниже травы. Классная дама, кажется, видела, что это я шепнула, но она только собрала свою носулю на веревочку и хохочет-заливается.
Немка посмотрела-посмотрела – и ничего. Сказала только Сахаровой:
– Какие глюпости!
А потом объявила:
– Das Mädchen hat blondes Haar[7].
Хорошо, что сказала, иначе я бы до этого никогда не додумалась!
Кто ужасно-ужасно милый – так это учительница рисования. Высокая такая, волосы черные, глаза большущие, идет точно царица, но с нами такая ласковая, меня даже по голове погладила, a как в коридоре встретит, сейчас же:
– Ну-ка, черноглазый стригунчик, подите сюда, покажите ваши тараканчики!
Но если бы только вы видели, что этот самый «стригунчик» в тетрадке рисует!.. Господи, как мне совестно! Так бы хотелось угодить Юлии Григорьевне, но рука ни с места, a коли двинется, так и того хуже. И ведь есть же счастливые девочки, которые могут рисовать: и Юля Бек, и Зернова, да и «японочка» моя совсем недурно это делает. А у меня – Боже, Боже! – что за ужасные кривули в тетрадке красуются!
Учительница географии у нас очень хорошенькая, зовут ее Елена Петровна; она совсем молоденькая, розовая, тоненькая, нарядная и всегда как куколка одета. Девочки наши по ней с ума сходят, только не я. Вот хорошенькая она, a не нравится мне, потому что я знаю… То есть не знаю, а… Чувствую, что она никого из нас не любит. Я всегда чувствую, любят меня или нет. И когда нет, мне делается так неуютно, так холодно… А около нее всегда холодно, и глаза у нее недобрые.
Учительница арифметики и того хуже. Это не та, что меня экзаменовала, совсем другая. Зовут ее Вера Андреевна. Она молодая, но вся красная, вечно по классу бегает, руки потирает и вертится, и крутится. Ужасно ей хочется миленькой быть, a только, по-моему, она противная. Мы с Любой ее сейчас же «краснокожим индейцем» прозвали; все девочки одобрили, теперь ее никто иначе и не называет.
Весело у нас в гимназии, просто чудо! Чего мы только на переменках не вытворяем! Да кабы только на переменках – на уроках тоже всяко бывает. У нас своя компания, хоть и маленькая, но, правду надо сказать, шумная. Говорят, что мы и на новеньких не похожи, так скоро ко всему привыкли.
Да, все это хорошо, a уроки-то на завтра все-таки выучить надо. Это не дома – тут весь класс слушает, да и перед учительницами совестно. И задана-то гадость какая: горизонт, небосклон, параллельные круги – покорно благодарю. И зачем только все это выдумали?
Бегу, a то мамочка ворчать будет.
Только что пришло письмо от тети Лидуши. Пишет, что она с мужем приедет через месяц из Швейцарии и привезет мне что-то очень хорошее. Что бы это могло быть? И отчего прямо не сказать? Извольте-ка четыре недели мучиться!
Моя компания. – Путешествие по святым местам.
У меня теперь завелось трое друзей неразлучных, мы почти всегда вместе ходим и в классе по соседству сидим. A сколько нам от начальницы достается! Не знаю уж почему, но она терпеть не может, когда обнявшись ходят. Как увидит, сейчас же скажет:
– Пожалуйста, не переплетайтесь!
А мы это именно и любим: обнимаемся все четверо да по самой середине коридора и маршируем, и кто ни идет, дорогу загораживаем.
Самая тихонькая из нас Люба, она редко когда расшалится и что-нибудь выдумает, но хохотать мастерица. Зато наша Шурка Тишалова – той хоть медаль за шалости давай. И мордашка у нее препотешная: плоская, широкая, нос совсем кверху и маленький, как пуговка. Глаза серенькие, плутоватые, зубы большие, белые, a щеки точно поджаренные. Страшно на татарчонка похожа. Славная девчонка, никогда-никогда не врет, a все-таки жулик страшнейший.
Полуштофик – это я нашу Штоф так называю, потому что она совсем маленькая, почти как я, – тоже душка. Волосенки короткие, белобрысенькие и кудрявые, a рожица всегда улыбается. Она на такого веселого, шустрого мальчишку похожа.
Вот вся эта наша компания чуть-чуть в историю не влетела. Мы-то три выкрутились благополучно, a бедная Шурка так здорово вляпалась… то есть я хотела сказать попалась. Это все Володина наука – выраженьица-то эти, он их из гимназии поприносил! Я-то сама ничего, одобряю их, да, беда, другие не одобряют. Девочки-то, пожалуй, тоже, хотя тоже не все – например, наша всезнающая Зернова раз на меня за это так взглянула! Да она-то – пустяки, a было похуже.
Как-то объявила Евгения Васильевна, что Краснокожка нам трудную-претрудную письменную работу даст, я и скажи:
– Вот тебе и фунт!
Девочки все фыркнули, a я вовсе смешить их не собиралась, нечаянно это у меня вырвалось. Евгения Васильевна, хоть и засмеялась, но с ужасом на меня взглянула.
– Муся, вы ли это? Такая благовоспитанная девочка! Откуда это у вас?
Я ей объяснила откуда, a только все-таки отвыкать надо. Вовсе не желаю, чтобы все эти тихони наши надо мной смеялись. Покорно благодарю!
Как узнала Шурка про арифметику, сразу точно в воду ее окунули. Странно, так-то вообще она сейчас и сообразит, и придумает что хотите, но лишь дело коснется арифметики… Кончено! Точно у нее в мозгу занавесочку задернули – ни с места. Люба моя насчет задач ни то ни ce, ни шатко ни валко. Полуштофик тоже как Бог на душу положит. Я же обыкновенно молодцом, a только – кто его знает! – разве можно уж слишком на свою голову полагаться?
A тут еще Женюрочка наша напугала: трудная, говорит, работа будет, претрудная. Шурка чуть не трясется, Штоф охает, и мне страшно делается.
– Господа, a господа! Знаете что? Бежим перед работой к образу прикладываться, – шепчет Тишалова.
Мысль хорошая, да сделать-то как? Образ внизу, a ход туда нам, малышам, воспрещается, и Евгения Васильевна в этом отношении ужасная упрямица, – просись не просись, ни за что не пустит. Как же быть? Мудрили мы, мудрили и решили потихоньку стрекача задать. Проситься хуже: если не пустят, а все-таки убежишь, так уж наверняка накажут.
Всю вторую перемену мы провертелись у лестницы – никак не улизнешь: как назло, то одна, то другая синявка[8] так и шмыгает около нас.
Вот и звонок. Все в классы входят, и мы плетемся, нос повеся. Тишалова чуть не плачет; глядя на нее, и у меня как будто душа в пятки уходит. Женюрочки еще в классе нет, Краснокожки тоже.
– A что если сейчас слетать? Еще успеем, теперь все по местам, на лестнице никого не встретим, а? Идем, живо! – говорит Тишалова.
– Ладно, идем, – говорю.
– Идем, – говорит и Штоф.
Люба немножко трусит, но только одну минуту – и мы уже вихрем несемся по лестнице в среднюю залу. По дороге ни души.
Подбегаем к образу. Я приподнимаюсь на цыпочки и перевешиваюсь через решетку с правой стороны, Люба с левой, Штоф в середине, Шурка ждет очереди. Я прикладываюсь и, давай Бог ноги, улепетываю наверх, вскакиваю в класс, остальные за мной. Уф! Доехали! Евгении Васильевны все еще нет.
Но где же Тишалова? Странно!
Вдруг в дверях появляются Евгения Васильевна и Шура. Батюшки-светы, что ж это значит? На нее без смеху глядеть невозможно: прямые редкие волосенки, почти везде мокрые, прилипли к голове, и с них что-то капает…
Евгения Васильевна, красная-прекрасная, собирается отчитывать Шурку, но за их спиной появляется Индеец.
– Это что за дивное видение? – спрашивает она, установившись на Тишалову и состроив насмешливую гримасу.
Ишь ты, Краснокожка еще и остроумничает!
Шурке стыдно и смешно, она тоже вся красная и просит разрешения выйти. Евгения Васильевна сама идет с ней и через минуту приводит ее обратно, еще более облизанную, но сухую, – с нее уже не капает.
Класс хохочет, a мы все переглядываемся, – влетели!
Зернова сидит как мумия, Грачева поджимает губы – радуется, что нам достанется. Но Краснокожка усмиряет всех и велит записывать задачу. Тишалова шепчет нам:
– Лампадку на голову перевернула, но все-таки приложилась. Муся, милая, ради Бога, подсказывай, до смерти боюсь!
Задача была нехитрая и сразу у меня вышла. Люба поднаврала в одном месте, но по моей поправила.
У бедной Шурки, видно, дело не ладилось, она и сопела, и пыхтела – да только это не всегда помогает. Нагибается к Леоновой, спрашивает, сколько фунтов[9] во втором вопросе получается. Ta будто не слышит. Скажет она, как же! Но, по крайней мере, хоть гадости не сделала, a Танька Грачева, слышу, нарочно неверно подсказывает. Вот противная! Смотрю: Индеец с Женюрочкой о чем-то беседуют. Тогда я тетрадкой закрылась да все строчки Тишаловой и подсказала. A Таньке это даром не пройдет, я ее тоже когда-нибудь подкачу!
После звонка мы, как всегда, собрались уходить, да не тут-то было. Начала Евгения Васильевна суд и расправу чинить, взяла Шурку за бока. Ta все по чистой совести и рассказала. Евгения Васильевна сразу успокоилась, поняла, конечно, что по серьезному делу ходили, a не за глупостями какими-нибудь, улыбнулась и спрашивает:
– Что ж это, вы одна у меня в классе такая набожная?
Шурка взглянула на нас, замялась немножко и говорит:
– Да, это я одна выдумала.
– И ходили одна? Никого в свое странствование к святым местам не соблазнили?
Тишалова краснеет и собирается открыть рот, чтобы что-то соврать, но я встаю и говорю:
– И я ходила, Евгения Васильевна.
– И я, – поднимается Люба.
– Я тоже, – подтягивает Штоф.
– Ну, молодцы, что честно сознаетесь. A Тишалова славный товарищ, никого выдать не хотела. Что ж, повинную голову, говорят, меч не сечет, и я вас этот раз наказывать не буду. Да Тишалова и так уж претерпела, ишь как напомадилась! Что, Шура, небось, противно? Только впредь, дети, чтобы этого не было. Правило не пускать вас вниз не я выдумала, но исполнять его и слушаться старших я обязана. Если же вы будете продолжать туда бегать, то по вашей милости у меня будут крупные неприятности. Зачем же нам с вами ссориться? Правда? Значит, впредь ничего не делать без спросу. Ну, a теперь марш завтракать, вон уж Ермолаева вытерпеть не может, жует что-то.
A это правда: Ермолаева наша всегда есть хочет, на всех уроках что-нибудь да жует. Зато и толстая она, как кубышка, красная, и всегда ей жарко.
Смеху и разговоров что у нас потом было! Мамочка тоже очень смеялась, когда я ей все подробно рассказала.
A Снежины, оказывается, живут в одном доме с нами, – только мы во втором, a они в четвертом этаже, так что мы теперь всегда с Любой вместе из гимназии возвращаемся.
– Пожалуйста, не переплетайтесь!
А мы это именно и любим: обнимаемся все четверо да по самой середине коридора и маршируем, и кто ни идет, дорогу загораживаем.
Самая тихонькая из нас Люба, она редко когда расшалится и что-нибудь выдумает, но хохотать мастерица. Зато наша Шурка Тишалова – той хоть медаль за шалости давай. И мордашка у нее препотешная: плоская, широкая, нос совсем кверху и маленький, как пуговка. Глаза серенькие, плутоватые, зубы большие, белые, a щеки точно поджаренные. Страшно на татарчонка похожа. Славная девчонка, никогда-никогда не врет, a все-таки жулик страшнейший.
Полуштофик – это я нашу Штоф так называю, потому что она совсем маленькая, почти как я, – тоже душка. Волосенки короткие, белобрысенькие и кудрявые, a рожица всегда улыбается. Она на такого веселого, шустрого мальчишку похожа.
Вот вся эта наша компания чуть-чуть в историю не влетела. Мы-то три выкрутились благополучно, a бедная Шурка так здорово вляпалась… то есть я хотела сказать попалась. Это все Володина наука – выраженьица-то эти, он их из гимназии поприносил! Я-то сама ничего, одобряю их, да, беда, другие не одобряют. Девочки-то, пожалуй, тоже, хотя тоже не все – например, наша всезнающая Зернова раз на меня за это так взглянула! Да она-то – пустяки, a было похуже.
Как-то объявила Евгения Васильевна, что Краснокожка нам трудную-претрудную письменную работу даст, я и скажи:
– Вот тебе и фунт!
Девочки все фыркнули, a я вовсе смешить их не собиралась, нечаянно это у меня вырвалось. Евгения Васильевна, хоть и засмеялась, но с ужасом на меня взглянула.
– Муся, вы ли это? Такая благовоспитанная девочка! Откуда это у вас?
Я ей объяснила откуда, a только все-таки отвыкать надо. Вовсе не желаю, чтобы все эти тихони наши надо мной смеялись. Покорно благодарю!
Как узнала Шурка про арифметику, сразу точно в воду ее окунули. Странно, так-то вообще она сейчас и сообразит, и придумает что хотите, но лишь дело коснется арифметики… Кончено! Точно у нее в мозгу занавесочку задернули – ни с места. Люба моя насчет задач ни то ни ce, ни шатко ни валко. Полуштофик тоже как Бог на душу положит. Я же обыкновенно молодцом, a только – кто его знает! – разве можно уж слишком на свою голову полагаться?
A тут еще Женюрочка наша напугала: трудная, говорит, работа будет, претрудная. Шурка чуть не трясется, Штоф охает, и мне страшно делается.
– Господа, a господа! Знаете что? Бежим перед работой к образу прикладываться, – шепчет Тишалова.
Мысль хорошая, да сделать-то как? Образ внизу, a ход туда нам, малышам, воспрещается, и Евгения Васильевна в этом отношении ужасная упрямица, – просись не просись, ни за что не пустит. Как же быть? Мудрили мы, мудрили и решили потихоньку стрекача задать. Проситься хуже: если не пустят, а все-таки убежишь, так уж наверняка накажут.
Всю вторую перемену мы провертелись у лестницы – никак не улизнешь: как назло, то одна, то другая синявка[8] так и шмыгает около нас.
Вот и звонок. Все в классы входят, и мы плетемся, нос повеся. Тишалова чуть не плачет; глядя на нее, и у меня как будто душа в пятки уходит. Женюрочки еще в классе нет, Краснокожки тоже.
– A что если сейчас слетать? Еще успеем, теперь все по местам, на лестнице никого не встретим, а? Идем, живо! – говорит Тишалова.
– Ладно, идем, – говорю.
– Идем, – говорит и Штоф.
Люба немножко трусит, но только одну минуту – и мы уже вихрем несемся по лестнице в среднюю залу. По дороге ни души.
Подбегаем к образу. Я приподнимаюсь на цыпочки и перевешиваюсь через решетку с правой стороны, Люба с левой, Штоф в середине, Шурка ждет очереди. Я прикладываюсь и, давай Бог ноги, улепетываю наверх, вскакиваю в класс, остальные за мной. Уф! Доехали! Евгении Васильевны все еще нет.
Но где же Тишалова? Странно!
Вдруг в дверях появляются Евгения Васильевна и Шура. Батюшки-светы, что ж это значит? На нее без смеху глядеть невозможно: прямые редкие волосенки, почти везде мокрые, прилипли к голове, и с них что-то капает…
Евгения Васильевна, красная-прекрасная, собирается отчитывать Шурку, но за их спиной появляется Индеец.
– Это что за дивное видение? – спрашивает она, установившись на Тишалову и состроив насмешливую гримасу.
Ишь ты, Краснокожка еще и остроумничает!
Шурке стыдно и смешно, она тоже вся красная и просит разрешения выйти. Евгения Васильевна сама идет с ней и через минуту приводит ее обратно, еще более облизанную, но сухую, – с нее уже не капает.
Класс хохочет, a мы все переглядываемся, – влетели!
Зернова сидит как мумия, Грачева поджимает губы – радуется, что нам достанется. Но Краснокожка усмиряет всех и велит записывать задачу. Тишалова шепчет нам:
– Лампадку на голову перевернула, но все-таки приложилась. Муся, милая, ради Бога, подсказывай, до смерти боюсь!
Задача была нехитрая и сразу у меня вышла. Люба поднаврала в одном месте, но по моей поправила.
У бедной Шурки, видно, дело не ладилось, она и сопела, и пыхтела – да только это не всегда помогает. Нагибается к Леоновой, спрашивает, сколько фунтов[9] во втором вопросе получается. Ta будто не слышит. Скажет она, как же! Но, по крайней мере, хоть гадости не сделала, a Танька Грачева, слышу, нарочно неверно подсказывает. Вот противная! Смотрю: Индеец с Женюрочкой о чем-то беседуют. Тогда я тетрадкой закрылась да все строчки Тишаловой и подсказала. A Таньке это даром не пройдет, я ее тоже когда-нибудь подкачу!
После звонка мы, как всегда, собрались уходить, да не тут-то было. Начала Евгения Васильевна суд и расправу чинить, взяла Шурку за бока. Ta все по чистой совести и рассказала. Евгения Васильевна сразу успокоилась, поняла, конечно, что по серьезному делу ходили, a не за глупостями какими-нибудь, улыбнулась и спрашивает:
– Что ж это, вы одна у меня в классе такая набожная?
Шурка взглянула на нас, замялась немножко и говорит:
– Да, это я одна выдумала.
– И ходили одна? Никого в свое странствование к святым местам не соблазнили?
Тишалова краснеет и собирается открыть рот, чтобы что-то соврать, но я встаю и говорю:
– И я ходила, Евгения Васильевна.
– И я, – поднимается Люба.
– Я тоже, – подтягивает Штоф.
– Ну, молодцы, что честно сознаетесь. A Тишалова славный товарищ, никого выдать не хотела. Что ж, повинную голову, говорят, меч не сечет, и я вас этот раз наказывать не буду. Да Тишалова и так уж претерпела, ишь как напомадилась! Что, Шура, небось, противно? Только впредь, дети, чтобы этого не было. Правило не пускать вас вниз не я выдумала, но исполнять его и слушаться старших я обязана. Если же вы будете продолжать туда бегать, то по вашей милости у меня будут крупные неприятности. Зачем же нам с вами ссориться? Правда? Значит, впредь ничего не делать без спросу. Ну, a теперь марш завтракать, вон уж Ермолаева вытерпеть не может, жует что-то.
A это правда: Ермолаева наша всегда есть хочет, на всех уроках что-нибудь да жует. Зато и толстая она, как кубышка, красная, и всегда ей жарко.
Смеху и разговоров что у нас потом было! Мамочка тоже очень смеялась, когда я ей все подробно рассказала.
A Снежины, оказывается, живут в одном доме с нами, – только мы во втором, a они в четвертом этаже, так что мы теперь всегда с Любой вместе из гимназии возвращаемся.
Искусственное дыхание
Приходит сегодня Барбосина в класс, смотрим – тетрадки под мышкой тащит. Молодчина, вчера написали, a сегодня уже и готово, поправлено.
Села, расписалась в журнале, все как следует быть. А потом тетради раздавать – ах, извините пожалуйста, не те! Она вместо седьмого «Б», седьмой «A» схватила! А, небось, принеси мы вместо русской тетради арифметику, так непременно наворчала бы.
– Ну, – говорит, – кто вниз сходит да настоящие тетради принесет? Хотите, Старобельская?
Вот вопрос! Кто ж не захочет вниз пробежаться, да еще во время уроков, когда по дороге во всякий класс заглянуть можно?
– Хочу, – говорю, – Ольга Викторовна, еще как хочу.
– Ну, так и маршируйте, да по дороге не растеряйте половины, ведь у вас всегда все форточки в голове настежь.
Я было, по обыкновению, пулей полетела, но Евгения Васильевна остановила меня, велела идти тихо и не шуметь, чтобы не мешать заниматься другим классам.
Дамская – в самом конце нижнего коридора, дальше первого класса. Вот, прохожу я мимо и вижу – что за штука? Уж больно там что-то хитрое происходит.
Остановилась, конечно, у стеклянной двери, смотрю. На полу разостланы четыре простыни, на каждой из них лежит по ученице, a четыре другие берут их за руки и со всех сил то к себе потянут, то от себя отпихнут, да еще и ноги для чего-то в коленях сгибают. Что за ерунда? Я сперва думала, они там одни дурачатся, Потом вижу – нет: и классная дама, и докторша, что у них гигиену или геометрию, не знаю, что-то преподает, обе глядят на это, не злятся, но и не смеются.
Я и про тетрадки забыла, стою, вытаращив глаза, и смотрю на это беснование. Может, я и долго так бы простояла, да одна моя знакомая девочка, Попова, в это время из класса напиться вышла.
– Ты тут что делаешь? – спрашивает.
– Нет, это вы, – говорю, – что там вытворяете?
– А это, – отвечает, – искусственное дыхание.
Ногами-то да руками? Да кто ж это когда так дышал? И зачем это им? Разве они не могут дышать как все?
A она знай только заливается-хохочет. Насилу толку от нее добилась, да и то не так, чтобы уж очень хорошо поняла. Оказывается, что если кому-нибудь иногда дурно сделается, или, например, утопленника вытащат, так ему таким образом дышать помогают. Вот ученицам и показывают – может, когда наука эта пригодится.
Но я все-таки не понимаю, отчего, если человека заставить дрыгать ногами и размахивать руками, ему от этого легче дышать станет? По-моему, наоборот, устанешь только и запыхаешься. Надо будет попробовать.
Тетрадки явились немножко с опозданием, но никто внимания на это не обратил.
A за русскую диктовку мне «одиннадцать»[10] поставили. Одну ошибку таки всадила и, по обыкновению, глупейшую: вместо «потом» написала «попом». У меня только такие и бывают, особенно с «п» и «т» – то лишнюю ногу приставлю, то одной не хватает. Хочу написать «теперь» – так или «пеперь» или «тетерь» выйдет, даже злость берет.
Ну и отличилась же сегодня Юля Бек за русским!
Я понимаю, что можно иногда не додуматься до чего-нибудь и глупость сказать – с кем греха не бывает? – но чтобы так ляпать, как у нас сегодня!..
Ольга Викторовна толковала нам что-то про озимые хлебные растения, потом обращается к Юле:
– Ну-ка, Бек, назовите мне какое-нибудь.
Ta встает и говорит:
– Мед.
Вы не верите, думаете, я сочиняю? Вот мамочка меня и предупреждала: «Ты, Муся, лучше никому этого не рассказывай, не поверят, подумают, что ты выдумываешь…»
Барбос даже глаза вытаращил:
– Как мед? Почему ж это?
Но Юля этот раз даже не особенно и сконфузилась, обыкновенно же она из-за всего краснеет:
– Потому что он и зимой есть.
– Господи прости! Да разве это растение, да еще и хлебное? Дети, кто из вас никогда не видел растения, встаньте, пожалуйста.
Подымается Щелкина.
– Как, вы никогда не видели растения?
– Нет.
Вы не знаете, что такое наша Щелкина, такой второй, наверное, не существует: волосы у нее вылинявшие и будто маслом помазанные, рот открыт, глаза выпучены, и она всегда говорит глупости, даже по ошибке ничего другого не скажет, да еще и подшепетывает.
Теперь эта «Сцелькина» стоит, открыв рот, и молчит. Все хохочут, даже Юля, забыв, что она сама сейчас ляпнула. Она хотя и миленькая, и люблю я ее, но ляпает постоянно. Но какая она хорошенькая! Точно фарфоровая куколка.
Тут сейчас и зазвонили на перемену.
На переменке я рассказала про то, что видела в первом классе. Понятно, решили сейчас же и попробовать.
Как только перемена кончилась, еще ни батюшки, ни Женюрочки в классе не было, мы Тишалову с Любой разложили на пол, только без простынь – откуда ж их взять? – и начали их оживлять. Не знаю уж, легче ли им дышать было, но что живы они были, так даже и очень. Как стали мы им руки да ноги разводить, да колени сгибать, они так развизжались, что Евгения Васильевна как на пожар прискакала.
– Старобельская! Штоф! Да вы с ума сошли! Что это за валянье по полу, что за безобразие!
A мы и не заметили, как она вошла, очень уж своими утопленницами занялись. A они-то, обе пациентки наши, трепанные, мятые, живо на ноги повскакивали да по местам, a я Женюрочке объяснять стала:
– Это, – говорю, – мы учились искусственное дыхание делать.
– Какое искусственное дыхание? Зачем?
– Да ведь в первом же классе делают? Я сегодня, как за тетрадками ходила, видела. Вот и мы хотели попробовать.
Евгения Васильевна рассмеялась.
– Ведь надо ж такое выдумать! Ну, будет, марш по местам, и дышать естественно. Вон и батюшка уж идет.
A что, ведь не особенно у нас в гимназии скучно?
Села, расписалась в журнале, все как следует быть. А потом тетради раздавать – ах, извините пожалуйста, не те! Она вместо седьмого «Б», седьмой «A» схватила! А, небось, принеси мы вместо русской тетради арифметику, так непременно наворчала бы.
– Ну, – говорит, – кто вниз сходит да настоящие тетради принесет? Хотите, Старобельская?
Вот вопрос! Кто ж не захочет вниз пробежаться, да еще во время уроков, когда по дороге во всякий класс заглянуть можно?
– Хочу, – говорю, – Ольга Викторовна, еще как хочу.
– Ну, так и маршируйте, да по дороге не растеряйте половины, ведь у вас всегда все форточки в голове настежь.
Я было, по обыкновению, пулей полетела, но Евгения Васильевна остановила меня, велела идти тихо и не шуметь, чтобы не мешать заниматься другим классам.
Дамская – в самом конце нижнего коридора, дальше первого класса. Вот, прохожу я мимо и вижу – что за штука? Уж больно там что-то хитрое происходит.
Остановилась, конечно, у стеклянной двери, смотрю. На полу разостланы четыре простыни, на каждой из них лежит по ученице, a четыре другие берут их за руки и со всех сил то к себе потянут, то от себя отпихнут, да еще и ноги для чего-то в коленях сгибают. Что за ерунда? Я сперва думала, они там одни дурачатся, Потом вижу – нет: и классная дама, и докторша, что у них гигиену или геометрию, не знаю, что-то преподает, обе глядят на это, не злятся, но и не смеются.
Я и про тетрадки забыла, стою, вытаращив глаза, и смотрю на это беснование. Может, я и долго так бы простояла, да одна моя знакомая девочка, Попова, в это время из класса напиться вышла.
– Ты тут что делаешь? – спрашивает.
– Нет, это вы, – говорю, – что там вытворяете?
– А это, – отвечает, – искусственное дыхание.
Ногами-то да руками? Да кто ж это когда так дышал? И зачем это им? Разве они не могут дышать как все?
A она знай только заливается-хохочет. Насилу толку от нее добилась, да и то не так, чтобы уж очень хорошо поняла. Оказывается, что если кому-нибудь иногда дурно сделается, или, например, утопленника вытащат, так ему таким образом дышать помогают. Вот ученицам и показывают – может, когда наука эта пригодится.
Но я все-таки не понимаю, отчего, если человека заставить дрыгать ногами и размахивать руками, ему от этого легче дышать станет? По-моему, наоборот, устанешь только и запыхаешься. Надо будет попробовать.
Тетрадки явились немножко с опозданием, но никто внимания на это не обратил.
A за русскую диктовку мне «одиннадцать»[10] поставили. Одну ошибку таки всадила и, по обыкновению, глупейшую: вместо «потом» написала «попом». У меня только такие и бывают, особенно с «п» и «т» – то лишнюю ногу приставлю, то одной не хватает. Хочу написать «теперь» – так или «пеперь» или «тетерь» выйдет, даже злость берет.
Ну и отличилась же сегодня Юля Бек за русским!
Я понимаю, что можно иногда не додуматься до чего-нибудь и глупость сказать – с кем греха не бывает? – но чтобы так ляпать, как у нас сегодня!..
Ольга Викторовна толковала нам что-то про озимые хлебные растения, потом обращается к Юле:
– Ну-ка, Бек, назовите мне какое-нибудь.
Ta встает и говорит:
– Мед.
Вы не верите, думаете, я сочиняю? Вот мамочка меня и предупреждала: «Ты, Муся, лучше никому этого не рассказывай, не поверят, подумают, что ты выдумываешь…»
Барбос даже глаза вытаращил:
– Как мед? Почему ж это?
Но Юля этот раз даже не особенно и сконфузилась, обыкновенно же она из-за всего краснеет:
– Потому что он и зимой есть.
– Господи прости! Да разве это растение, да еще и хлебное? Дети, кто из вас никогда не видел растения, встаньте, пожалуйста.
Подымается Щелкина.
– Как, вы никогда не видели растения?
– Нет.
Вы не знаете, что такое наша Щелкина, такой второй, наверное, не существует: волосы у нее вылинявшие и будто маслом помазанные, рот открыт, глаза выпучены, и она всегда говорит глупости, даже по ошибке ничего другого не скажет, да еще и подшепетывает.
Теперь эта «Сцелькина» стоит, открыв рот, и молчит. Все хохочут, даже Юля, забыв, что она сама сейчас ляпнула. Она хотя и миленькая, и люблю я ее, но ляпает постоянно. Но какая она хорошенькая! Точно фарфоровая куколка.
Тут сейчас и зазвонили на перемену.
На переменке я рассказала про то, что видела в первом классе. Понятно, решили сейчас же и попробовать.
Как только перемена кончилась, еще ни батюшки, ни Женюрочки в классе не было, мы Тишалову с Любой разложили на пол, только без простынь – откуда ж их взять? – и начали их оживлять. Не знаю уж, легче ли им дышать было, но что живы они были, так даже и очень. Как стали мы им руки да ноги разводить, да колени сгибать, они так развизжались, что Евгения Васильевна как на пожар прискакала.
– Старобельская! Штоф! Да вы с ума сошли! Что это за валянье по полу, что за безобразие!
A мы и не заметили, как она вошла, очень уж своими утопленницами занялись. A они-то, обе пациентки наши, трепанные, мятые, живо на ноги повскакивали да по местам, a я Женюрочке объяснять стала:
– Это, – говорю, – мы учились искусственное дыхание делать.
– Какое искусственное дыхание? Зачем?
– Да ведь в первом же классе делают? Я сегодня, как за тетрадками ходила, видела. Вот и мы хотели попробовать.
Евгения Васильевна рассмеялась.
– Ведь надо ж такое выдумать! Ну, будет, марш по местам, и дышать естественно. Вон и батюшка уж идет.
A что, ведь не особенно у нас в гимназии скучно?
Мои таланты. – Проткнутый глаз.
Никак не умудришься часто в свой дневник записывать – не хватает времени, да и все тут! Учительницы в гимназии теперь уж как следует нам каждый день задают, да еще начались мои несчастные уроки музыки, a уж хуже этого ничего не выдумаешь. И к чему меня только учат? Все равно у меня способностей нет. С пением тоже дурно.
Недавно пробовали нам в гимназии голоса. Уж и напела я им – одно горе, даже учительница рассмеялась. И девочки, понятно, рады стараться; только мне одной это вовсе смешным не казалось.
Недавно пробовали нам в гимназии голоса. Уж и напела я им – одно горе, даже учительница рассмеялась. И девочки, понятно, рады стараться; только мне одной это вовсе смешным не казалось.
