Страница:
Вадим Зеликовский
Финита ля трагедия
Театральный роман
Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…
В. Шекспир
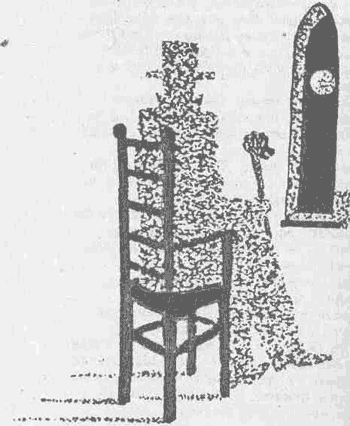
К вопросу об эпиграфе
Вышеизложенный, как, впрочем, и всякий другой, имеет то неоценимое качество, что как бы вкратце раскрывает смысл дальнейшего повествования. А, кроме того, принадлежит перу бессмертного Шекспира, и уже только поэтому не может помешать в начале повествования.
Биография романа
Я знал, что будет так.
Предчувствие рождалось в полночь. Время наиболее подходящее. Из самой глубины моего живота выползал страх и располагался на ночь. На свету я только помнил о нем.
Но ночью…
Страх – мое наследство. Его копили многие предки мои, но достался он мне. Не хотел я его! Но ведь и клады находят не те, кто ищет. Это всего лишь случай, проделки Судьбы. Он не достался моему отцу. Не пришелся на сына моего, которого в то время еще не было. Он стал моим. И точка! Заложен он был в меня еще в материнской утробе, и корни его тянулись к моим далеким пещерным предкам.
На двадцать первом году своей довольно спокойной и в меру счастливой жизни, а именно девятнадцатого июня в удушливую белую ночь, на канале Грибоедова, возле церкви «Спас на крови», которая к тому времени только снаружи выглядела как церковь, а внутри была всего лишь навсего складом театральных декораций, каким-то неосторожным движением души я выпустил этот страх на волю. И он тут же прижал мое тело к чугунной ограде вонючего канала.
Боже, давно это было.
В начале страх появлялся только ночью. Он вежливо стучался, я вздрагивал и отталкивал пришедший было сон. И тогда страх брал за горло. Это было странное и жуткое чувство: я, здоровый и сильный физически, еще очень молодой человек, боялся не дожить до утра. Каждую ночь я бессонно ждал серых проблесков рассвета, чтобы наконец заснуть.
Но и в ожидании своем не был я одинок. Рассвета дожидался и мой проклятый страх, чтобы уйти в самые сокровенные глубины подсознания, где по-прежнему жил он днем. Его ждала и, дождавшись, вновь и вновь отступала до неведомого своего часа, может быть, далекая моя смерть. Но как только возвращалась ночь, тут же возникали мысли о ней, а вслед за ними приходила и она сама – страшная, черная и неизбежная, садилась на край моей распаханной бессонницей кровати.
Я боялся ее.
О, как я боялся ее неизбежности и черноты. Но главное – этого проклятого: когда? И я гнал сон…
Врачи определяли все очень просто: неврастения. Таков был мой официальный диагноз. Возможно, так оно и было. Каждую ночь мы проводили вчетвером: я, страх, смерть и неврастения. Потом появился пятый.
Дней того периода я не помню. Безусловно, я что-то делал тогда; возможно, даже пытался писать. Но вся память о том времени потерялась где-то, ушла, как вода в песок… И встреч того времени не помню, и разговоров…
Только страх.
Вздрагивание, липкий холодный пот, темнота, ожидание…
Единственное окно моей комнаты упиралось в стену черного хода: грязную, с отлетевшей штукатуркой и мокрыми пятнами плесени. Высоко, зажатое крышами, томилось небо. Днем я никогда не глядел в окно, ночью – всегда. И когда в серых предрассветных сумерках едва обозначался рваный бок стены, я, вздохнув с облегчением, засыпал.
И начинался день…
Творилось со мною непонятное: глаза по цвету сливались с почерневшей кожей под ними и горели неспокойным огнем. Женщины усматривали в этом некие признаки темперамента демонического и в моем присутствии вели себя неестественно вызывающе. Без всяких причин я терял вес. Мгновенно. За один день. Потом набирал его опять. Так же быстро.
В ушах стоял звон. С подоконников и балконов на голову летели капли. Мелкая изморось омывала лицо. На юге это называют зимой. (К тому времени я уже вернулся из Питера домой в Одессу). Возможно, был январь. Почем я знаю?
Каждый день я просыпался около полудня и, как был в одних трусах, выходил на веранду.
Там тек туман.
От него начинал болеть затылок. Я возвращался в свою квадратную комнату и закрывал ставни. Затылок болеть не переставал.
Я никак не мог устроиться со светом в своей комнате. Когда горела настольная лампа, изо всех углов, во всяком случае, мне так казалось, в спину глядели какие-то гнусные рожи. Я с остервенением вбивал штепсель в розетку, и тогда на потолке с шарманочным звуком разгоралась лампа дневного света.
Клянк-клянк…
Проклятый звук. Я ненавидел его. Одна трубка в лампе не светилась уже второй год. Поменять ее у меня не было ни сил, ни желания.
Клянк-клянк!..
Комната освещалась мертвым серебристым светом. От него становилось дурно. Я возвращался в постель и с головой накрывался одеялом, но свет не тушил. Через какое-то время приходила бабушка. Она должна была думать, что у меня все в порядке, и я старался дышать ровно. Чаще всего мне это удавалось. Постояв немного возле моей постели, бабушка тушила свет.
Газ в лампе еще долго светился. Я физически чувствовал его свечение, хотя был укрыт с головой. Ступая на цыпочках, бабушка выходила из моей комнаты.
Начиналась ночь…
Моя пишущая машинка сломалась. Однажды утром безо всякой видимой причины она перестала работать. Умерла и сразу стала неприглядной и лишней. Мне не захотелось ее чинить. С некоторого времени на моем письменном столе вся семья приспособилась готовить себе бутерброды, благо холодильник стоял рядом. Кругом на яркой зелени сукна валялись неубранные крошки. Они сохли и колюче скрипели под руками. Что было мерзко до противного.
И еще я был болен.
В мою болезнь не верили даже врачи. Внешне, кроме черных кругов под глазами, она никак не проявлялась. Когда я заговаривал о них c врачами-мужчинами, мне игриво подмигивали. О том, как к ним относились женщины, я уже писал.
Мне шел двадцать третий год.
В самую обычную ночь в конце февраля, когда за окном нудно лил дождь, все и произошло…
Он вышел из угла комнаты и присел на край моей кровати. Он не поздоровался. Не представился. Просто заговорил со мной, как со старым знакомым. Его амикошонство меня почему-то успокоило. Я выполз из-под одеяла и, упершись головой в резную кроватную спинку, сел на подушку. Глянул в окно. Оно было черным. Во рту у меня появился сладковатый вкус крови.
Но и это меня не напугало, я слушал.
– Я долго не знал, что мне делать с вашим чудным самомнением… – между тем неторопливо говорил он. – Каждый твой предшественник был одержим им. Раньше я никак не мог решить, что же мне с ним делать. Но потом привык. Можешь называть меня, ежели угодно, Племянник. Пусть тебе кажется, что ты сам меня придумал! Так считать – твое право. Ты ведь сейчас думаешь, что я всего лишь плод твоего болезненного воображения…
Он был прав: я думал именно так.
– Болезнь – лишь предлог! – поучающе продолжил он. – Причина – совсем, совсем другая… – тут назвавшийся Племянником замолк. Его молчание не тяготило меня, оно давало возможность думать.
– Причина другая… – задумчиво повторил он. – Разговор бы у нас состоялся все равно. Рано или поздно. Болезнь только приблизила его. Ты очень рано открыл в себе страх, обычно он приходит ближе к старости. Когда, чаще всего, уже поздно. Ибо страх перед неведомым, что стоит за смертью, порождает веру. Ты уже сделал первый шаг. Я могу говорить с тобой. При моем появлении ты не перевернулся на другой бок и не заснул, не щипал себя за руку, не зажег свет. Ты уже ждал меня!..
И снова наступило молчание. Я смог подумать о вере. Сама по себе пришла мысль, что вера – первонеобходимое человеческое чувство. И ничто так не карается после жизни, как неприобретение ее или же утрата…
Потом я понял, что эта мысль пришла ко мне не сама.
Он заговорил опять.
– Я мог бы открыть тебе, когда ты умрешь. Но зачем? Тебе не станет от этого легче.
Я подумал, что он прав. Хотя еще мгновение назад мне казалось, что знание своего часа успокоило бы меня, и хотел просить открыть мне его.
– Я рад, – сказал он, – что ты со мной согласен…
Я попытался его разглядеть. К тому времени он уже пересел в кресло, стоящее возле окна, и сидел, не сняв цилиндра, закинув ногу за ногу. Его длинные худые пальцы крепко сжимали трость. Но мне почему-то казалось, что он сидит, несмотря на свою позу, затылком ко мне. Когда мои глаза окончательно привыкли к темноте, я убедился, что так оно и есть.
Но и такая дикая странность меня не испугала и даже не смутила. Более того, я воспринял ее, как должное.
– Ты хочешь стать писателем! – между тем твердо произнес он после очередной паузы.
Я вспотел.
Да, да, да, стучало, как дятел, у меня в мозгу, но язык мой, сам по себе запинаясь, пролепетал: «Дело в том, что у меня сломалась пишущая машинка, и на моем столе приготовляют бутерброды…»
Больше я ничего не успел сказать, хотя хотел произнести еще много слов. Очевидно, ему они были незачем. Он наперед знал все, что я мог ему сказать.
– Ты должен написать роман! – тоном, не терпящим возражений, произнес он.
– О чем? – с трудом выдавил я из себя. Я не собирался писать роман.
Он не ответил.
Я не помню, как я оказался возле письменного стола. В доме все спали. Я сидел спиной к своему ночному гостю, и мне мучительно хотелось оглянуться. Какое-то время я боролся с соблазном, потом послушно взял обыкновенную школьную ручку с пером, которой давно уже никто не пишет, и обмакнул ее в бронзовую чернильницу. Я мог бы поклясться, что еще минуту назад ни того, ни другого на моем столе не было.
Но этого мало, кроме них на девственно чистом зеленом сукне также откуда-то взялась толстая стопка писчей бумаги серовато-коричневого цвета. На верхнем листе чужим четким почерком с резким наклоном влево было написано:
«Финита ля трагедия»
Так я впервые увидел это странное название. То, что услышано мною от моего ночного гостя после и записано на серовато-коричневых листах перьевой ручкой, – неожиданно, тревожно и удивительно…
Предчувствие рождалось в полночь. Время наиболее подходящее. Из самой глубины моего живота выползал страх и располагался на ночь. На свету я только помнил о нем.
Но ночью…
Страх – мое наследство. Его копили многие предки мои, но достался он мне. Не хотел я его! Но ведь и клады находят не те, кто ищет. Это всего лишь случай, проделки Судьбы. Он не достался моему отцу. Не пришелся на сына моего, которого в то время еще не было. Он стал моим. И точка! Заложен он был в меня еще в материнской утробе, и корни его тянулись к моим далеким пещерным предкам.
На двадцать первом году своей довольно спокойной и в меру счастливой жизни, а именно девятнадцатого июня в удушливую белую ночь, на канале Грибоедова, возле церкви «Спас на крови», которая к тому времени только снаружи выглядела как церковь, а внутри была всего лишь навсего складом театральных декораций, каким-то неосторожным движением души я выпустил этот страх на волю. И он тут же прижал мое тело к чугунной ограде вонючего канала.
Боже, давно это было.
В начале страх появлялся только ночью. Он вежливо стучался, я вздрагивал и отталкивал пришедший было сон. И тогда страх брал за горло. Это было странное и жуткое чувство: я, здоровый и сильный физически, еще очень молодой человек, боялся не дожить до утра. Каждую ночь я бессонно ждал серых проблесков рассвета, чтобы наконец заснуть.
Но и в ожидании своем не был я одинок. Рассвета дожидался и мой проклятый страх, чтобы уйти в самые сокровенные глубины подсознания, где по-прежнему жил он днем. Его ждала и, дождавшись, вновь и вновь отступала до неведомого своего часа, может быть, далекая моя смерть. Но как только возвращалась ночь, тут же возникали мысли о ней, а вслед за ними приходила и она сама – страшная, черная и неизбежная, садилась на край моей распаханной бессонницей кровати.
Я боялся ее.
О, как я боялся ее неизбежности и черноты. Но главное – этого проклятого: когда? И я гнал сон…
Врачи определяли все очень просто: неврастения. Таков был мой официальный диагноз. Возможно, так оно и было. Каждую ночь мы проводили вчетвером: я, страх, смерть и неврастения. Потом появился пятый.
Дней того периода я не помню. Безусловно, я что-то делал тогда; возможно, даже пытался писать. Но вся память о том времени потерялась где-то, ушла, как вода в песок… И встреч того времени не помню, и разговоров…
Только страх.
Вздрагивание, липкий холодный пот, темнота, ожидание…
Единственное окно моей комнаты упиралось в стену черного хода: грязную, с отлетевшей штукатуркой и мокрыми пятнами плесени. Высоко, зажатое крышами, томилось небо. Днем я никогда не глядел в окно, ночью – всегда. И когда в серых предрассветных сумерках едва обозначался рваный бок стены, я, вздохнув с облегчением, засыпал.
И начинался день…
Творилось со мною непонятное: глаза по цвету сливались с почерневшей кожей под ними и горели неспокойным огнем. Женщины усматривали в этом некие признаки темперамента демонического и в моем присутствии вели себя неестественно вызывающе. Без всяких причин я терял вес. Мгновенно. За один день. Потом набирал его опять. Так же быстро.
В ушах стоял звон. С подоконников и балконов на голову летели капли. Мелкая изморось омывала лицо. На юге это называют зимой. (К тому времени я уже вернулся из Питера домой в Одессу). Возможно, был январь. Почем я знаю?
Каждый день я просыпался около полудня и, как был в одних трусах, выходил на веранду.
Там тек туман.
От него начинал болеть затылок. Я возвращался в свою квадратную комнату и закрывал ставни. Затылок болеть не переставал.
Я никак не мог устроиться со светом в своей комнате. Когда горела настольная лампа, изо всех углов, во всяком случае, мне так казалось, в спину глядели какие-то гнусные рожи. Я с остервенением вбивал штепсель в розетку, и тогда на потолке с шарманочным звуком разгоралась лампа дневного света.
Клянк-клянк…
Проклятый звук. Я ненавидел его. Одна трубка в лампе не светилась уже второй год. Поменять ее у меня не было ни сил, ни желания.
Клянк-клянк!..
Комната освещалась мертвым серебристым светом. От него становилось дурно. Я возвращался в постель и с головой накрывался одеялом, но свет не тушил. Через какое-то время приходила бабушка. Она должна была думать, что у меня все в порядке, и я старался дышать ровно. Чаще всего мне это удавалось. Постояв немного возле моей постели, бабушка тушила свет.
Газ в лампе еще долго светился. Я физически чувствовал его свечение, хотя был укрыт с головой. Ступая на цыпочках, бабушка выходила из моей комнаты.
Начиналась ночь…
Моя пишущая машинка сломалась. Однажды утром безо всякой видимой причины она перестала работать. Умерла и сразу стала неприглядной и лишней. Мне не захотелось ее чинить. С некоторого времени на моем письменном столе вся семья приспособилась готовить себе бутерброды, благо холодильник стоял рядом. Кругом на яркой зелени сукна валялись неубранные крошки. Они сохли и колюче скрипели под руками. Что было мерзко до противного.
И еще я был болен.
В мою болезнь не верили даже врачи. Внешне, кроме черных кругов под глазами, она никак не проявлялась. Когда я заговаривал о них c врачами-мужчинами, мне игриво подмигивали. О том, как к ним относились женщины, я уже писал.
Мне шел двадцать третий год.
В самую обычную ночь в конце февраля, когда за окном нудно лил дождь, все и произошло…
Он вышел из угла комнаты и присел на край моей кровати. Он не поздоровался. Не представился. Просто заговорил со мной, как со старым знакомым. Его амикошонство меня почему-то успокоило. Я выполз из-под одеяла и, упершись головой в резную кроватную спинку, сел на подушку. Глянул в окно. Оно было черным. Во рту у меня появился сладковатый вкус крови.
Но и это меня не напугало, я слушал.
– Я долго не знал, что мне делать с вашим чудным самомнением… – между тем неторопливо говорил он. – Каждый твой предшественник был одержим им. Раньше я никак не мог решить, что же мне с ним делать. Но потом привык. Можешь называть меня, ежели угодно, Племянник. Пусть тебе кажется, что ты сам меня придумал! Так считать – твое право. Ты ведь сейчас думаешь, что я всего лишь плод твоего болезненного воображения…
Он был прав: я думал именно так.
– Болезнь – лишь предлог! – поучающе продолжил он. – Причина – совсем, совсем другая… – тут назвавшийся Племянником замолк. Его молчание не тяготило меня, оно давало возможность думать.
– Причина другая… – задумчиво повторил он. – Разговор бы у нас состоялся все равно. Рано или поздно. Болезнь только приблизила его. Ты очень рано открыл в себе страх, обычно он приходит ближе к старости. Когда, чаще всего, уже поздно. Ибо страх перед неведомым, что стоит за смертью, порождает веру. Ты уже сделал первый шаг. Я могу говорить с тобой. При моем появлении ты не перевернулся на другой бок и не заснул, не щипал себя за руку, не зажег свет. Ты уже ждал меня!..
И снова наступило молчание. Я смог подумать о вере. Сама по себе пришла мысль, что вера – первонеобходимое человеческое чувство. И ничто так не карается после жизни, как неприобретение ее или же утрата…
Потом я понял, что эта мысль пришла ко мне не сама.
Он заговорил опять.
– Я мог бы открыть тебе, когда ты умрешь. Но зачем? Тебе не станет от этого легче.
Я подумал, что он прав. Хотя еще мгновение назад мне казалось, что знание своего часа успокоило бы меня, и хотел просить открыть мне его.
– Я рад, – сказал он, – что ты со мной согласен…
Я попытался его разглядеть. К тому времени он уже пересел в кресло, стоящее возле окна, и сидел, не сняв цилиндра, закинув ногу за ногу. Его длинные худые пальцы крепко сжимали трость. Но мне почему-то казалось, что он сидит, несмотря на свою позу, затылком ко мне. Когда мои глаза окончательно привыкли к темноте, я убедился, что так оно и есть.
Но и такая дикая странность меня не испугала и даже не смутила. Более того, я воспринял ее, как должное.
– Ты хочешь стать писателем! – между тем твердо произнес он после очередной паузы.
Я вспотел.
Да, да, да, стучало, как дятел, у меня в мозгу, но язык мой, сам по себе запинаясь, пролепетал: «Дело в том, что у меня сломалась пишущая машинка, и на моем столе приготовляют бутерброды…»
Больше я ничего не успел сказать, хотя хотел произнести еще много слов. Очевидно, ему они были незачем. Он наперед знал все, что я мог ему сказать.
– Ты должен написать роман! – тоном, не терпящим возражений, произнес он.
– О чем? – с трудом выдавил я из себя. Я не собирался писать роман.
Он не ответил.
Я не помню, как я оказался возле письменного стола. В доме все спали. Я сидел спиной к своему ночному гостю, и мне мучительно хотелось оглянуться. Какое-то время я боролся с соблазном, потом послушно взял обыкновенную школьную ручку с пером, которой давно уже никто не пишет, и обмакнул ее в бронзовую чернильницу. Я мог бы поклясться, что еще минуту назад ни того, ни другого на моем столе не было.
Но этого мало, кроме них на девственно чистом зеленом сукне также откуда-то взялась толстая стопка писчей бумаги серовато-коричневого цвета. На верхнем листе чужим четким почерком с резким наклоном влево было написано:
«Финита ля трагедия»
Так я впервые увидел это странное название. То, что услышано мною от моего ночного гостя после и записано на серовато-коричневых листах перьевой ручкой, – неожиданно, тревожно и удивительно…
Глава 1. Остров
Эфесом шпаги раздвигая гибкие стебли, свисавшие отовсюду, как подвешенные за хвост змеи, Иван Борисович с трудом пробивался сквозь густые заросли лиан туда, где по его расчетам пролегала военная тропа. Тяжелый арбалет, перекинутый через плечо, больно бил его по спине и бокам. От крупного, красивого тела Ивана Борисовича, втиснутого в узкую кольчугу, поднимался светлый младенческий пар, который тут же растворялся в густых испарениях тропического леса. Оружие мешало ему. Под его изнуряющей тяжестью он еле переставлял ноги, прикрытые медными щитками с изображением римского орла на каждом.
Внезапно он споткнулся о разлапистый корень и покатился на землю со звоном и скрежетом, раздирая головой в серебристом шлеме густой лиановый занавес. Пролетев метра два, он очутился на самой середине так долго разыскиваемой тропы. Не вставая, он приник ухом к сырой земле и вскоре услыхал отдаленный топот.
– Это они! – достаточно громко для своего одиночества произнес Иван Борисович и приподнялся на одно колено.
После чего, отложив в сторону ненужную уже шпагу, он с превеликим трудом добыл из чеканных ножен короткий гладиаторский меч. Утерев свое породистое лицо кружевным батистовым платочком, вынутым откуда-то из-под кольчуги, Иван Борисович хорошо поставленным голосом начал читать монолог. Говорил он на сей раз шепотом, но с выражением:
Нарастающий топот разрушил сей величественный монумент. Быстро вскочив на ноги, Иван Борисович отпрянул в густую лиановую тень и оттуда, держа меч перед собой на вытянутых руках, нервной скороговоркой продолжил чтение монолога бессмертного драматурга в переводе Лозинского:
Не закончив монолог, чего с ним ранее никогда не случалось, Иван Борисович Мышкин – ведущий актер «Театра на Стремянке» – быстро, но осторожно; чтобы не обрезаться, поднес меч к своим пухлым капризным губам и, нежно поцеловав его, скрылся в чаще.
Внезапно он споткнулся о разлапистый корень и покатился на землю со звоном и скрежетом, раздирая головой в серебристом шлеме густой лиановый занавес. Пролетев метра два, он очутился на самой середине так долго разыскиваемой тропы. Не вставая, он приник ухом к сырой земле и вскоре услыхал отдаленный топот.
– Это они! – достаточно громко для своего одиночества произнес Иван Борисович и приподнялся на одно колено.
После чего, отложив в сторону ненужную уже шпагу, он с превеликим трудом добыл из чеканных ножен короткий гладиаторский меч. Утерев свое породистое лицо кружевным батистовым платочком, вынутым откуда-то из-под кольчуги, Иван Борисович хорошо поставленным голосом начал читать монолог. Говорил он на сей раз шепотом, но с выражением:
Иван Борисович поднял руку с зажатым в ней мечом, как бы призывая тропический лес к молчанию. Так и застыл он – коленопреклоненный с высоко поднятым мечом в правой руке, охваченной стальным рукавом кольчуги, из-под которого неуверенно выглядывало седое брабантское кружево сорочки.
Теперь как раз тот колдовской час ночи,
Когда гроба зияют и заразой
Ад дышит в мир: сейчас я жаркой крови
Испить бы мог и совершить такое,
Что день бы дрогнул. Тише!..
Нарастающий топот разрушил сей величественный монумент. Быстро вскочив на ноги, Иван Борисович отпрянул в густую лиановую тень и оттуда, держа меч перед собой на вытянутых руках, нервной скороговоркой продолжил чтение монолога бессмертного драматурга в переводе Лозинского:
Топот был близок.
Назад, мой меч, узнай страшней обхват,
Когда он будет пьян или во гневе,
Иль в кровосмесных наслажденьях ложа,
В кощунстве, за игрой, за чем-нибудь,
В чем нет добра, – тогда его шиби,
Так чтобы пятками брыкнул он в небо,
И чтоб душа была черна, как ад,
Куда…
Не закончив монолог, чего с ним ранее никогда не случалось, Иван Борисович Мышкин – ведущий актер «Театра на Стремянке» – быстро, но осторожно; чтобы не обрезаться, поднес меч к своим пухлым капризным губам и, нежно поцеловав его, скрылся в чаще.
Глава 2. Театр
Наконец-то! Какашкин меняет фамилию на Любимов.
И. Ильф «Записные книжки»
В Москве стоял дом.
Дом был поставлен в конце прошлого века и посему стоял уже долго. Некоторые говорили, что он был ровесником Художественного театра. Но это они, возможно, и врали. Чего только ни придумают люди. В свое время даже поговаривали, что изредка, вот придет же охота такое повторять, исчезал он со своего места и объявлялся в совершенно другом конце Москвы…
Вы себе представляете, и это такой-то огромный дом!
Правда, все слухи о нем ходили по Москве еще до Великой Революции, в тихой, богобоязненной Москве, где охотнее всего верили в черта. Поэтому существование такого нелепого дома не могло не вызывать страха в смятенных умах московских обывателей, томившихся в пыльных застенках замоскворецких переулочков и тупиков.
Но уже к семнадцатому году двадцатого столетия дом прочно осел в Стремянном переулке, а когда Бога и заодно уж с ним и нечистую силу официально упразднили большевики, он и вовсе перестал перемещаться.
А может, так и стоял он всегда посреди Стремянного переулка с того самого времени, когда был поставлен пришлым с Онеги людом для купца Вострокнутова, сказочно разбогатевшего неведомо на чем и ко времени постройки дома почетно богатого.
Дом был поставлен на эти сказочные деньги.
Собой он представлял нечто фантасмагорическое: огромный боярский терем, у которого вместо традиционного крыльца был присобачен фронтон – точная копия с фронтона Большого театра. И стоял тот дом абсолютно независимо посреди матушки Москвы, тогда еще провинциальной, златоглавой и колокольной, родины Третьяковской галереи и Художественного театра, которой до ее советского столичного будущего не хватало ровно трех революций, двух десятилетий и одного метро.
Прошло всего полвека со дня постройки, и в странный дом вселился театр. Однажды, ранним утром в Стремянном переулке объявились люди в рабочих комбинезонах. Старательно обходя невысохшие после недавнего дождя лужи, они несли занавес. В течение получаса извивался он вдоль серых заборов, как китайский карнавальный дракон, потом, путаясь в колоннах у главного входа, медленно вполз в дом.
Парадный вход закрылся навсегда.
Внутри выстроили сцену и небольшой зрительный зал. Остальное пространство первого этажа занял вестибюль с длинными рядами вешалок за дубовым барьером.
Над гардеробом имелась надпись: «Весь мир – театр, а люди в нем: мужчины и женщины – актеры. У. Шекспир». А чуть ниже табличка «Гардеробщик Рабинянц Н. А.»
Внешне же дом не изменился, разве что несколько позже к его торцу пристроили пожарную лестницу, но о ней речь пойдет ниже, в отдельной главе. Поверьте, она того заслуживает.
На фронтоне дома по-прежнему неслись невесть куда упитанные рысаки, которыми все так же правил томный красавец Аполлон. Издали лихой выезд был похож на легендарную тачанку. Под конскими копытами литыми бронзовыми буквами значилось: «ТЕАТР им…» – остальная часть надписи полностью сливалась с грязно-белым фасадом, что полностью лежало на совести диких голубей, издавна оккупировавших крышу вострокнутовского особняка.
Театр же повсюду иначе не называли, как «Театр на Стремянке».
История сего, не совсем обычного театра, как, впрочем, всякая другая театральная история, не смогла 6ы обойти молчанием личность главного режиссера. Собственно говоря, лишь после того, как он возглавил труппу, о театре заговорили.
Именно он первый, тому было множество свидетелей, произнес: «Театр на Стремянке» – и это имя тут же прижилось, а через какое-то время им же было возведено во славу.
К моменту повествования имя театра и имя главного режиссера неразрывно и все чаще стали мелькать в театральных рецензиях. Поначалу, честно скажем, его имя – Арсентий Пржевальский – вызывало некоторое недоумение у публики, но к нему быстро привыкли. Согласитесь, фамилия редкая. И откуда бы ей вдруг взяться? Но и тут была своя, из ряда вон выходящая, история.
Рассказывали ее повсюду и всегда по-разному.
Одни, например, говорили, что фамилию свою, вернее, псевдоним Арсентий выбрал себе ввиду страстной своей привязанности к лошадям…
В театре, наряду с уроками актерского мастерства обязательной еженедельной политинформацией и бесконечными репетициями, введена была джигитовка.
Лошади нежно и трепетно ржали возле главного входа, с завистью косясь на своих бронзовых собратьев. Актрисы тайком таскали им сахар. Арсентий запрещал сие, с его точки зрения, безобразие категорически. Несмотря на свою любовь к лошадям, был он суров и требовал от труппы кавалерийской дисциплины.
Актрисы, в силу женской сентиментальности, нарушали запрет. Кормление исподтишка лошадей сахарком было единственное, в чем нарушалась воля главрежа. Мужская половина крепилась и в этом. Актеры лихо вскакивали в седла и, стараясь держаться молодцевато, гарцевали на площади перед театром. Правда, время от времени то один, то другой тыкался актерским носом в пушистую лошадиную холку, а то и вовсе покидал седло, отнюдь не самостоятельно.
Лошади улыбались. Арсентий свирепел. Мания его не только не ослабевала, но со временем и прогрессировала. Все дело было в том, что Пржевальский терпеть не мог автомобилей. Казалось, будь его воля, он уничтожил бы их все разом. Посреди репетиции он вдруг ни с того ни с сего начинал говорить о лошадях. Говорил долго и нежно. А к концу речи обычно срывался на крик.
– Как вы ходите?! – кричал он актерам. – Черт знает что такое у вас, а не походка! – после чего немедленно приказывал привести лошадь.
Каждый раз приводили одну и ту же. Это была любимая лошадь Пржевальского. Конечно, если приглядеться, сразу становилось ясно, что на самом деле приведенная – жеребец. Знаток бы даже сразу определил и породу. «Орловский рысак!» – сказал бы знаток, а потом непременно добавил бы: «Прелесть!»
– Прелесть! – в свою очередь восторгался Пржевальский. – Как ходит, как ходит… Какая грация! Актеры чертовы! Учитесь! – и, обращаясь уже непосредственно к женской половине труппы, рычал: – Коровы, кто же так ходит? Учитесь у лошадей!
И начиналась учеба. В течение довольно долгого времени прелестного жеребца водили по сцене, в затылок друг другу за ним следовали актеры, стараясь ступать так же грациозно.
Жеребец на первых порах довольно охотно совершал прогулки от кулисы к кулисе. Его, очевидно, подхлестывало сознание собственного значения для отечественного искусства, и он поначалу, гордо раздувая ноздри, даже радостно ржал. Но вскоре и ему ежедневное бессмысленное хождение по кругу надоело.
Однако то, что могло надоесть пускай даже умному животному и кучке не понимающих своей пользы недоумков, считающих себя поголовно гениями, неукротимый Арсентий по-прежнему ставил на вершину пирамиды актерского мастерства.
И учеба продолжалась!
Но мало того.
Орловский рысак по кличке Терек возил Пржевальского в театр. Вот до чего дошла его любовь к Лошади.
Арсентия многие знали в лицо, так как до своего блестящего дебюта в режиссуре был он довольно известным актером. Ездить на рысаке по улицам Москвы он, как вы сами понимаете, считал неудобным, способным вызвать нездоровый ажиотаж, а посему возили его в театр в крытом фургоне, где он гордо восседал на своем прелестном Тереке.
Неизбежно рано или поздно Терек был обречен получить кличку – Лошадь Пржевальского. Актеры люди догадливые, и не прошло и полугода, как так и случилось. И гордый орловский рысак превратился Лошадь Пржевальского, хотя ничего общего не имел с уродливыми лошадками этой низкорослой киргизской породы.
Так рассказывали одни.
Другие, немедленно объявив, что первые лгут, тут же предлагали свою версию происхождения столь редкой фамилии.
«Досталась ему она по наследству от отца, – рассказывали они, – который, будучи еще совсем молодым джигитом, спас великого путешественника, когда тот тонул в озере Иссык-Куль, После чего они стали побратимами и, согласно обычаю, обменялись фамилиями».
Так говорили другие.
Третьи, не мудрствуя лукаво, просто объявляли Арсентия незаконнорожденным сыном Пржевальского. В чем не следует усматривать ничего удивительного, ибо кого только тому в незаконнорожденные сыновья ни приписывали. Однако в данном случае, уж хотя бы в силу возраста главрежа, сего точно быть не могло.
Четвертые – и вовсе завистники – шептали, что настоящая фамилия Арсентия звучала непристойно.
Пржевальский ничего не отрицал. Не до того было. Он ставил Шекспира.
Второй сезон с неослабевающим успехом в театре шел «Гамлет». Три раза в неделю в битком набитый маленький зал во все двери врывалось с десяток всадников. Бряцая доспехами, они джигитовали в проходах и оглушительно палили в воздух из различного вида стрелкового оружия.
Зрители, сидящие в крайних креслах, в страхе отодвигались подальше от прохода. Прямо у них над головами мелькали оскаленные лошадиные морды, и клочья пены летели на выходные костюмы и вечерние платья. Те, кому посчастливилось сидеть ближе к центру, оглушительно хлопали. Так под грохот выстрелов и аплодисментов, сквозь которые робко пробивалась бравурная маршевая музыка, приезжал на Тереке Гамлет.
Поверьте, его приезд был очень красивым зрелищем. Когда дым от выстрелов немного рассеивался и хоть что-то можно было наконец увидеть, зал взрывался мощной овацией.
Зрелище после премьеры продолжалось примерно месяца три.
Ровно год тому назад, помнится, в пятницу тринадцатого числа, между прочим, ровно в полдень страшный крик потряс театр. Он был до того душераздирающ и пронзителен, что маленькое помещение театра и соболезнующие актерские души не смогли в полной мере вместить его в себе.
И крик «Мышкин упал!», преисполненный боли и отчаяния, колобком выкатился на улицу. В Стремянном переулке, как всегда в полуденный час, было пусто, а посему некому было его услышать. И крик сник, скукожился и вернулся назад в театр, где повис под лепным потолком в центре зала возле массивной, бронза с хрусталем, люстры. Там провисел он еще какое-то время, пока окончательно не улеглись страсти, после чего по гулким коридорам переместился в район директорского кабинета. И уже в более или менее пристойном виде проник вовнутрь, где история его появления была рассказана наконец во всех подробностях.
От повседневных репетиций на сцене Терек окончательно зазнался и уже не желал выносить на себе никакой другой тяжести, кроме самого Арсентия. А в тот день, кроме всего, ему, в буквальном смысле слова, вожжа попала под хвост. Мышкин, вообразив себя изрядным кавалеристом, принялся седлать Терека собственноручно. Потом имел неосторожность еще и сесть на него… «Лошадь Пржевальского» вспомнил о своей гордой породе и тряхнул стариной.
Вследствие чего Мышкин упал!
Поднимали его всем театром. Даже гардеробщик впервые за долгие годы своей беспорочной службы покинул в рабочее время вверенные ему вешалки. Но с них, к счастью, ничего не украли. Так что Никита Абрамович Рабинянц в тот раз отделался легким испугом.
А вот Мышкин – упал!
Такие вот дела творились год назад, а именно, в пятницу тринадцатого в помещении «Театра на Стремянке». С тех пор вслед за лихими гарцующими и стреляющими в воздух всадниками въезжала запряженная смирной белой кобылой тачанка, в которой, задумчиво опершись на пулемет, сидел Мышкин – Гамлет.
А в тот день, год назад, спектакля не было. Отменили спектакль начисто. Ввиду болезни актера. Лошадь Пржевальского раз и навсегда отказался возить на себе Ивана Борисовича.
Мышкин не возражал. Он играл Гамлета.
Арсентий не любил кино. Страстно, до самозабвения. Пожалуй, даже больше, чем автомобили. Но следует открыть страшную тайну: он завидовал. Так же страстно и самозабвенно. Хотя в своих беседах о кино иначе, как халтурой, он его не называл. А еще «штучками» он его называл. Но в душе – завидовал… «Гамлет» на кинопленке для его самолюбия стал незаживающей язвой. Стоило упомянуть при нем о недавно вышедшем фильме, как он тут же начинал негодовать и скорбеть! Он негодовал за Шекспира и скорбел над ним же.
– «Быть или не быть? Вот в чем вопрос…» – Арсентий принимал соответствующую позу. – Почти весь монолог спиной к зрителю. Он, изволите ли видеть, по лестнице поднимается. Да плевать мне на их киноштучки-дрючки! Мне лицо важно видеть, глаза!.. Где истинное страдание? В спине?!
