Страница:
— Что с вами?! — закричал я. — Кто разрешил включать установку?
Катя отстегнула алюминиевую ленточку с запястья и взяла со стола измерительный циркуль из готовальни Арсика. Затем она тщательно вонзила обе иголочки в тыльную сторону своей ладони. На ее лицо стало возвращаться нормальное выражение. Но довольно медленно.
Потыкав себя еще циркулем для верности, Катя встала со стула и прошла мимо меня на свое рабочее место. На мгновенье у меня, как говорят, помутилось в голове.
— Я заявлю в местком, — сказал Игнатий Семенович.
Вскоре пришел Арсик, сумрачный и недовольный. Шурочка так и не появилась. Арсик не работал, а сидел, смотря в окно и тихонько насвистывая одну из модных песенок. Естественно, о любви.
Катя сомнамбулически перебирала инструменты на своем столике.
Я с трудом дождался конца рабочего дня. Ровно в пять пятнадцать Игнатий Семенович выключил машину, сложил исписанные листки на край стола и удалился, сдержанно попрощавшись. Арсик не шевелился. Катя схватила сумочку и пробежала мимо меня к двери. Мы наконец остались одни с Арсиком.
— Слушай, что происходит? — спросил я.
— Я сам не понимаю, — с тоской сказал Арсик. — Но жутко интересно. Хотя тяжело.
— Пожалуйста, популярнее, — предложил я.
— Иди сюда. Посмотри сам, — сказал он.
С некоторой опаской я подошел к его установке и дал Арсику обмотать свое запястье ленточкой. Арсик настроил установку и повернул окуляры в мою сторону.
— Садись и смотри, — сказал он.
2
Катя отстегнула алюминиевую ленточку с запястья и взяла со стола измерительный циркуль из готовальни Арсика. Затем она тщательно вонзила обе иголочки в тыльную сторону своей ладони. На ее лицо стало возвращаться нормальное выражение. Но довольно медленно.
Потыкав себя еще циркулем для верности, Катя встала со стула и прошла мимо меня на свое рабочее место. На мгновенье у меня, как говорят, помутилось в голове.
— Я заявлю в местком, — сказал Игнатий Семенович.
Вскоре пришел Арсик, сумрачный и недовольный. Шурочка так и не появилась. Арсик не работал, а сидел, смотря в окно и тихонько насвистывая одну из модных песенок. Естественно, о любви.
Катя сомнамбулически перебирала инструменты на своем столике.
Я с трудом дождался конца рабочего дня. Ровно в пять пятнадцать Игнатий Семенович выключил машину, сложил исписанные листки на край стола и удалился, сдержанно попрощавшись. Арсик не шевелился. Катя схватила сумочку и пробежала мимо меня к двери. Мы наконец остались одни с Арсиком.
— Слушай, что происходит? — спросил я.
— Я сам не понимаю, — с тоской сказал Арсик. — Но жутко интересно. Хотя тяжело.
— Пожалуйста, популярнее, — предложил я.
— Иди сюда. Посмотри сам, — сказал он.
С некоторой опаской я подошел к его установке и дал Арсику обмотать свое запястье ленточкой. Арсик настроил установку и повернул окуляры в мою сторону.
— Садись и смотри, — сказал он.
2
Сначала было желтое — желтее не придумаешь — пространство перед моими глазами. Именно пространство, потому что в нем был объем, из которого через несколько секунд стали появляться хвостатые зеленые звезды, похожие формой на рыбок-вуалехвостов. Они словно искали себе место, перемещаясь в желтом объеме. И объем этот тоже менялся, постепенно густея, наливаясь спелостью, напряженно дрожа и подгоняя маленьких рыбок к их счастливым точкам. Почему я подумал о точках — счастливые? Да потому лишь, что следил за зелеными звездочками с непонятным мне и страстным желанием счастливого, праздничного исхода их движений.
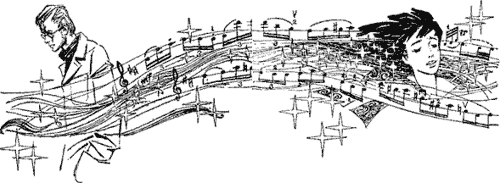
Я чувствовал, что должен быть в желтом мире, открывшемся передо мной, веселый союз хвостатых рыбок, единственно возможное сочетание точек, образующее мою гармонию, — и я направлял их туда своими мыслями, а когда они все, взмахнув зеленоватыми вуалями, заняли в объеме истинное положение, я услышал музыку. Это был вальс на скрипке, как я понял много позднее, фантазия Венявского на темы «Фауста» Гуно — тогда я не знал этой музыки. И звездочки мои рассыпались искрами и расплылись, потому что я с удивлением ощутил в своих глазах слезы. Да что же это такое? Меня больше не было, я оказался растворенным в этом объеме, и только тихий стук пульса о ленточку фольги доносился из прежнего мира.
А затем образовались три линии — изумрудная, густая, с тонкими мраморными прожилками; нежно-зеленая, прозрачная; и бледная, похожая на столб света. И они тоже перемещались, скрещивались, образуя в местах скрещения немыслимые сочетания цветов, пока не нашли единственного положения, и тогда сменилась музыка, а в объеме вырисовалось то забытое мною лицо, которое я не позволял себе вспоминать уже десять лет, — глаза прикрыты, выражение боли и счастья, и Моцарт, скрипичный концерт номер три, вторая часть.
Моцарт тоже позднее, гораздо позднее вошел в мою жизнь.
А я уже гнал сквозь пространство новые картины, подстегивая их нервным ритмом пульса, и чувствовал, как от моего сердца отделяется тонкая и твердая пленка — это было больно.
Самое главное, что время перестало существовать. Секунды падали в одну точку, как капли, и эта точка была внутри меня, почему-то за языком, в гортани.
Ком в горле, десять лет жизни.
Что-то щелкнуло, и меня не стало.
Медленно я сообразил, что я жив, что я сижу на стуле в своей лаборатории, что у меня затекла нога от неудобной позы, что я оторвался от окуляров и вижу лицо Арсика, что за окнами темно.
Арсик виновато улыбался.
— Сразу много нельзя, — сказал он. — Тебе будет тяжело.
— Хочу еще, — сказал я, как ребенок, у которого отняли игрушку.
Арсик наклонился ко мне, взял за плечи и сильно тряхнул. Это помогло. Я глубоко вздохнул и заметил еще ряд вещей в лаборатории: пыльные неприбранные полки с приборами, железную раму в углу и аккуратный стол Игнатия Семеновича.
— Как ты это делаешь? — спросил я.
— Не знаю, — сказал Арсик. — Каждый делает это сам. Плохо, что они научились самостоятельно пользоваться установкой.
— Кто?
— Шурочка и Катя… Они очень влюбились.
— В кого? — тупо спросил я.
— Катя — в тебя, — сказал Арсик.
Два часа назад подобное сообщение вызвало бы во мне ярость или насмешку. Или то и другое вместе. Теперь я почувствовал ужас.
— Что же теперь будет? — спросил я растерянно.
— Пиво холодное, — сказал Арсик. — Иди домой. Что будет, то и будет.
Ночью мне снились желто-зеленые поля с синими бабочками над ними. И еще лицо Кати, про которую я знал, что это не Катя, а та далекая девочка моей юности, с которой… Нет, это слишком долго и сложно рассказывать.
Проснулся я рано и, лежа в постели, принялся уговаривать себя, что ничего особенного не произошло. Нервы расшалились. Неудивительно, все идет не так, как мне бы хотелось. Результатов нет, время проходит, а тут еще незапланированная любовь.
Я боялся идти на работу. Боялся встречи с Катей.
Катя на десять лет младше меня. Ей девятнадцать. Я это поколение не понимаю. Неизвестно, что может ей взбрести в голову. Влюблялась бы себе на здоровье в кого-нибудь другого. Я здесь совершенно ни при чем, никакого повода я не давал. Более того, своим поведением я решительно, как мне кажется, не допускал возможности в себя влюбиться. Собственно, почему я должен думать об этом? У меня своих забот хватает.
Размышляя таким образом, я настроил себя воинственно, еще раз недобрым словом помянул так называемую любовь, вскочил с кровати, умылся, почистил зубы и отправился в лабораторию.
Слава богу, Катя не пришла. Она позвонила и сказала Шурочке, что у нее поднялась температура. Арсика это сообщение взволновало, он даже переменился в лице, взъерошил волосы и принялся ходить по комнате. Игнатий Семенович сделал ему замечание. Он сказал, что Арсик мешает ходу его мыслей. Арсик щелкнул зубами, как Щелкунчик, и прошипел:
— Мыссс-лей!
Потом он уставился в окуляры и стал щелкать переключателем. Он рассматривал свои картинки часа два. Когда он оторвался от них, его лицо выглядело усталым, печальным и больным. Было видно, что Арсик плакал, но слезы успели высохнуть.
— Надо что-то делать, надо что-то делать… — бормотал он.
Шурочка подбежала к нему и, обняв, стала гладить по голове. Арсик сидел, опустив руки. Старик не выдержал этой картины, выскочил из-за стола и выбежал из лаборатории. Я тоже почувствовал настоятельное желание уйти.
— Арсик, миленький, хороший мой… — шептала Шурочка. — Не надо, не смотри больше, тебе нельзя. Давай я буду смотреть дальше. Хорошо? Да?..
Прикрикнуть, наорать, взорваться — вот что мне нужно было сделать. Только это могло помочь. Но я сидел как пришитый к стулу. Я смотрел на них, а в душе у меня все переворачивалось. Голова кружилась, а мысли прыгали в ней, как шарики в барабане «Спортлото».
Арсик примотал руку Шурочки к установке и усадил ее перед окулярами. Сам он вышел курить в коридор, невесело усмехнувшись мне.
В этот момент позвонили из месткома.
— Зайдите ко мне, — сказал наш председатель.
Я поплелся, предчувствуя нежелательные и нехорошие разговоры. Перед председателем лежало заявление, написанное рукою Игнатия Семеновича. Самого старика в месткоме уже не было.
— Что там у вас происходит? — спросил председатель и прочитал: — «Низкий моральный облик и вызывающее поведение товарища Томашевича А.Н. отрицательно сказываются на молодых сотрудниках. Вместо работы по теме Томашевич А.Н. занимается сомнительными психологическими опытами, граничащими со спиритизмом и черной магией…»
— Ни черта он не смыслит в спиритизме, — сказал я. Я имел в виду Игнатия Семеновича. Председатель подумал, что это я об Арсике.
— Значит, таких фактов не было? — спросил он.
— Черной магии не было, — твердо сказал я.
— А что было? Аморальное поведение было?
— Что такое аморальное поведение? — тихо спросил я.
— Ну, знаете! — воскликнул председатель. — Да они у вас целуются в рабочее время в рабочих помещениях!.. Какой гадостью он их пичкает?
— Кто? Кого? — спросил я, чтобы оттянуть время.
— Да этот Арсик ваш знаменитый!
Я вяло возразил. Сказал, что Арсик проводит уникальный эксперимент и ему требуются ассистенты. Мои оправдания разозлили меня, потому что я до сих пор не знал сути экспериментов Арсика.
— Идите и разберитесь, — сказал председатель. — Чтобы таких сигналов больше не было.
Я вернулся как раз вовремя. В тот момент, когда нужно было кричать «брек», как судье на ринге. Шурочка и Игнатий Семенович стояли друг перед другом в сильнейшем возбуждении и выкрикивали слова, не слушая возражений.
— Ваша мораль! Шито-крыто! Гадости только делать исподтишка умеете! — кричала Шурочка.
— Не позволю! Я сорок лет!.. Поживите с мое — увидим! — кричал Игнатий Семенович.
Арсик стоял у окна, обхватив голову руками, и медленно раскачивался. Он постанывал, как от зубной боли. На лице у него была гримаса страдания.
— Стоп! — крикнул я.
Старик и Шурочка замолкли, дрожа от негодования. Арсик шагнул ко мне и принялся говорить чуть ли не с мольбой, как будто убеждая в том, о чем я понятия не имел:
— Нет, нельзя так, нельзя! Он же не виноват, что вырос таким. Жил таким и состарился. Я не имею права перечеркивать всю его жизнь, правда, Геша? Каждый человек должен иметь уверенность, что живет достойно. Но он должен и сомневаться в этом, испытывать себя… Тогда у него совесть обостряется. Она как бритва — ее с обеих сторон нужно точить. Решишь про себя: правильно я живу, молодец я, лучше всех все понимаю — и затупишь. Махнешь на себя рукой, позволишь себе — пропади, мол, все пропадом, один раз живем — и сломаешь… Верно я говорю?
— Постой, — сказал я. — Сядь. Все сядьте. Поговорим.
Все сели. Я сделал паузу, чтобы коллеги отдышались, и начал говорить.
— Давайте разберемся, — сказал я. — Чем мы здесь занимаемся?.. Мы хотим заниматься наукой. Наукой, а не коммунальными разговорами, спасением души, любовными интригами, моральными и аморальными поступками, долгом и всеобщей нравственностью. Это вне компетенции науки.
— Геша, ты заблуждаешься, — сказал Арсик.
— Не перебивай. Скажешь потом… Я не вижу причин упрекать друг друга. Каждый делает свое дело так, как может. Игнатий Семенович по-своему, Арсик по-другому… Важен результат.
Игнатий Семенович поднялся, подошел ко мне и протянул папку с тесемками. На папке было написано: «И.С.Арнаутов, А.Н.Томашевич. Оптическое запоминающее устройство. Принцип действия и расчет элементов».
— Именно результат, — сказал Игнатий Семенович.
Я взял авторучку и поставил на обложке корректорский знак перемены мест. Такую загогулину, которая сверху охватывала фамилию Игнатия Семеновича, а снизу — фамилию Арсика. Видимо, нашему старику этот знак был хорошо знаком, потому что он посмотрел на меня с негодованием.
— В интересах справедливости, — пояснил я.
— Вы тут все сговорились меня травить! — взвизгнул Игнатий Семенович и начал картинно хвататься за грудь и нашаривать валидол в кармане.
— Игнатий Семенович, сядьте, — спокойно сказал я. — Продолжаем разговор о моральном климате в лаборатории. Слово Арсику. Мне бы хотелось знать: почему у нас все пошло кувырком? Мне просто интересно.
— Завидую я тебе и твоему юмору, — сказал Арсик. — Грустно мне, Геша. Ничего я говорить не буду.
— Хорошо. Давайте работать дальше, — сказал я.
— В таких условиях я работать отказываюсь, — заявил Игнатий Семенович.
И тут Арсик подошел к старику, упал перед ним на колени и ткнулся лбом в его руку. Ей-богу, он так все и проделал. В любой другой момент я бы расхохотался.
— Простите меня, Игнатий Семенович. Простите, — сказал Арсик.
Игнатий Семенович вскочил со стула, снова сел, попытался отдернуть руку и вдруг беспомощно, по-стариковски задрожал всем телом и отвернулся. Нижняя губа у него дергалась
— Хорошо, хорошо… — с трудом проговорил он.
Остаток дня прошел в полной тишине. Мы боялись смотреть друг другу в глаза. Не знаю почему. В пять пятнадцать старик не ушел домой. Это случилось с ним впервые. Он сидел за столом и делал всегдашние выписки. Вскоре ушли Арсик с Шурочкой. Они покинули лабораторию, как палату тяжелобольного. Старик продолжал сидеть. Тогда я взял свой портфель, попрощался и тоже ушел.
Я вышел на улицу и пошел пешком по направлению к дому. Домой не тянуло. Я свернул в скверик и сел на скамейку. Захотелось курить. Я бросил курить несколько лет назад с намерением продлить себе жизнь. Я сделал это осознанно. Сейчас мне неосознанно захотелось курить. Борясь со стыдом, я попросил сигаретку у прохожего и закурил.
Что-то сломалось или начало ломаться в стройной системе вещей.
Докурив до конца сигарету, я почувствовал, что мне необходимо взглянуть в окуляры Арсиковой установки. «И правда, это похоже на наркоманию!» — с досадой подумал я, но пошел обратно в институт. Вахтерша удивленно посмотрела на меня, я пробормотал что-то насчет забытой статьи и поднялся в лабораторию.
Черные шторы, которыми мы пользуемся иногда при оптических опытах, были опущены. В лаборатории было темно. Только от установки Арсика исходило сияние. Светился толстый канат световодов, и сквозь фильтры пробивались разноцветные огни. Гамма цветов была от розоватого до багрового. В этом тревожном зареве я различил фигуру Игнатия Семеновича, прильнувшего к окулярам установки. Старик сидел не шевелясь.
Я сел рядом. Игнатий Семенович не заметил моего появления. Мне показалось, что его не отвлек бы даже пушечный выстрел. Я подождал десять минут, потом еще пятнадцать. Я не решался отвлечь старика от его занятия. Странное было что-то в моем молчаливом ожидании при свете багровых огней. Точно в фотолаборатории, когда ждешь проявления снимка, и вот он начинает проступать бледными серыми контурами на листке фотобумаги в ванночке.
— Нет, нет! — прошептал вдруг Игнатий Семенович и отдернул левую руку от установки. Ленточка фольги, блеснув, слетела с его запястья. Старик откинулся на спинку стула, закрыв глаза и тяжело дыша.
— Игнатий Семенович… — осторожно позвал я. Старик открыл глаза и повернул голову ко мне.
— А… Это вы… — проговорил он, а затем протянул руку к шнуру питания и выдернул его из розетки. Мы остались в абсолютной темноте. Некоторое время мы сидели молча.
— Спасибо, что вы пришли… Очень тяжело, очень! — донесся из темноты глухой голос старика. — Проводите меня домой, Гена, милый… Я сам, боюсь, не дойду.
Мы поднялись со стульев и на ощупь нашли друг друга. Я взял старика под локоть. Рука послушно согнулась. Я чувствовал, что Игнатия Семеновича покачивает. Он был легкий и податливый, как бумажный человечек.
На улице был вечер. Мы пошли через парк пешком. От ходьбы Игнатий Семенович немного окреп, а потом и заговорил. Он стал рассказывать мне свою жизнь.
Когда-то в молодости он очень испугался жизни, спрятался в себя и замер. Тогда он и стал стариком. Он боялся рискнуть даже в мыслях, а потом это превратилось в привычку, и он решил, что так жить — правильно и единственно возможно. Он воевал и имел награды. Воевал он, как он выразился, «исправно», то есть делал то, что прикажут, и не делал того, чего нельзя.
— Вы знаете, Гена, в каком-то смысле мне было легче в армии, — сказал он. — Детерминированнее.
После войны он стал физиком. С ним вместе учились несколько нынешних академиков. Они его удивляли в студенческие годы — они многое делали неправильно. Игнатий Семенович решил про себя, что таланта у него нет, а значит, нужно брать другим — прилежанием и терпением.
Так он выбрал жизненную стратегию.
— Я стал инструктивным, — сказал Игнатий Семенович. — Вы понимаете, что это такое? Сначала это было моей защитой, но после стало оружием. Я сегодня это понял… Но самое страшное не в этом. Я сегодня понял, что талант — это вера в себя, вера себе и сомнение относительно себя же. В равных долях! — воскликнул Игнатий Семенович. — Именно в равных долях! Вот в чем секрет… Я прошел мимо таланта.
У него было много сомнений и мало веры. Вера постепенно исчезла совсем. Но удивительно — вместе с нею исчезло и сомнение! Теперь уже Игнатий Семенович не верил и не сомневался. Он не сомневался в правильности своей жизненной стратегии.
Я вдруг вспомнил слова Арсика насчет бритвы, которую затачивают с двух сторон.
— Но много веры в себя и мало сомнений — тоже плохо, — сказал Игнатий Семенович, искоса взглянув на меня. И я тоже посмотрел на себя со стороны и задумался. Что хотел сказать старик?
Может быть, талант — это совесть?
— Я увидел сейчас себя, — продолжал Игнатий Семенович. — Я давно не смотрел на себя, не разрешал себе этого. Так, окидывал поверхностным взглядом — вроде все в порядке, застегнут… И вдруг заглянул вглубь. А там — ничего, Гена, понимаете?.. И не поправить.
Мы попрощались возле его дома. Старик неожиданно улыбнулся и сказал:
— И все-таки мне стало лучше. Арсик это хорошо придумал.
Я шел домой, размышляя. Одновременно я радовался, что завтра суббота, а послезавтра воскресенье. До понедельника можно войти в норму. «Норма, норма…» — повторял я про себя, пока это слово не превратилось в кличку собаки. Оно потеряло смысл.
Что такое норма? Норма здесь, норма там, норма, норма… Тьфу ты, черт! Норма, ату!
Я зациклился, как говорят программисты. С большим трудом перед сном я отодрал от себя это слово и снова погрузился в желто-зеленые поля с бабочками. С крыльев слетала синяя пыльца. Она оседала на моем лице, кожа становилась бархатистой.
Я провел ладонью по лицу и проснулся. Жена готовила завтрак в кухне. Дочка уже тыкала пальчиками в клавиши пианино в своей комнате. Я вышел на кухню. Там за столом сидел Арсик и ел яичницу. Жена подкладывала ему ветчину.
— Я жавжакаю, — объявил Арсик, борясь с непрожеванной ветчиной.
— Молодец, — сказал я. — Даже дома не удается от тебя отдохнуть.
— У Арсика важные вопросы, — сказала жена. — Он женится.
— На Шурочке? — спросил я.
— Угу, — кивнул Арсик. — Понимаешь, она меня очень любит, — жалобно сказал он.
— А ты?
— Геша, я сейчас люблю свою установку. Я только о ней и думаю.
— Женись, — сказала моя жена. — У тебя сразу появятся другие мысли.
— Я ее тоже, наверное, люблю, — задумчиво сказал Арсик. — Ну как старик? Я очень за него волнуюсь.
Я рассказал о нашем разговоре. Арсик внимательно слушал. Потом он спросил, на каком делении стоял указатель. Я сказал, что не заметил, но свет в установке был багровый.
— Это котенок, — сказал Арсик. — Зря старик смотрел котенка. Ему нужно смотреть солнышко.
— А что такое солнышко?
— Бело-голубые линии спектра. Радость, — сказал Арсик.
— А котенок — печаль?
— Кошки, которые скребут на сердце, — ответил Арсик. — Это не печаль. Это хуже.
Жена положила на стол что-то круглое, величиной с арбуз, с румяной кожурой.
— Смотри, что принес Арсик, — сказала она весело. — Это лук.
— Лук?! — только и смог я произнести.
Арсик смущенно потупился. Потом он объяснил, что вырастил эту головку дома после того, как я убрал его грядку из лаборатории. «Головку! — пробормотал я. — Это целая голова, а не головка». В головке было килограммов пять.
— Хорошо, что ты возился с луком, а не с капустой, — сказал я. — Капуста не пролезла бы в дверь.
— Ты, Генка, смеешься, а сам прекратил такой эксперимент! — сказал жена. — Да Арсику памятник поставит министерство сельского хозяйства!
Она отрезала от головки кусочек, и мы стали его есть. Мы ели и плакали. Лук был сладкий, сочный, чешуйки были толщиной в палец.
— Лук — это побочный эффект от той же идеи, — сказал Арсик.
— Ладно. Хватит морочить мне голову! — сказал я. — Объясни: как это ты делаешь? Что за идея? Может быть, я способен понять?
Арсик оценивающе посмотрел на меня. Вообще-то, я шутил, когда говорил последние слова. Но тут внезапно меня охватило сомнение. А вдруг я не способен, Уже не способен или еще не способен? Раньше я полагал, что способен понять все.
— Это началось с очень простых размышлений, — начал Арсик. — Я думал о живописи и музыке. Что, по-твоему, больше действует?
— Музыка, — не задумываясь, ответил я.
— А между тем слухом мы воспринимаем значительно меньшую часть информации о мире, чем зрением. Я подумал, что музыка света и красок, которую ищут художники, еще очень несовершенна. Вернее, мы не умеем воспринимать ее как обычную музыку… Ты заметил, что, слушая музыку, мы всегда подпеваем ей внутри, как бы помогаем. Мы сами в некотором смысле рождаем ее… Вот почему известные, много раз слышанные сочинения не перестают действовать. Даже сильнее действуют! С живописью не так. Мы не участвуем в процессе рождения красок и оттенков. Мы каждый раз наблюдаем результат… Я просто подумал, что эмоциональное воздействие света и цвета может быть гораздо сильнее, чем действие музыки. И я не ошибся, — грустно закончил Арсик.
— Дальше, — потребовал я. — Мне неясна цель.
— Во всем ты ищешь цели! — в сердцах сказал Арсик. — Цель науки и искусства одна — сделать человека счастливым.
— Но они делают это по-разному.
— И плохо, что по-разному. Плохо, что мы не мечтаем воздействовать на человека впрямую. Печемся только о материальном мире вокруг. Больше, быстрее, громче, дальше, эффективнее, вкуснее, богаче, еще богаче, еще сытнее, чтобы всего было навалом! Вот, в сущности, чем мы занимаемся. А почему не добрее, честнее, душевнее, радостнее, совестливее? Объясни.
Я не смог сразу объяснить. Мне казалось, что это и так понятно. Арсику было непонятно. Этим он отличался. Я сказал, что прогресс науки и техники в конечном итоге делает человека счастливее и добрее. Арсик только рассмеялся.
— А вот и нет! — сказал он. — Мы сейчас ели счастливый лук. Он таким вырос не потому, что было больше света и тепла. Ему было свободнее и радостнее расти.
— Потому что было больше света, тепла и удобрений, — упрямо сказал я.
— Ничего ты не понял, — сказал Арсик. — Потому что он захотел таким вырасти и получил тот свет, который был ему нужен. И старик вчера получил тот свет, который был ему нужен. Для его души.
Затем Арсик вкратце объяснил техническую сторону дела. Было видно, что она его не очень интересует. Фильтры, световоды, обратная связь через биотоки и прочее. Он сам многого не понимал.
— Меня одно мучает, — сказал Арсик. — Свет способен пробуждать любовь, обнажать чувства, делать честнее, освобождать совесть. Но становлюсь ли я при этом счастливым? Я что-то не заметил. Зато жить гораздо труднее стало…
— А ты хотел быть всем довольным? — спросила жена. — Тогда не смотри на свои картинки, не слушай музыку, не люби, не думай. Ешь и спи.
— Да-да! — встрепенулся Арсик. — Нужно выяснить с определенностью, что же такое счастье?
— Долго действует твой свет? — спросил я.
— Когда как. Это зависит от человека… Но интересно, что хочется еще и еще. Заразная вещь! — сказал Арсик.
Вскоре он ушел. На столе лежала голова лука с отрезанным бочком. Я смотрел на нее и думал. Было трудно рассчитать все последствия эксперимента Арсика. А вдруг этот свет влияет не только на душу человека, но и на более материальные вещи? На физиологию, например? На рост организма?.. Я подумал об акселерации, о пятнадцатилетних школьниках, которые почти все выше меня, включая девочек. Может быть, причина акселерации в том, что они свободнее нас и честнее смотрят на мир?
И мне представилась наша Земля, населенная добрыми и умными великанами, которым будет не повернуться в наших маленьких домишках, в квартирах, в тесных автобусах. В каждом детском саду, в каждой школе будут стоять красивые приборы Арсика с окулярами. «А сейчас, дети, у нас будет урок совести…» И все смотрят в окуляры, цвета переливаются, разноцветные радуги выстраиваются в глазах…
А про нас будут говорить так: раньше на Земле жили маленькие люди, которые не умели быть счастливыми.
Я решил принять участие в эксперименте. В конце концов, я руководитель лаборатории и должен отвечать за все. А Катя и Шурочка пусть пока отдохнут. Я хотел сам убедиться в свойствах Арсикового света.
В воскресенье я набросал план экспериментов: продолжительность сеансов, психологические тесты, контрольные опыты. Для начала я написал нечто, похожее на школьное сочинение. Я перечитал «Гамлета» и честно, с максимальной ответственностью изложил на бумаге свои мысли по поводу прочитанного. Я дал оценки поступкам всех героев, выразил неудовлетворенность датским принцем — очень уж он непоследователен и полон рефлексии — и запечатал сочинение в конверт. На конверте я поставил свою фамилию и дату. Я решил еще раз написать обо всем этом после того, как приму несколько сеансов облучения. Насколько изменится моя оценка?
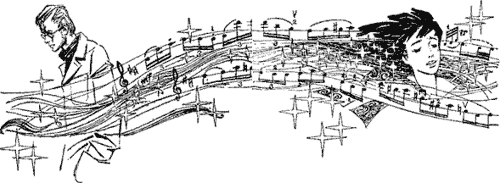
Я чувствовал, что должен быть в желтом мире, открывшемся передо мной, веселый союз хвостатых рыбок, единственно возможное сочетание точек, образующее мою гармонию, — и я направлял их туда своими мыслями, а когда они все, взмахнув зеленоватыми вуалями, заняли в объеме истинное положение, я услышал музыку. Это был вальс на скрипке, как я понял много позднее, фантазия Венявского на темы «Фауста» Гуно — тогда я не знал этой музыки. И звездочки мои рассыпались искрами и расплылись, потому что я с удивлением ощутил в своих глазах слезы. Да что же это такое? Меня больше не было, я оказался растворенным в этом объеме, и только тихий стук пульса о ленточку фольги доносился из прежнего мира.
А затем образовались три линии — изумрудная, густая, с тонкими мраморными прожилками; нежно-зеленая, прозрачная; и бледная, похожая на столб света. И они тоже перемещались, скрещивались, образуя в местах скрещения немыслимые сочетания цветов, пока не нашли единственного положения, и тогда сменилась музыка, а в объеме вырисовалось то забытое мною лицо, которое я не позволял себе вспоминать уже десять лет, — глаза прикрыты, выражение боли и счастья, и Моцарт, скрипичный концерт номер три, вторая часть.
Моцарт тоже позднее, гораздо позднее вошел в мою жизнь.
А я уже гнал сквозь пространство новые картины, подстегивая их нервным ритмом пульса, и чувствовал, как от моего сердца отделяется тонкая и твердая пленка — это было больно.
Самое главное, что время перестало существовать. Секунды падали в одну точку, как капли, и эта точка была внутри меня, почему-то за языком, в гортани.
Ком в горле, десять лет жизни.
Что-то щелкнуло, и меня не стало.
Медленно я сообразил, что я жив, что я сижу на стуле в своей лаборатории, что у меня затекла нога от неудобной позы, что я оторвался от окуляров и вижу лицо Арсика, что за окнами темно.
Арсик виновато улыбался.
— Сразу много нельзя, — сказал он. — Тебе будет тяжело.
— Хочу еще, — сказал я, как ребенок, у которого отняли игрушку.
Арсик наклонился ко мне, взял за плечи и сильно тряхнул. Это помогло. Я глубоко вздохнул и заметил еще ряд вещей в лаборатории: пыльные неприбранные полки с приборами, железную раму в углу и аккуратный стол Игнатия Семеновича.
— Как ты это делаешь? — спросил я.
— Не знаю, — сказал Арсик. — Каждый делает это сам. Плохо, что они научились самостоятельно пользоваться установкой.
— Кто?
— Шурочка и Катя… Они очень влюбились.
— В кого? — тупо спросил я.
— Катя — в тебя, — сказал Арсик.
Два часа назад подобное сообщение вызвало бы во мне ярость или насмешку. Или то и другое вместе. Теперь я почувствовал ужас.
— Что же теперь будет? — спросил я растерянно.
— Пиво холодное, — сказал Арсик. — Иди домой. Что будет, то и будет.
Ночью мне снились желто-зеленые поля с синими бабочками над ними. И еще лицо Кати, про которую я знал, что это не Катя, а та далекая девочка моей юности, с которой… Нет, это слишком долго и сложно рассказывать.
Проснулся я рано и, лежа в постели, принялся уговаривать себя, что ничего особенного не произошло. Нервы расшалились. Неудивительно, все идет не так, как мне бы хотелось. Результатов нет, время проходит, а тут еще незапланированная любовь.
Я боялся идти на работу. Боялся встречи с Катей.
Катя на десять лет младше меня. Ей девятнадцать. Я это поколение не понимаю. Неизвестно, что может ей взбрести в голову. Влюблялась бы себе на здоровье в кого-нибудь другого. Я здесь совершенно ни при чем, никакого повода я не давал. Более того, своим поведением я решительно, как мне кажется, не допускал возможности в себя влюбиться. Собственно, почему я должен думать об этом? У меня своих забот хватает.
Размышляя таким образом, я настроил себя воинственно, еще раз недобрым словом помянул так называемую любовь, вскочил с кровати, умылся, почистил зубы и отправился в лабораторию.
Слава богу, Катя не пришла. Она позвонила и сказала Шурочке, что у нее поднялась температура. Арсика это сообщение взволновало, он даже переменился в лице, взъерошил волосы и принялся ходить по комнате. Игнатий Семенович сделал ему замечание. Он сказал, что Арсик мешает ходу его мыслей. Арсик щелкнул зубами, как Щелкунчик, и прошипел:
— Мыссс-лей!
Потом он уставился в окуляры и стал щелкать переключателем. Он рассматривал свои картинки часа два. Когда он оторвался от них, его лицо выглядело усталым, печальным и больным. Было видно, что Арсик плакал, но слезы успели высохнуть.
— Надо что-то делать, надо что-то делать… — бормотал он.
Шурочка подбежала к нему и, обняв, стала гладить по голове. Арсик сидел, опустив руки. Старик не выдержал этой картины, выскочил из-за стола и выбежал из лаборатории. Я тоже почувствовал настоятельное желание уйти.
— Арсик, миленький, хороший мой… — шептала Шурочка. — Не надо, не смотри больше, тебе нельзя. Давай я буду смотреть дальше. Хорошо? Да?..
Прикрикнуть, наорать, взорваться — вот что мне нужно было сделать. Только это могло помочь. Но я сидел как пришитый к стулу. Я смотрел на них, а в душе у меня все переворачивалось. Голова кружилась, а мысли прыгали в ней, как шарики в барабане «Спортлото».
Арсик примотал руку Шурочки к установке и усадил ее перед окулярами. Сам он вышел курить в коридор, невесело усмехнувшись мне.
В этот момент позвонили из месткома.
— Зайдите ко мне, — сказал наш председатель.
Я поплелся, предчувствуя нежелательные и нехорошие разговоры. Перед председателем лежало заявление, написанное рукою Игнатия Семеновича. Самого старика в месткоме уже не было.
— Что там у вас происходит? — спросил председатель и прочитал: — «Низкий моральный облик и вызывающее поведение товарища Томашевича А.Н. отрицательно сказываются на молодых сотрудниках. Вместо работы по теме Томашевич А.Н. занимается сомнительными психологическими опытами, граничащими со спиритизмом и черной магией…»
— Ни черта он не смыслит в спиритизме, — сказал я. Я имел в виду Игнатия Семеновича. Председатель подумал, что это я об Арсике.
— Значит, таких фактов не было? — спросил он.
— Черной магии не было, — твердо сказал я.
— А что было? Аморальное поведение было?
— Что такое аморальное поведение? — тихо спросил я.
— Ну, знаете! — воскликнул председатель. — Да они у вас целуются в рабочее время в рабочих помещениях!.. Какой гадостью он их пичкает?
— Кто? Кого? — спросил я, чтобы оттянуть время.
— Да этот Арсик ваш знаменитый!
Я вяло возразил. Сказал, что Арсик проводит уникальный эксперимент и ему требуются ассистенты. Мои оправдания разозлили меня, потому что я до сих пор не знал сути экспериментов Арсика.
— Идите и разберитесь, — сказал председатель. — Чтобы таких сигналов больше не было.
Я вернулся как раз вовремя. В тот момент, когда нужно было кричать «брек», как судье на ринге. Шурочка и Игнатий Семенович стояли друг перед другом в сильнейшем возбуждении и выкрикивали слова, не слушая возражений.
— Ваша мораль! Шито-крыто! Гадости только делать исподтишка умеете! — кричала Шурочка.
— Не позволю! Я сорок лет!.. Поживите с мое — увидим! — кричал Игнатий Семенович.
Арсик стоял у окна, обхватив голову руками, и медленно раскачивался. Он постанывал, как от зубной боли. На лице у него была гримаса страдания.
— Стоп! — крикнул я.
Старик и Шурочка замолкли, дрожа от негодования. Арсик шагнул ко мне и принялся говорить чуть ли не с мольбой, как будто убеждая в том, о чем я понятия не имел:
— Нет, нельзя так, нельзя! Он же не виноват, что вырос таким. Жил таким и состарился. Я не имею права перечеркивать всю его жизнь, правда, Геша? Каждый человек должен иметь уверенность, что живет достойно. Но он должен и сомневаться в этом, испытывать себя… Тогда у него совесть обостряется. Она как бритва — ее с обеих сторон нужно точить. Решишь про себя: правильно я живу, молодец я, лучше всех все понимаю — и затупишь. Махнешь на себя рукой, позволишь себе — пропади, мол, все пропадом, один раз живем — и сломаешь… Верно я говорю?
— Постой, — сказал я. — Сядь. Все сядьте. Поговорим.
Все сели. Я сделал паузу, чтобы коллеги отдышались, и начал говорить.
— Давайте разберемся, — сказал я. — Чем мы здесь занимаемся?.. Мы хотим заниматься наукой. Наукой, а не коммунальными разговорами, спасением души, любовными интригами, моральными и аморальными поступками, долгом и всеобщей нравственностью. Это вне компетенции науки.
— Геша, ты заблуждаешься, — сказал Арсик.
— Не перебивай. Скажешь потом… Я не вижу причин упрекать друг друга. Каждый делает свое дело так, как может. Игнатий Семенович по-своему, Арсик по-другому… Важен результат.
Игнатий Семенович поднялся, подошел ко мне и протянул папку с тесемками. На папке было написано: «И.С.Арнаутов, А.Н.Томашевич. Оптическое запоминающее устройство. Принцип действия и расчет элементов».
— Именно результат, — сказал Игнатий Семенович.
Я взял авторучку и поставил на обложке корректорский знак перемены мест. Такую загогулину, которая сверху охватывала фамилию Игнатия Семеновича, а снизу — фамилию Арсика. Видимо, нашему старику этот знак был хорошо знаком, потому что он посмотрел на меня с негодованием.
— В интересах справедливости, — пояснил я.
— Вы тут все сговорились меня травить! — взвизгнул Игнатий Семенович и начал картинно хвататься за грудь и нашаривать валидол в кармане.
— Игнатий Семенович, сядьте, — спокойно сказал я. — Продолжаем разговор о моральном климате в лаборатории. Слово Арсику. Мне бы хотелось знать: почему у нас все пошло кувырком? Мне просто интересно.
— Завидую я тебе и твоему юмору, — сказал Арсик. — Грустно мне, Геша. Ничего я говорить не буду.
— Хорошо. Давайте работать дальше, — сказал я.
— В таких условиях я работать отказываюсь, — заявил Игнатий Семенович.
И тут Арсик подошел к старику, упал перед ним на колени и ткнулся лбом в его руку. Ей-богу, он так все и проделал. В любой другой момент я бы расхохотался.
— Простите меня, Игнатий Семенович. Простите, — сказал Арсик.
Игнатий Семенович вскочил со стула, снова сел, попытался отдернуть руку и вдруг беспомощно, по-стариковски задрожал всем телом и отвернулся. Нижняя губа у него дергалась
— Хорошо, хорошо… — с трудом проговорил он.
Остаток дня прошел в полной тишине. Мы боялись смотреть друг другу в глаза. Не знаю почему. В пять пятнадцать старик не ушел домой. Это случилось с ним впервые. Он сидел за столом и делал всегдашние выписки. Вскоре ушли Арсик с Шурочкой. Они покинули лабораторию, как палату тяжелобольного. Старик продолжал сидеть. Тогда я взял свой портфель, попрощался и тоже ушел.
Я вышел на улицу и пошел пешком по направлению к дому. Домой не тянуло. Я свернул в скверик и сел на скамейку. Захотелось курить. Я бросил курить несколько лет назад с намерением продлить себе жизнь. Я сделал это осознанно. Сейчас мне неосознанно захотелось курить. Борясь со стыдом, я попросил сигаретку у прохожего и закурил.
Что-то сломалось или начало ломаться в стройной системе вещей.
Докурив до конца сигарету, я почувствовал, что мне необходимо взглянуть в окуляры Арсиковой установки. «И правда, это похоже на наркоманию!» — с досадой подумал я, но пошел обратно в институт. Вахтерша удивленно посмотрела на меня, я пробормотал что-то насчет забытой статьи и поднялся в лабораторию.
Черные шторы, которыми мы пользуемся иногда при оптических опытах, были опущены. В лаборатории было темно. Только от установки Арсика исходило сияние. Светился толстый канат световодов, и сквозь фильтры пробивались разноцветные огни. Гамма цветов была от розоватого до багрового. В этом тревожном зареве я различил фигуру Игнатия Семеновича, прильнувшего к окулярам установки. Старик сидел не шевелясь.
Я сел рядом. Игнатий Семенович не заметил моего появления. Мне показалось, что его не отвлек бы даже пушечный выстрел. Я подождал десять минут, потом еще пятнадцать. Я не решался отвлечь старика от его занятия. Странное было что-то в моем молчаливом ожидании при свете багровых огней. Точно в фотолаборатории, когда ждешь проявления снимка, и вот он начинает проступать бледными серыми контурами на листке фотобумаги в ванночке.
— Нет, нет! — прошептал вдруг Игнатий Семенович и отдернул левую руку от установки. Ленточка фольги, блеснув, слетела с его запястья. Старик откинулся на спинку стула, закрыв глаза и тяжело дыша.
— Игнатий Семенович… — осторожно позвал я. Старик открыл глаза и повернул голову ко мне.
— А… Это вы… — проговорил он, а затем протянул руку к шнуру питания и выдернул его из розетки. Мы остались в абсолютной темноте. Некоторое время мы сидели молча.
— Спасибо, что вы пришли… Очень тяжело, очень! — донесся из темноты глухой голос старика. — Проводите меня домой, Гена, милый… Я сам, боюсь, не дойду.
Мы поднялись со стульев и на ощупь нашли друг друга. Я взял старика под локоть. Рука послушно согнулась. Я чувствовал, что Игнатия Семеновича покачивает. Он был легкий и податливый, как бумажный человечек.
На улице был вечер. Мы пошли через парк пешком. От ходьбы Игнатий Семенович немного окреп, а потом и заговорил. Он стал рассказывать мне свою жизнь.
Когда-то в молодости он очень испугался жизни, спрятался в себя и замер. Тогда он и стал стариком. Он боялся рискнуть даже в мыслях, а потом это превратилось в привычку, и он решил, что так жить — правильно и единственно возможно. Он воевал и имел награды. Воевал он, как он выразился, «исправно», то есть делал то, что прикажут, и не делал того, чего нельзя.
— Вы знаете, Гена, в каком-то смысле мне было легче в армии, — сказал он. — Детерминированнее.
После войны он стал физиком. С ним вместе учились несколько нынешних академиков. Они его удивляли в студенческие годы — они многое делали неправильно. Игнатий Семенович решил про себя, что таланта у него нет, а значит, нужно брать другим — прилежанием и терпением.
Так он выбрал жизненную стратегию.
— Я стал инструктивным, — сказал Игнатий Семенович. — Вы понимаете, что это такое? Сначала это было моей защитой, но после стало оружием. Я сегодня это понял… Но самое страшное не в этом. Я сегодня понял, что талант — это вера в себя, вера себе и сомнение относительно себя же. В равных долях! — воскликнул Игнатий Семенович. — Именно в равных долях! Вот в чем секрет… Я прошел мимо таланта.
У него было много сомнений и мало веры. Вера постепенно исчезла совсем. Но удивительно — вместе с нею исчезло и сомнение! Теперь уже Игнатий Семенович не верил и не сомневался. Он не сомневался в правильности своей жизненной стратегии.
Я вдруг вспомнил слова Арсика насчет бритвы, которую затачивают с двух сторон.
— Но много веры в себя и мало сомнений — тоже плохо, — сказал Игнатий Семенович, искоса взглянув на меня. И я тоже посмотрел на себя со стороны и задумался. Что хотел сказать старик?
Может быть, талант — это совесть?
— Я увидел сейчас себя, — продолжал Игнатий Семенович. — Я давно не смотрел на себя, не разрешал себе этого. Так, окидывал поверхностным взглядом — вроде все в порядке, застегнут… И вдруг заглянул вглубь. А там — ничего, Гена, понимаете?.. И не поправить.
Мы попрощались возле его дома. Старик неожиданно улыбнулся и сказал:
— И все-таки мне стало лучше. Арсик это хорошо придумал.
Я шел домой, размышляя. Одновременно я радовался, что завтра суббота, а послезавтра воскресенье. До понедельника можно войти в норму. «Норма, норма…» — повторял я про себя, пока это слово не превратилось в кличку собаки. Оно потеряло смысл.
Что такое норма? Норма здесь, норма там, норма, норма… Тьфу ты, черт! Норма, ату!
Я зациклился, как говорят программисты. С большим трудом перед сном я отодрал от себя это слово и снова погрузился в желто-зеленые поля с бабочками. С крыльев слетала синяя пыльца. Она оседала на моем лице, кожа становилась бархатистой.
Я провел ладонью по лицу и проснулся. Жена готовила завтрак в кухне. Дочка уже тыкала пальчиками в клавиши пианино в своей комнате. Я вышел на кухню. Там за столом сидел Арсик и ел яичницу. Жена подкладывала ему ветчину.
— Я жавжакаю, — объявил Арсик, борясь с непрожеванной ветчиной.
— Молодец, — сказал я. — Даже дома не удается от тебя отдохнуть.
— У Арсика важные вопросы, — сказала жена. — Он женится.
— На Шурочке? — спросил я.
— Угу, — кивнул Арсик. — Понимаешь, она меня очень любит, — жалобно сказал он.
— А ты?
— Геша, я сейчас люблю свою установку. Я только о ней и думаю.
— Женись, — сказала моя жена. — У тебя сразу появятся другие мысли.
— Я ее тоже, наверное, люблю, — задумчиво сказал Арсик. — Ну как старик? Я очень за него волнуюсь.
Я рассказал о нашем разговоре. Арсик внимательно слушал. Потом он спросил, на каком делении стоял указатель. Я сказал, что не заметил, но свет в установке был багровый.
— Это котенок, — сказал Арсик. — Зря старик смотрел котенка. Ему нужно смотреть солнышко.
— А что такое солнышко?
— Бело-голубые линии спектра. Радость, — сказал Арсик.
— А котенок — печаль?
— Кошки, которые скребут на сердце, — ответил Арсик. — Это не печаль. Это хуже.
Жена положила на стол что-то круглое, величиной с арбуз, с румяной кожурой.
— Смотри, что принес Арсик, — сказала она весело. — Это лук.
— Лук?! — только и смог я произнести.
Арсик смущенно потупился. Потом он объяснил, что вырастил эту головку дома после того, как я убрал его грядку из лаборатории. «Головку! — пробормотал я. — Это целая голова, а не головка». В головке было килограммов пять.
— Хорошо, что ты возился с луком, а не с капустой, — сказал я. — Капуста не пролезла бы в дверь.
— Ты, Генка, смеешься, а сам прекратил такой эксперимент! — сказал жена. — Да Арсику памятник поставит министерство сельского хозяйства!
Она отрезала от головки кусочек, и мы стали его есть. Мы ели и плакали. Лук был сладкий, сочный, чешуйки были толщиной в палец.
— Лук — это побочный эффект от той же идеи, — сказал Арсик.
— Ладно. Хватит морочить мне голову! — сказал я. — Объясни: как это ты делаешь? Что за идея? Может быть, я способен понять?
Арсик оценивающе посмотрел на меня. Вообще-то, я шутил, когда говорил последние слова. Но тут внезапно меня охватило сомнение. А вдруг я не способен, Уже не способен или еще не способен? Раньше я полагал, что способен понять все.
— Это началось с очень простых размышлений, — начал Арсик. — Я думал о живописи и музыке. Что, по-твоему, больше действует?
— Музыка, — не задумываясь, ответил я.
— А между тем слухом мы воспринимаем значительно меньшую часть информации о мире, чем зрением. Я подумал, что музыка света и красок, которую ищут художники, еще очень несовершенна. Вернее, мы не умеем воспринимать ее как обычную музыку… Ты заметил, что, слушая музыку, мы всегда подпеваем ей внутри, как бы помогаем. Мы сами в некотором смысле рождаем ее… Вот почему известные, много раз слышанные сочинения не перестают действовать. Даже сильнее действуют! С живописью не так. Мы не участвуем в процессе рождения красок и оттенков. Мы каждый раз наблюдаем результат… Я просто подумал, что эмоциональное воздействие света и цвета может быть гораздо сильнее, чем действие музыки. И я не ошибся, — грустно закончил Арсик.
— Дальше, — потребовал я. — Мне неясна цель.
— Во всем ты ищешь цели! — в сердцах сказал Арсик. — Цель науки и искусства одна — сделать человека счастливым.
— Но они делают это по-разному.
— И плохо, что по-разному. Плохо, что мы не мечтаем воздействовать на человека впрямую. Печемся только о материальном мире вокруг. Больше, быстрее, громче, дальше, эффективнее, вкуснее, богаче, еще богаче, еще сытнее, чтобы всего было навалом! Вот, в сущности, чем мы занимаемся. А почему не добрее, честнее, душевнее, радостнее, совестливее? Объясни.
Я не смог сразу объяснить. Мне казалось, что это и так понятно. Арсику было непонятно. Этим он отличался. Я сказал, что прогресс науки и техники в конечном итоге делает человека счастливее и добрее. Арсик только рассмеялся.
— А вот и нет! — сказал он. — Мы сейчас ели счастливый лук. Он таким вырос не потому, что было больше света и тепла. Ему было свободнее и радостнее расти.
— Потому что было больше света, тепла и удобрений, — упрямо сказал я.
— Ничего ты не понял, — сказал Арсик. — Потому что он захотел таким вырасти и получил тот свет, который был ему нужен. И старик вчера получил тот свет, который был ему нужен. Для его души.
Затем Арсик вкратце объяснил техническую сторону дела. Было видно, что она его не очень интересует. Фильтры, световоды, обратная связь через биотоки и прочее. Он сам многого не понимал.
— Меня одно мучает, — сказал Арсик. — Свет способен пробуждать любовь, обнажать чувства, делать честнее, освобождать совесть. Но становлюсь ли я при этом счастливым? Я что-то не заметил. Зато жить гораздо труднее стало…
— А ты хотел быть всем довольным? — спросила жена. — Тогда не смотри на свои картинки, не слушай музыку, не люби, не думай. Ешь и спи.
— Да-да! — встрепенулся Арсик. — Нужно выяснить с определенностью, что же такое счастье?
— Долго действует твой свет? — спросил я.
— Когда как. Это зависит от человека… Но интересно, что хочется еще и еще. Заразная вещь! — сказал Арсик.
Вскоре он ушел. На столе лежала голова лука с отрезанным бочком. Я смотрел на нее и думал. Было трудно рассчитать все последствия эксперимента Арсика. А вдруг этот свет влияет не только на душу человека, но и на более материальные вещи? На физиологию, например? На рост организма?.. Я подумал об акселерации, о пятнадцатилетних школьниках, которые почти все выше меня, включая девочек. Может быть, причина акселерации в том, что они свободнее нас и честнее смотрят на мир?
И мне представилась наша Земля, населенная добрыми и умными великанами, которым будет не повернуться в наших маленьких домишках, в квартирах, в тесных автобусах. В каждом детском саду, в каждой школе будут стоять красивые приборы Арсика с окулярами. «А сейчас, дети, у нас будет урок совести…» И все смотрят в окуляры, цвета переливаются, разноцветные радуги выстраиваются в глазах…
А про нас будут говорить так: раньше на Земле жили маленькие люди, которые не умели быть счастливыми.
Я решил принять участие в эксперименте. В конце концов, я руководитель лаборатории и должен отвечать за все. А Катя и Шурочка пусть пока отдохнут. Я хотел сам убедиться в свойствах Арсикового света.
В воскресенье я набросал план экспериментов: продолжительность сеансов, психологические тесты, контрольные опыты. Для начала я написал нечто, похожее на школьное сочинение. Я перечитал «Гамлета» и честно, с максимальной ответственностью изложил на бумаге свои мысли по поводу прочитанного. Я дал оценки поступкам всех героев, выразил неудовлетворенность датским принцем — очень уж он непоследователен и полон рефлексии — и запечатал сочинение в конверт. На конверте я поставил свою фамилию и дату. Я решил еще раз написать обо всем этом после того, как приму несколько сеансов облучения. Насколько изменится моя оценка?
