Страница:
Коре Холт
Конунг. Властитель и раб

К ЧИТАТЕЛЮ
В предыдущем томе нашей серии под названием «Конунг» читатели уже познакомились с одним из самых драматичных в истории Норвегии периодов – эпохой «гражданских» войн и «самозванничества» (XI—XII вв.).
В стране было два конунга – Сверрир и Магнус, причем первый имел на престол права весьма сомнительные.
Сверрир возглавлял войско биркебейнеров (букв.«березовоногие»), которые получили это прозвище за то, что пообносившись за время скитаний в лесах, завертывали ноги в бересту.
Против сторонников Сверрира выступали кукольщики (иди плащевики) и посошники.
Кукольщики приверженцев Магнуса называли из-за плаща без рукавов и с капюшоном, которые носили духовные лица, которые, в основном, и противились власти Сверрира.
Епископ Николас даже собрал против самозванца войско, получившее прозвание посошники (от епископского посоха).
Вообще, надо сказать, что в этой борьбе противники не особенно стеснялись оскорблять друг друга. Вот как описывается это в старой «Саге о Сверрире»: «У Николаса и его людей был мальчик, которого они называли Инги сын Магнуса конунга сына Эрлинга.
Берестеники же говорили, что он датчанин и зовется Торгильс Кучка Дерьма».
Об этом периоде и о борьбе за власть после смерти Сверрира пойдет речь в этой книге.
В том вошли заключительная часть трилогии Коре Холта «Конунг» и роман Харальда Тюсберга «Хакон. Наследство».
Счастливого плавания на викингских драккарах!
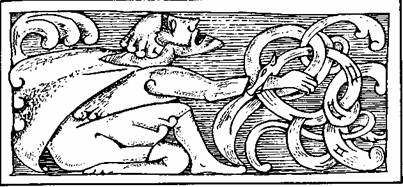
В стране было два конунга – Сверрир и Магнус, причем первый имел на престол права весьма сомнительные.
Сверрир возглавлял войско биркебейнеров (букв.«березовоногие»), которые получили это прозвище за то, что пообносившись за время скитаний в лесах, завертывали ноги в бересту.
Против сторонников Сверрира выступали кукольщики (иди плащевики) и посошники.
Кукольщики приверженцев Магнуса называли из-за плаща без рукавов и с капюшоном, которые носили духовные лица, которые, в основном, и противились власти Сверрира.
Епископ Николас даже собрал против самозванца войско, получившее прозвание посошники (от епископского посоха).
Вообще, надо сказать, что в этой борьбе противники не особенно стеснялись оскорблять друг друга. Вот как описывается это в старой «Саге о Сверрире»: «У Николаса и его людей был мальчик, которого они называли Инги сын Магнуса конунга сына Эрлинга.
Берестеники же говорили, что он датчанин и зовется Торгильс Кучка Дерьма».
Об этом периоде и о борьбе за власть после смерти Сверрира пойдет речь в этой книге.
В том вошли заключительная часть трилогии Коре Холта «Конунг» и роман Харальда Тюсберга «Хакон. Наследство».
Счастливого плавания на викингских драккарах!
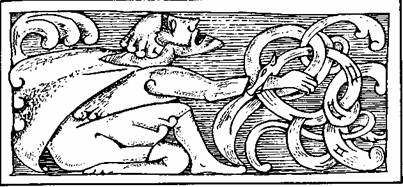
ПРОЛОГ
Я, Аудун Фаререц, верный спутник конунга Сверрира в добрые и лихие времена. Я все еще здесь, в усадьбе Рафнаберг в Ботне, – мрак сгустился над этим затерянным человеческим жилищем у края отвесной кручи, обрывающейся в море. Вокруг очага стоят мои немногочисленные воины, биркебейнеры[1], сжимая в руках оружие. Вместе с ними Малыш, тщедушный горбун, раньше личный слуга конунга Сверрира, а теперь мой. Тут же и хозяин усадьбы бонд Дагфинн, и его бедная жена по имени Гудвейг. Справа от меня, в ночной сорочке, в синем плаще на плечах стоит дочь покойного конунга Сверрира йомфру Кристин и с ней ее служанка, прекрасная йомфру Лив.
Сюда, в Рафнаберг, мы прибыли на восьмой день после праздника Перстня[2], когда кровь Господа нашего Иисуса Христа была перенесена из Йорсалира[3] в Нидарос[4]. Спасаясь бегством из Осло в Бьёргюн[5], мы оказались в этих краях и были вынуждены искать убежища в усадьбе Рафнаберг. Корабли баглеров[6] стояли южнее, в устье фьорда, запирая нам выход. Жестокие противники конунга Сверрира назначили высокую цену за мою голову – это так. Ибо я, священник и воин, следовал повсюду за конунгом Сверриром, и был единственным свидетелем всех его тайных подвигов и злодеяний. Они назначили высокую цену и за йомфру Кристин, не за голову ее, но за юное, девственное лоно. Есть только один человек, способный уберечь ее от этого позорного надругательства. Этот человек – я.
Пока зимние метели хранили нас от натиска баглеров, я коротал время, рассказывая йомфру Кристин суровую и прекрасную сагу о ее отце конунге. Я уже достиг того дня в одном далеком году, когда ярл Эрлинг Кривой опустился на колени в собственную кровь и лобызал корни травы в агонии смерти. Здесь я был вынужден прервать рассказ о конунге Сверрире, ибо один из моих людей – впрочем, я неправ, называя его своим, он не принадлежит никому, кроме всемогущего Сына Божия, – без моего позволения решил прорваться сквозь снежные сугробы к баглерам в Тунсберг. Он хотел броситься в ноги нашим недругам и сказать: «Даруйте нам мир! Дочь конунга, которую вы ищете, в Рафнаберге в Ботне! Убейте ее или надругайтесь над ней, – и кровь юной госпожи на ваших руках ввергнет вас в геенну огненную. Или же, дрогнув при виде гнева всемогущего Господа, отбросьте ваше оружие и положим конец проклятой братоубийственной войне».
Так хотел он сказать.
До этого происшествия я созвал своих людей и всех, кто был в усадьбе, и сказал: кто предаст нас, лишится руки.
Это мало помогло. Гаут покинул нас без моего позволения. Я послал за ним одного из лучших моих людей, Сигурда из Сальтнеса. Сигурд привел Гаута назад.
У Гаута и прежде была только одна рука, другую ему отсекли еще в юности. С тех пор Гаут бродил по стране, чтобы прощать. Он верил – с настойчивостью, достойной уважения, хотя порою и злившей меня, – что если он найдет виновных и простит, рука отрастет заново. Когда он опять стоял передо мной – замерзший, побежденный, но умевший внушать своим противникам мысль о поражении, – я собрал своих немногих биркебейнеров, кликнул усадебную челядь и велел Малышу призвать сюда йомфру Кристин и ее служанку, прекрасную йомфру Лив.
Я сказал:
– Здесь, вокруг очага, дочь конунга и вы, мои воины! Наш долг защищать ее: как апостолы Иисуса следовали за Спасителем, так и мы должны следовать за йомфру Кристин. Но нашелся и среди нас подобный Иуде, так пусть же он дорого заплатит за свое предательство – так, что пресвятая Богородица заплачет кровавыми слезами и отвратит от нас свой лик.
Итак, я отсеку его единственную руку.
Имеет одну, пусть же не имеет ничего.
Но слабость обуяла меня. Я крикнул собравшимся:
– Что сделал бы конунг, стоя на моем месте? Ты, Гаут, был и моим другом, и конунговым, – всегда прощал ты, когда мы осуждали. Что сделал бы конунг Сверрир, грозный, но милующий, на моем месте?
Йомфру Кристин сказала:
– Господин Аудун, дозволь спросить тебя: что за сокровенная сила была в моем отце конунге? Что таил он в сердце, невидимое никому?
Я отвернулся от нее, схватил за грудки Сигурда, приподняв его над полом. – Уведи Гаута, – сказал я, – Ты человек конунга, поступи с ним так, как по-твоему, гласила бы воля конунга. И приведи его сюда – с единственной рукой или без нее.
Сигурд взял Гаута и вышел.
Йомфру Кристин промолвила:
– Скоро они возвратятся…
Они вернулись, – и кровавый шлейф стелился позади человека, ходившего по стране, чтобы прощать.
– Прочь отсюда! Все по местам! Кто заснет, лишится руки!
Люди вскакивают, у очага остаются женщины, бонд Дагфинн, Гаут и я. Гаут сползает на стол, лицо белое, как нутряной жир. Я склоняюсь над ним, чтобы узнать, есть ли в нем еще дыхание жизни. Тогда он поднимает голову и целует меня. Я отшатываюсь, потом хватаю его и тащу к скамье, укладываю там. Кричу Дагфинну:
– Неси сюда лежанку!
Кричу Гудвейг:
– Неси холст и смолу!
Стягиваю с себя рубаху, запихиваю ему под голову. Он слабо кивает в знак благодарности.
Йомфру Кристин отворачивается и распахивает полы синего плаща. Что-то отстегивает, и вот уже подает через стол свою белую ночную сорочку. Гудвейг – молчаливая, без жалоб и стенаний – поставила на огонь чан со смолой, он кипит… То, что я делаю, на моих глазах делали очень часто, – когда изменнику-горожанину или мятежному бонду отрубали руку. Я затягиваю культю веревкой, и кровь останавливается. Проворным движением втираю горячую смолу в свежую рану. Гаут вскрикивает – он лежал без сознания, боль заставила его вскочить. Я снова укладываю его. Он кричит, как раненый зверь – и кто-то падает на пол за моей спиной. Это йомфру Лив. Она так и лежит перед очагом. Я в другой раз прижигаю смолой обрубок руки, теперь он пахнет паленым. Гаут вырван из глубокого беспамятства и полусидит на скамье. Он больше не кричит – но так прикусывает язык, что кровь сочится по бороде и смешивается с кровью на его рубахе. Я раздеваю его. Впервые я вижу Гаута нагим: строитель храмов, прежде однорукий, теперь и вовсе без рук. Входит Гудвейг с ночной сорочкой йомфру Кристин. Йомфру Кристин тоже приближается и помогает держать кровоточащую култышку Гаута. Я бинтую ее, веду Гаута к лежанке, поставленной Дагфинном в углу у очага. Там укладываю.
Он вновь погружается в беспамятство.
Йомфру Кристин развязывает мешочек на поясе и высыпает в ладонь какие-то зернышки. Это засушенные лепестки роз и лаванда. Она кладет зерна на камни очага и зажигает благовония, чтобы прогнать тошнотворные запахи крови. Освежающий аромат цветов и жара смешиваются с другими запахами: человеческого пота и горелого мяса. У меня кружится голова, я плетусь к скамье и падаю на нее.
Входит Гудвейг с охапкой сена и бросает ее в кровь на полу. Я вижу, как поднимается лежавшая без сознания йомфру Лив. Она выходит из комнаты. Йомфру Кристин – дочь моего покойного конунга садится возле меня и плачет. Узкие плечики вздрагивают под плащом.
– Йомфру Кристин, – говорю я, – у меня в поясе есть серебряная коробочка, с териаком[7]. Я купил его однажды за большие деньги у одного из крестоносцев, возвращавшихся домой из Йорсалира. Эта коробочка всегда со мной, во всех скитаниях. Я хотел, если ты занеможешь, располагать единственным целебным средством. Хочешь, отдадим его Гауту?
Она кивает в ответ.
Я зову Гудвейг, та подогревает молока, я открываю коробочку, высыпаю териак в молоко и размешиваю.
Поднимаю Гаута, открываю ему рот и запрокидываю назад голову. Зажимаю его ноздри и лью молоко в горло.
Йомфру Кристин говорит:
– Когда Гаут покинул нас, чтобы найти в Тунсберге баглеров и броситься им в ноги, ты велел фру Гудвейг пасть на каменное крыльцо и молить Бога в ночи о моей безопасности. Теперь мне надо молиться о Гауте?
Я склоняю голову и размышляю. Понятно, что грешная фру Гудвейг вряд ли тронет Господа своими мольбами.
– Приведи йомфру Лив, – говорю я. Она приходит, и я обращаюсь к ней: – Ты, йомфру Кристин, ничком ляжешь на каменные ступени и будешь молить о жизни нашего доброго Гаута, ночью, на холодном ветру, легко одетая.
Лив покорно снимает плащ, я даю ей овчину, чтобы преклонить колени, и она уходит в ночь бормотать свои бесчисленные молитвы.
Гаут открывает глаза.
Я понимаю, что он хочет говорить со мной, и склоняюсь над ним.
– Я хочу простить всех, причинивших мне зло.
– Да! Да! – отзываюсь я, не в силах совладать с собственным голосом. – Прости меня, Гаут, за то, что я содеял!
– Не ты первый, – говорит он. – Яви мне милость, позови сюда Сигурда.
Я сразу усматриваю непозволительное в этой просьбе. У нас так мало людей в дозоре: двое на берегу и двое в лесу с западной стороны. Поэтому я прошу Гаута повременить. Быть может, втайне я питал недостойную надежду, что он испустит дух до наступления дня? Я говорю, что Сигурда нельзя снять с поста среди ночи, его приведут с рассветом, Гаут! Тогда ты и даруешь ему свое прощение.
– Сейчас, – отвечает он.
И столько мощи в его голосе – хотя он слаб, – такая неукротимая сила в его горячечном взгляде, что мне остается только кликнуть Малыша. Тот подходит, я едва сдерживаюсь, чтобы не ударить его, заметив искру презрения в маленьких лукавых глазках: понимает ли он, в какой мучительный переплет я попал?
– Приведи Сигурда! – приказываю я. Даю Малышу оплеуху и отпускаю.
Да, приведи Сигурда. А пока я сижу возле Гаута с тихой надеждой, что он умрет, не успев встретиться со своим палачом. На ум приходит воспоминание о другой встрече с Гаутом – в те времена, когда конунг Сверрир и я были молоды. Мы солгали ему, как делали часто, – Гаут повернул наши лица к огню и произнес: «Пусть свет падает прямо в ваши глаза! Я заставлю вас говорить правду!» Хотя это было ему не по силам. Это значило требовать невозможного – в покоях конунга.
Теперь он лежит… В лучшем случае он будет влачить жалкое существование безрукого и умрет, когда ни у кого не найдется времени вложить ему в рот кусок хлеба. Сможет ли он пастись, как лось в сосновом бору, поедать отбросы подобно свинье, на коленях среди поросят, без помощи рук, опустив рот в помои? Я слышу, как он бормочет молитву бескровными губами.
Они входят: Малыш, с тайной искоркой восторга в глазах, за ним Сигурд —мужество покинуло его. Гаут храбро приподнимается под пологом, я замечаю, как дикая радость играет в его лихорадочных глазах. Он пытается поднять руку – забыв, что она отрублена, – хотел поманить Сигурда поближе пальцем. Но пальцев нет – ни одного.
– Подойди, – стонет он. Сигурд подходит.
– Я прощаю тебя, – молвит Гаут. – Это не твое злодеяние, ты поступил так, думая, что такова воля твоего конунга. Аудун был слишком слаб, чтобы сказать «да» или «нет». Он оставил слово за тобой. В его сердце боролись два веления. В твоем было только одно. Не знаю, что повелело бы сердце конунгу Сверриру, будь он все еще жив.
Гаут опять хочет протянуть руку, чтобы благословить Сигурда, и с криком падает на постель. Я бросаюсь вперед и поднимаю его. Кровь попадает мне на руки, когда я прикасаюсь к холсту, обмотанному вокруг культи. Гаут говорит:
– Наклонись, Сигурд. Я хочу поцеловать тебя, чтобы запечатлеть свое прощение.
Сигурд отпрянул: едва ли его губы часто встречались с чужими. Мне кажется, он никогда не целовал женщин, пока не затаскивал их в постель. Наверное, он лобзал церковные стены, идя на битву – из страха перед Всемогущим, – но весьма редко оценивал благоговейным поцелуем красоту распятия. Гаут не дает ему отвертеться. Взгляд кротких, но таких упрямых глаз безрукого человека нацелен прямо в глаза палача. И последний сдается.
Свет от очага падает на них, я вижу обоих. И понимаю, что нет иного пути, кроме избранного Гаутом. Я говорю Сигурду:
– Пусть будет так!
Сигурд склоняется над Гаутом.
И Гаут целует его.
Потом Гаут говорит, и злоба сквозит в его усмешке:
– Кто получил прощение за свое преступление, тому ничего не страшно – ни преисподняя, ни воинство Господне. Ты, причинивший мне зло, теперь должен сделать добро. Возьми мою отрубленную руку, – она лежит в снегу, уже окоченевшая, – возьми ее, не оттаивай, а храни ее так, будто это рука твоего друга (впрочем, так и есть), – поспеши в церковь в Ботне и зарой ее там. Первая рука, которую мне отрубили, не была предана освященной земле. У меня не было никакого опыта в обращении с мертвыми членами, – и я закопал руку возле своего дома в Нидаросе. Теперь я все знаю лучше. Рука однажды восстанет из мертвых. И ты, Сигурд, отрубивший ее, должен позаботиться о том, чтобы однажды она ожила. А теперь ступай с Богом.
Сигурд дрогнул, такое случалось нечасто. Чаще я видел его бросающимся в атаку по зову конунга, – хладнокровнее многих, человек, способный рубиться мечом и вонзать клинок в мягкие животы противников. Теперь он дрогнул. Я говорю Гауту:
– Ты знаешь, я не могу обойтись без Сигурда. У нас слишком мало людей в дозоре. Ты должен подождать, Гаут!
Он возражает:
– Если рука не попадет в освященную землю, пока я жив, она не попадет туда никогда. Сигурд должен отправиться немедленно.
– Но Сигурд не осмелится! – кричу я.
– У Сигурда будет больше причин для страха, если он не пойдет, – говорит Гаут. Голос его силен и ясен, возможно, это его последний час, а умирающие порой обретают новую силу. – Если он не пойдет, пусть убоится Господа! А если пойдет, ему остается страшиться только дьявола.
Я знал Гаута, его упрямство и здравый, но односторонний ум, его яростное стремление творить добро.
– Осмелишься? – спросил я Сигурда. Он не отвечает. Он содрогается. Спрашивает:
– А ты осмелишься?
Я отвечаю не сразу. Знаю, что не могу оказаться ночью вдали от Рафнаберга, от йомфру Кристин и своих людей.
– Вы не осмеливаетесь? – спрашивает Гаут. – Если бы я имел силы, то пошел бы с вами. Мы втроем несли бы отрубленную руку как наше общее достояние. А когда-то она была только моей…
Он смеется, глядя на нас почти с издевкой, значит, еще не умирает. Я понимаю, что еще много ночей он будет терзать меня своим благородством. Мы должны покончить с этим. Входит Малыш. Я говорю ему:
– Малыш! Принеси сюда отрубленную руку Гаута.
Малыш колеблется, на миг в его маленьких лукавых глазках мелькает страх. Я ловлю себя на мысли, что хочу ударить его кулаком в лицо, – но он достает мне только до живота. Он поворачивается и убегает. А вскоре возвращается, неся отрубленную руку.
– Возьми ее, – говорю я Сигурду.
Он вздрагивает, но берет. Я тоже сжимаю ее и содрогаюсь.
– Теперь и Сигурд взял руку, и я, – говорю я Гауту. – Теперь мы оба связаны с нею. Сейчас Малыш пойдет в церковь в Ботне и закопает ее там.
– Позволь мне сперва поцеловать руку, – молвит Гаут.
Я подношу ему обрубок. Рука закоченела, он склоняет голову и целует ее. В тот же миг крупные слезы начинают катиться по его старым щекам, он не может их утереть, я достаю из-за пояса платок и помогаю ему.
– Ступай, Малыш, – говорю я, – и если ты не исполнишь моего приказания, отрублю тебе обе руки.
Малыш хватает обрубок и исчезает.
Сигурд возвращается на пост.
Гаут говорит:
– Господин Аудун, дозволь поцеловать тебя в губы. Надеюсь, что сердце твое мягче, чем они.
Я наклоняюсь, и он целует меня.
– Целовал ли ты когда-нибудь конунга? – спрашивает он.
– На смертном одре, – коротко отвечаю я.
– А прежде у тебя не хватало мужества? – вопрошает Гаут. – Или у него?
– Молчи! – ору я. Он смотрит на меня – долго, и я поворачиваюсь к нему спиной. Вскоре Гаут засыпает.
– Я вернулась, – произносит она с тихой учтивостью, – чтобы узнать, не требуется ли тебе, господин Аудун, моя помощь в ночных бдениях возле нашего доброго Гаута.
Я склоняю голову и благодарю ее без слов. «Наш добрый Гаут», – сказала она. Значит, человек, который покинул нас, чтобы разыскать в Тунсберге баглеров, для нее все еще «добрый Гаут». Я прошу ее присесть на лавку у очага. Подбрасываю дров, и огонь разгорается ярче. Она так юна на вид – так бела кожа, благородна осанка, без тени страха, в глазах живой ум и глубокая скорбь. Она – дочь моего покойного друга, и мое старое сердце сжимается при мысли, что ее отца конунга больше нет среди живых.
Чуть помедлив, она говорит:
– Позволь мне, господин Аудун, узнать твои сокровенные мысли. Верил ли Гаут в свое благое предназначение, полнилось ли его сердце уверенностью, что баглеры простят всех нас, когда Гаут принесет им весть о прощении? Я думаю, он верил…
Сперва я не отвечаю, потом говорю так:
– Здесь, в Рафнаберге, сделано все, что можно. Наши малочисленные воины стоят на страже, они хорошо вооружены. Йомфру Лив простерлась ниц и молится о здоровье Гаута и твоей безопасности. На ней одежда, похожая на твою, чтобы запутать врагов. У нее на шее твое распятие, полученное в подарок от отца конунга. Если явятся баглеры, они поверят, что такой драгоценностью может владеть только конунгова дочь. Мы должны остаться в Рафнаберге до прихода весны. А тогда мы уедем отсюда.
– Господин Аудун, – молвит она с ноткой разочарования в голосе, ибо я охотнее говорю о вооруженных людях, нежели о безоружных. – В иные ночи ты коротал время, рассказывая мне суровую, но прекрасную сагу о моем отце конунге. Твоя повесть прервалась, когда вернулся Гаут. Найдешь ли теперь силу и мужество продолжить – вплоть до того часа, когда Сверрир, конунг Норвегии, отправился на великое свидание с Господом?
Я отвечаю не сразу, во мне борется желание и нежелание. Продолжать? Здесь, перед лицом того, кто по моему повелению лишился единственной руки? Но ухо йомфру Кристин жаждет внимать звуку моей речи – она подавила страх и полна нежности ко мне, бывшему близким другом ее отцу конунгу… Это будит во мне желание, которому нет силы противостоять. Но я все еще колеблюсь под тяжестью бремени, взваленного на мои жалкие плечи: я должен раскрыть последнюю великую тайну конунга.
– Я спрашивала себя нынче ночью, – говорит она. – Что сделал бы мой отец конунг на твоем месте? Если бы стоял там, где стоял ты, и Сигурд явился бы с Гаутом. Ты однажды назвал моего отца конунга грозным, но милующим. А какова была его сокровенная дума? Подстегивала его болезненная жажда славы, или он почил в уверенности, что тяга к справедливости была его тайной силой? Продолжив свою повесть, ты можешь дать мне ответ.
Она выпрямилась на лавке, сильная юная женщина, бесстрашнее иных мужчин. Я подошел к Гауту и прислушался к его дыханию. Он еще жив. Я занял место у огня напротив йомфру Кристин:
– Я знаю, что для тебя моя повесть драгоценна, – сказал я, – и ничто не радует сердце старика сильнее этого. В ночь, когда Малыш спешит предать освященной земле мертвую руку Гаута, а сам он так мужественно готовится предстать перед Всевышним, я продолжу свой рассказ для тебя.
Ты спрашиваешь: «Что за сокровенная дума была у конунга, грозного, но милующего?» Йомфру Кристин, тот, кто хочет разгадать загадку конунга Сверрира, должен разгадать загадку человеческого сердца. А эта загадка неразрешима.
Но я верю, что однажды, в необозримо далеком далеке, душа Гаута поцелует душу конунга, и они сольются воедино.

Сюда, в Рафнаберг, мы прибыли на восьмой день после праздника Перстня[2], когда кровь Господа нашего Иисуса Христа была перенесена из Йорсалира[3] в Нидарос[4]. Спасаясь бегством из Осло в Бьёргюн[5], мы оказались в этих краях и были вынуждены искать убежища в усадьбе Рафнаберг. Корабли баглеров[6] стояли южнее, в устье фьорда, запирая нам выход. Жестокие противники конунга Сверрира назначили высокую цену за мою голову – это так. Ибо я, священник и воин, следовал повсюду за конунгом Сверриром, и был единственным свидетелем всех его тайных подвигов и злодеяний. Они назначили высокую цену и за йомфру Кристин, не за голову ее, но за юное, девственное лоно. Есть только один человек, способный уберечь ее от этого позорного надругательства. Этот человек – я.
Пока зимние метели хранили нас от натиска баглеров, я коротал время, рассказывая йомфру Кристин суровую и прекрасную сагу о ее отце конунге. Я уже достиг того дня в одном далеком году, когда ярл Эрлинг Кривой опустился на колени в собственную кровь и лобызал корни травы в агонии смерти. Здесь я был вынужден прервать рассказ о конунге Сверрире, ибо один из моих людей – впрочем, я неправ, называя его своим, он не принадлежит никому, кроме всемогущего Сына Божия, – без моего позволения решил прорваться сквозь снежные сугробы к баглерам в Тунсберг. Он хотел броситься в ноги нашим недругам и сказать: «Даруйте нам мир! Дочь конунга, которую вы ищете, в Рафнаберге в Ботне! Убейте ее или надругайтесь над ней, – и кровь юной госпожи на ваших руках ввергнет вас в геенну огненную. Или же, дрогнув при виде гнева всемогущего Господа, отбросьте ваше оружие и положим конец проклятой братоубийственной войне».
Так хотел он сказать.
До этого происшествия я созвал своих людей и всех, кто был в усадьбе, и сказал: кто предаст нас, лишится руки.
Это мало помогло. Гаут покинул нас без моего позволения. Я послал за ним одного из лучших моих людей, Сигурда из Сальтнеса. Сигурд привел Гаута назад.
У Гаута и прежде была только одна рука, другую ему отсекли еще в юности. С тех пор Гаут бродил по стране, чтобы прощать. Он верил – с настойчивостью, достойной уважения, хотя порою и злившей меня, – что если он найдет виновных и простит, рука отрастет заново. Когда он опять стоял передо мной – замерзший, побежденный, но умевший внушать своим противникам мысль о поражении, – я собрал своих немногих биркебейнеров, кликнул усадебную челядь и велел Малышу призвать сюда йомфру Кристин и ее служанку, прекрасную йомфру Лив.
Я сказал:
– Здесь, вокруг очага, дочь конунга и вы, мои воины! Наш долг защищать ее: как апостолы Иисуса следовали за Спасителем, так и мы должны следовать за йомфру Кристин. Но нашелся и среди нас подобный Иуде, так пусть же он дорого заплатит за свое предательство – так, что пресвятая Богородица заплачет кровавыми слезами и отвратит от нас свой лик.
Итак, я отсеку его единственную руку.
Имеет одну, пусть же не имеет ничего.
Но слабость обуяла меня. Я крикнул собравшимся:
– Что сделал бы конунг, стоя на моем месте? Ты, Гаут, был и моим другом, и конунговым, – всегда прощал ты, когда мы осуждали. Что сделал бы конунг Сверрир, грозный, но милующий, на моем месте?
Йомфру Кристин сказала:
– Господин Аудун, дозволь спросить тебя: что за сокровенная сила была в моем отце конунге? Что таил он в сердце, невидимое никому?
Я отвернулся от нее, схватил за грудки Сигурда, приподняв его над полом. – Уведи Гаута, – сказал я, – Ты человек конунга, поступи с ним так, как по-твоему, гласила бы воля конунга. И приведи его сюда – с единственной рукой или без нее.
Сигурд взял Гаута и вышел.
Йомфру Кристин промолвила:
– Скоро они возвратятся…
Они вернулись, – и кровавый шлейф стелился позади человека, ходившего по стране, чтобы прощать.
***
Гаут в беспамятстве прикасается к моей рубахе и пачкает ее кровью. Меня мутит, я хочу оттолкнуть его. Кричит женщина, я прислоняю Гаута к длинному столу, пытаясь нащупать руку, которой больше не существует. Кричу людям:– Прочь отсюда! Все по местам! Кто заснет, лишится руки!
Люди вскакивают, у очага остаются женщины, бонд Дагфинн, Гаут и я. Гаут сползает на стол, лицо белое, как нутряной жир. Я склоняюсь над ним, чтобы узнать, есть ли в нем еще дыхание жизни. Тогда он поднимает голову и целует меня. Я отшатываюсь, потом хватаю его и тащу к скамье, укладываю там. Кричу Дагфинну:
– Неси сюда лежанку!
Кричу Гудвейг:
– Неси холст и смолу!
Стягиваю с себя рубаху, запихиваю ему под голову. Он слабо кивает в знак благодарности.
Йомфру Кристин отворачивается и распахивает полы синего плаща. Что-то отстегивает, и вот уже подает через стол свою белую ночную сорочку. Гудвейг – молчаливая, без жалоб и стенаний – поставила на огонь чан со смолой, он кипит… То, что я делаю, на моих глазах делали очень часто, – когда изменнику-горожанину или мятежному бонду отрубали руку. Я затягиваю культю веревкой, и кровь останавливается. Проворным движением втираю горячую смолу в свежую рану. Гаут вскрикивает – он лежал без сознания, боль заставила его вскочить. Я снова укладываю его. Он кричит, как раненый зверь – и кто-то падает на пол за моей спиной. Это йомфру Лив. Она так и лежит перед очагом. Я в другой раз прижигаю смолой обрубок руки, теперь он пахнет паленым. Гаут вырван из глубокого беспамятства и полусидит на скамье. Он больше не кричит – но так прикусывает язык, что кровь сочится по бороде и смешивается с кровью на его рубахе. Я раздеваю его. Впервые я вижу Гаута нагим: строитель храмов, прежде однорукий, теперь и вовсе без рук. Входит Гудвейг с ночной сорочкой йомфру Кристин. Йомфру Кристин тоже приближается и помогает держать кровоточащую култышку Гаута. Я бинтую ее, веду Гаута к лежанке, поставленной Дагфинном в углу у очага. Там укладываю.
Он вновь погружается в беспамятство.
Йомфру Кристин развязывает мешочек на поясе и высыпает в ладонь какие-то зернышки. Это засушенные лепестки роз и лаванда. Она кладет зерна на камни очага и зажигает благовония, чтобы прогнать тошнотворные запахи крови. Освежающий аромат цветов и жара смешиваются с другими запахами: человеческого пота и горелого мяса. У меня кружится голова, я плетусь к скамье и падаю на нее.
Входит Гудвейг с охапкой сена и бросает ее в кровь на полу. Я вижу, как поднимается лежавшая без сознания йомфру Лив. Она выходит из комнаты. Йомфру Кристин – дочь моего покойного конунга садится возле меня и плачет. Узкие плечики вздрагивают под плащом.
– Йомфру Кристин, – говорю я, – у меня в поясе есть серебряная коробочка, с териаком[7]. Я купил его однажды за большие деньги у одного из крестоносцев, возвращавшихся домой из Йорсалира. Эта коробочка всегда со мной, во всех скитаниях. Я хотел, если ты занеможешь, располагать единственным целебным средством. Хочешь, отдадим его Гауту?
Она кивает в ответ.
Я зову Гудвейг, та подогревает молока, я открываю коробочку, высыпаю териак в молоко и размешиваю.
Поднимаю Гаута, открываю ему рот и запрокидываю назад голову. Зажимаю его ноздри и лью молоко в горло.
Йомфру Кристин говорит:
– Когда Гаут покинул нас, чтобы найти в Тунсберге баглеров и броситься им в ноги, ты велел фру Гудвейг пасть на каменное крыльцо и молить Бога в ночи о моей безопасности. Теперь мне надо молиться о Гауте?
Я склоняю голову и размышляю. Понятно, что грешная фру Гудвейг вряд ли тронет Господа своими мольбами.
– Приведи йомфру Лив, – говорю я. Она приходит, и я обращаюсь к ней: – Ты, йомфру Кристин, ничком ляжешь на каменные ступени и будешь молить о жизни нашего доброго Гаута, ночью, на холодном ветру, легко одетая.
Лив покорно снимает плащ, я даю ей овчину, чтобы преклонить колени, и она уходит в ночь бормотать свои бесчисленные молитвы.
Гаут открывает глаза.
Я понимаю, что он хочет говорить со мной, и склоняюсь над ним.
***
Гаут говорит:– Я хочу простить всех, причинивших мне зло.
– Да! Да! – отзываюсь я, не в силах совладать с собственным голосом. – Прости меня, Гаут, за то, что я содеял!
– Не ты первый, – говорит он. – Яви мне милость, позови сюда Сигурда.
Я сразу усматриваю непозволительное в этой просьбе. У нас так мало людей в дозоре: двое на берегу и двое в лесу с западной стороны. Поэтому я прошу Гаута повременить. Быть может, втайне я питал недостойную надежду, что он испустит дух до наступления дня? Я говорю, что Сигурда нельзя снять с поста среди ночи, его приведут с рассветом, Гаут! Тогда ты и даруешь ему свое прощение.
– Сейчас, – отвечает он.
И столько мощи в его голосе – хотя он слаб, – такая неукротимая сила в его горячечном взгляде, что мне остается только кликнуть Малыша. Тот подходит, я едва сдерживаюсь, чтобы не ударить его, заметив искру презрения в маленьких лукавых глазках: понимает ли он, в какой мучительный переплет я попал?
– Приведи Сигурда! – приказываю я. Даю Малышу оплеуху и отпускаю.
Да, приведи Сигурда. А пока я сижу возле Гаута с тихой надеждой, что он умрет, не успев встретиться со своим палачом. На ум приходит воспоминание о другой встрече с Гаутом – в те времена, когда конунг Сверрир и я были молоды. Мы солгали ему, как делали часто, – Гаут повернул наши лица к огню и произнес: «Пусть свет падает прямо в ваши глаза! Я заставлю вас говорить правду!» Хотя это было ему не по силам. Это значило требовать невозможного – в покоях конунга.
Теперь он лежит… В лучшем случае он будет влачить жалкое существование безрукого и умрет, когда ни у кого не найдется времени вложить ему в рот кусок хлеба. Сможет ли он пастись, как лось в сосновом бору, поедать отбросы подобно свинье, на коленях среди поросят, без помощи рук, опустив рот в помои? Я слышу, как он бормочет молитву бескровными губами.
Они входят: Малыш, с тайной искоркой восторга в глазах, за ним Сигурд —мужество покинуло его. Гаут храбро приподнимается под пологом, я замечаю, как дикая радость играет в его лихорадочных глазах. Он пытается поднять руку – забыв, что она отрублена, – хотел поманить Сигурда поближе пальцем. Но пальцев нет – ни одного.
– Подойди, – стонет он. Сигурд подходит.
– Я прощаю тебя, – молвит Гаут. – Это не твое злодеяние, ты поступил так, думая, что такова воля твоего конунга. Аудун был слишком слаб, чтобы сказать «да» или «нет». Он оставил слово за тобой. В его сердце боролись два веления. В твоем было только одно. Не знаю, что повелело бы сердце конунгу Сверриру, будь он все еще жив.
Гаут опять хочет протянуть руку, чтобы благословить Сигурда, и с криком падает на постель. Я бросаюсь вперед и поднимаю его. Кровь попадает мне на руки, когда я прикасаюсь к холсту, обмотанному вокруг культи. Гаут говорит:
– Наклонись, Сигурд. Я хочу поцеловать тебя, чтобы запечатлеть свое прощение.
Сигурд отпрянул: едва ли его губы часто встречались с чужими. Мне кажется, он никогда не целовал женщин, пока не затаскивал их в постель. Наверное, он лобзал церковные стены, идя на битву – из страха перед Всемогущим, – но весьма редко оценивал благоговейным поцелуем красоту распятия. Гаут не дает ему отвертеться. Взгляд кротких, но таких упрямых глаз безрукого человека нацелен прямо в глаза палача. И последний сдается.
Свет от очага падает на них, я вижу обоих. И понимаю, что нет иного пути, кроме избранного Гаутом. Я говорю Сигурду:
– Пусть будет так!
Сигурд склоняется над Гаутом.
И Гаут целует его.
Потом Гаут говорит, и злоба сквозит в его усмешке:
– Кто получил прощение за свое преступление, тому ничего не страшно – ни преисподняя, ни воинство Господне. Ты, причинивший мне зло, теперь должен сделать добро. Возьми мою отрубленную руку, – она лежит в снегу, уже окоченевшая, – возьми ее, не оттаивай, а храни ее так, будто это рука твоего друга (впрочем, так и есть), – поспеши в церковь в Ботне и зарой ее там. Первая рука, которую мне отрубили, не была предана освященной земле. У меня не было никакого опыта в обращении с мертвыми членами, – и я закопал руку возле своего дома в Нидаросе. Теперь я все знаю лучше. Рука однажды восстанет из мертвых. И ты, Сигурд, отрубивший ее, должен позаботиться о том, чтобы однажды она ожила. А теперь ступай с Богом.
Сигурд дрогнул, такое случалось нечасто. Чаще я видел его бросающимся в атаку по зову конунга, – хладнокровнее многих, человек, способный рубиться мечом и вонзать клинок в мягкие животы противников. Теперь он дрогнул. Я говорю Гауту:
– Ты знаешь, я не могу обойтись без Сигурда. У нас слишком мало людей в дозоре. Ты должен подождать, Гаут!
Он возражает:
– Если рука не попадет в освященную землю, пока я жив, она не попадет туда никогда. Сигурд должен отправиться немедленно.
– Но Сигурд не осмелится! – кричу я.
– У Сигурда будет больше причин для страха, если он не пойдет, – говорит Гаут. Голос его силен и ясен, возможно, это его последний час, а умирающие порой обретают новую силу. – Если он не пойдет, пусть убоится Господа! А если пойдет, ему остается страшиться только дьявола.
Я знал Гаута, его упрямство и здравый, но односторонний ум, его яростное стремление творить добро.
– Осмелишься? – спросил я Сигурда. Он не отвечает. Он содрогается. Спрашивает:
– А ты осмелишься?
Я отвечаю не сразу. Знаю, что не могу оказаться ночью вдали от Рафнаберга, от йомфру Кристин и своих людей.
– Вы не осмеливаетесь? – спрашивает Гаут. – Если бы я имел силы, то пошел бы с вами. Мы втроем несли бы отрубленную руку как наше общее достояние. А когда-то она была только моей…
Он смеется, глядя на нас почти с издевкой, значит, еще не умирает. Я понимаю, что еще много ночей он будет терзать меня своим благородством. Мы должны покончить с этим. Входит Малыш. Я говорю ему:
– Малыш! Принеси сюда отрубленную руку Гаута.
Малыш колеблется, на миг в его маленьких лукавых глазках мелькает страх. Я ловлю себя на мысли, что хочу ударить его кулаком в лицо, – но он достает мне только до живота. Он поворачивается и убегает. А вскоре возвращается, неся отрубленную руку.
– Возьми ее, – говорю я Сигурду.
Он вздрагивает, но берет. Я тоже сжимаю ее и содрогаюсь.
– Теперь и Сигурд взял руку, и я, – говорю я Гауту. – Теперь мы оба связаны с нею. Сейчас Малыш пойдет в церковь в Ботне и закопает ее там.
– Позволь мне сперва поцеловать руку, – молвит Гаут.
Я подношу ему обрубок. Рука закоченела, он склоняет голову и целует ее. В тот же миг крупные слезы начинают катиться по его старым щекам, он не может их утереть, я достаю из-за пояса платок и помогаю ему.
– Ступай, Малыш, – говорю я, – и если ты не исполнишь моего приказания, отрублю тебе обе руки.
Малыш хватает обрубок и исчезает.
Сигурд возвращается на пост.
Гаут говорит:
– Господин Аудун, дозволь поцеловать тебя в губы. Надеюсь, что сердце твое мягче, чем они.
Я наклоняюсь, и он целует меня.
– Целовал ли ты когда-нибудь конунга? – спрашивает он.
– На смертном одре, – коротко отвечаю я.
– А прежде у тебя не хватало мужества? – вопрошает Гаут. – Или у него?
– Молчи! – ору я. Он смотрит на меня – долго, и я поворачиваюсь к нему спиной. Вскоре Гаут засыпает.
***
Я чувствую, что сзади кто-то есть, и медленно оборачиваюсь. Там стоит йомфру Кристин в синем плаще, туго стянутом на плечах.– Я вернулась, – произносит она с тихой учтивостью, – чтобы узнать, не требуется ли тебе, господин Аудун, моя помощь в ночных бдениях возле нашего доброго Гаута.
Я склоняю голову и благодарю ее без слов. «Наш добрый Гаут», – сказала она. Значит, человек, который покинул нас, чтобы разыскать в Тунсберге баглеров, для нее все еще «добрый Гаут». Я прошу ее присесть на лавку у очага. Подбрасываю дров, и огонь разгорается ярче. Она так юна на вид – так бела кожа, благородна осанка, без тени страха, в глазах живой ум и глубокая скорбь. Она – дочь моего покойного друга, и мое старое сердце сжимается при мысли, что ее отца конунга больше нет среди живых.
Чуть помедлив, она говорит:
– Позволь мне, господин Аудун, узнать твои сокровенные мысли. Верил ли Гаут в свое благое предназначение, полнилось ли его сердце уверенностью, что баглеры простят всех нас, когда Гаут принесет им весть о прощении? Я думаю, он верил…
Сперва я не отвечаю, потом говорю так:
– Здесь, в Рафнаберге, сделано все, что можно. Наши малочисленные воины стоят на страже, они хорошо вооружены. Йомфру Лив простерлась ниц и молится о здоровье Гаута и твоей безопасности. На ней одежда, похожая на твою, чтобы запутать врагов. У нее на шее твое распятие, полученное в подарок от отца конунга. Если явятся баглеры, они поверят, что такой драгоценностью может владеть только конунгова дочь. Мы должны остаться в Рафнаберге до прихода весны. А тогда мы уедем отсюда.
– Господин Аудун, – молвит она с ноткой разочарования в голосе, ибо я охотнее говорю о вооруженных людях, нежели о безоружных. – В иные ночи ты коротал время, рассказывая мне суровую, но прекрасную сагу о моем отце конунге. Твоя повесть прервалась, когда вернулся Гаут. Найдешь ли теперь силу и мужество продолжить – вплоть до того часа, когда Сверрир, конунг Норвегии, отправился на великое свидание с Господом?
Я отвечаю не сразу, во мне борется желание и нежелание. Продолжать? Здесь, перед лицом того, кто по моему повелению лишился единственной руки? Но ухо йомфру Кристин жаждет внимать звуку моей речи – она подавила страх и полна нежности ко мне, бывшему близким другом ее отцу конунгу… Это будит во мне желание, которому нет силы противостоять. Но я все еще колеблюсь под тяжестью бремени, взваленного на мои жалкие плечи: я должен раскрыть последнюю великую тайну конунга.
– Я спрашивала себя нынче ночью, – говорит она. – Что сделал бы мой отец конунг на твоем месте? Если бы стоял там, где стоял ты, и Сигурд явился бы с Гаутом. Ты однажды назвал моего отца конунга грозным, но милующим. А какова была его сокровенная дума? Подстегивала его болезненная жажда славы, или он почил в уверенности, что тяга к справедливости была его тайной силой? Продолжив свою повесть, ты можешь дать мне ответ.
Она выпрямилась на лавке, сильная юная женщина, бесстрашнее иных мужчин. Я подошел к Гауту и прислушался к его дыханию. Он еще жив. Я занял место у огня напротив йомфру Кристин:
– Я знаю, что для тебя моя повесть драгоценна, – сказал я, – и ничто не радует сердце старика сильнее этого. В ночь, когда Малыш спешит предать освященной земле мертвую руку Гаута, а сам он так мужественно готовится предстать перед Всевышним, я продолжу свой рассказ для тебя.
Ты спрашиваешь: «Что за сокровенная дума была у конунга, грозного, но милующего?» Йомфру Кристин, тот, кто хочет разгадать загадку конунга Сверрира, должен разгадать загадку человеческого сердца. А эта загадка неразрешима.
Но я верю, что однажды, в необозримо далеком далеке, душа Гаута поцелует душу конунга, и они сольются воедино.

ЛЕТО В НИДАРОСЕ
Йомфру Кристин, я расскажу тебе о твоем отце конунге, о его силе и бессилии в этой стране. Я начну с лет, последовавших за тем, как главный противник конунга ярл Эрлинг Кривой лобызал корни травы в агонии у Кальвскинни и был предан земле под звон капели с крыши Церкви Христа в Нидаросе. Конунг держал речь над могилой своего недруга, а сердца вокруг были исполнены ненависти. Исполнены ненависти – у сторонников ярла, и готовы разорваться от радости у нас, сподвижников конунга Сверрира. Сын ярла, конунг Магнус, сбежал после битвы. Он плыл вдоль побережья с несколькими стругами, добрался до Бьёргюна, подстрекая людей к новой распре, получил благословение и сильное подкрепление от нидаросского архиепископа Эйстейна, снова ринулся в сражение и был с позором изгнан из страны. Архиепископ спасся бегством к своим друзьям в Англию, а конунг Магнус устремился в страну данов. Сверрир из Киркьюбё на Фарерских островах, священник и воитель, еще два года назад опальный, вне закона, стал конунгом Норвегии.
Многие противостояли Сверриру в этом королевстве, которое теперь было его. Да, такова горькая правда – и он бесстрашно заглянул ей в глаза: к югу от восьми фюльков Трёндалёга, по ту сторону гор Довре в Уплёнде и на западе, во фьордах Бьёргюна только сильное войско могло защитить конунга Сверрира от мрачной ярости бондов. В Вике в конунговых усадьбах сидели ленники Эрлинга Кривого и правили окрестными землями так, словно их господин еще жив. Сверрир – пришелец из дальних шхер, священник из Киркьюбё, – был провозглашен конунгом на Эйратинге. Однако почетного места в сердцах своего народа он не завоевал.
Хотел ли он добиться его? Мы часто беседовали об этом. Он был уже с первыми нитками седины на висках, без былого блеска рыжеватой бороды, запомнившегося мне в годы первой юности. Возможно, меньше живости в его движениях – зато больше основательности, а такой глубины и такого жара во взоре я никогда не встречал у других, с кем меня сводила жизнь. Крепок в вере во всемогущего Сына Божия. Однако без горячности и излишнего религиозного экстаза, который может только ослабить ясность разума. Доброжелательный к каждому другу, не лишенный снисхождения к врагу. Но мало встречал я таких, – да нет, йомфру Кристин, пожалуй, ни одного, – кто был бы настолько свободен от величайшей лжи наших дней, будто каждое сердце покупается за серебро.
Он был бесстрашен. Однако никогда не стоял в первом ряду в шуме битвы, для этого он был слишком умен. Открытый во всех своих проявлениях, – так думали многие, но лишь несколько ближайших людей знали, что за открытостью скрывалась запертая келья. И никто не проскользнул туда. Да, его сокровенная дума: сколько я пытался отыскать ее, и верю, что находил, – время от времени. Он всегда оказывал мне величайшее доверие. Иногда эта ноша была непомерна: он открыл мне, что даже я никогда не проникну в его последнюю тайну.
Знал ли он сам, что за тайный ветер гуляет в его сердце? Да, йомфру Кристин, насколько это вообще доступно человеку. Он освещал свое сердце ярким светом разума, но видел порой только темноту. Он часто говорил: – Ты веришь, что я сын конунга, Аудун? Говорил это с изменчивой улыбкой: то светлой, полной надежд, то горькой, удрученной сомнением. С радостной улыбкой того, для кого ответ мало значит, и с усмешкой, прикрывающей душевную муку. Он знал, что рожден с силой конунга. Но был ли взращен в конунговых яслях? Он справлялся, но годы шли, возвращая сомнения. Он пестовал в себе веру. И я убежден, что он окончил свой век, веря, что он сын конунга.
Многие противостояли Сверриру в этом королевстве, которое теперь было его. Да, такова горькая правда – и он бесстрашно заглянул ей в глаза: к югу от восьми фюльков Трёндалёга, по ту сторону гор Довре в Уплёнде и на западе, во фьордах Бьёргюна только сильное войско могло защитить конунга Сверрира от мрачной ярости бондов. В Вике в конунговых усадьбах сидели ленники Эрлинга Кривого и правили окрестными землями так, словно их господин еще жив. Сверрир – пришелец из дальних шхер, священник из Киркьюбё, – был провозглашен конунгом на Эйратинге. Однако почетного места в сердцах своего народа он не завоевал.
Хотел ли он добиться его? Мы часто беседовали об этом. Он был уже с первыми нитками седины на висках, без былого блеска рыжеватой бороды, запомнившегося мне в годы первой юности. Возможно, меньше живости в его движениях – зато больше основательности, а такой глубины и такого жара во взоре я никогда не встречал у других, с кем меня сводила жизнь. Крепок в вере во всемогущего Сына Божия. Однако без горячности и излишнего религиозного экстаза, который может только ослабить ясность разума. Доброжелательный к каждому другу, не лишенный снисхождения к врагу. Но мало встречал я таких, – да нет, йомфру Кристин, пожалуй, ни одного, – кто был бы настолько свободен от величайшей лжи наших дней, будто каждое сердце покупается за серебро.
Он был бесстрашен. Однако никогда не стоял в первом ряду в шуме битвы, для этого он был слишком умен. Открытый во всех своих проявлениях, – так думали многие, но лишь несколько ближайших людей знали, что за открытостью скрывалась запертая келья. И никто не проскользнул туда. Да, его сокровенная дума: сколько я пытался отыскать ее, и верю, что находил, – время от времени. Он всегда оказывал мне величайшее доверие. Иногда эта ноша была непомерна: он открыл мне, что даже я никогда не проникну в его последнюю тайну.
Знал ли он сам, что за тайный ветер гуляет в его сердце? Да, йомфру Кристин, насколько это вообще доступно человеку. Он освещал свое сердце ярким светом разума, но видел порой только темноту. Он часто говорил: – Ты веришь, что я сын конунга, Аудун? Говорил это с изменчивой улыбкой: то светлой, полной надежд, то горькой, удрученной сомнением. С радостной улыбкой того, для кого ответ мало значит, и с усмешкой, прикрывающей душевную муку. Он знал, что рожден с силой конунга. Но был ли взращен в конунговых яслях? Он справлялся, но годы шли, возвращая сомнения. Он пестовал в себе веру. И я убежден, что он окончил свой век, веря, что он сын конунга.
