Страница:
— С трудом могу вычленить свое «я» — оттого, что занимаюсь оборотническим делом. «Профессией» это занятие я называю с опаской. У меня есть совершенно твердая уверенность, что я мутировал, как личность. В зависимости от среды, литературы, общества, и особенно моей профессии происходит изменение. Со мной это произошло. Я вступаю в очень близкие и непростые отношения с теми существами — не скажу «персонажами», — которых мне приходится играть. Они в меня входят — и в моих словах нет позерства.
166
— Вы хорошо говорите, легко. Хотели бы Вы, чтобы Вам слова давались с усилием?
— Я думал много над вопросами, которые Вы мне задаете.
— Многие — и обыватели, и мудрецы — полагают, что актеры — люди второго сорта» пожертвовавшие жизнью, обезличивающиеся. Проклятая профессия, как дело проститутки... Они смертельно измучены, уставшие. Вы признаетесь в этом? У Вас были приступы отвращения к работе?
— Что значит, были? Они постоянно присутствуют. Существа, которых играешь, моделируют в чем-то твои поступки. Я постоянно занимаюсь заимствованием. И многое актеры часто говорят цитатами из ролей. Я знаю, что это проституитивная профессия. Но я пытаюсь, работая на профессиональной сцене, показать, что это прекрасная профессия. Хоть и жестокая, и беспощадная.
— Вы гениально сыграли в «Поминальной молитве» еврея» не будучи евреем. Как Вам удалось сделать то, что не предполагали ни Шолом-Алейхем, ни Захаров... Вы не ощущали, что Вы играете один, играете лучше остальных?
— Нет, у меня нет комплекса полноценности. Это не совсем мой спектакль. Я вошел в уже готовый спектакль вместо ушедшего Евгения Павловича. «Поминальная молитва» делалась специально на него. И я ощущал себя неким кожзаменителем.
— Примеривали ли Вы какую-нибудь другую профессию?
— Если для хлеба насущного, то можно найти дело. Я могу профессионально водить машину, заниматься мелким ремонтом — в быту мне это доставляет удовольствие. Но всерьез... Я не могу сказать, чем бы стал заниматься, потому что, даже не занимаясь своей работой, я в любую минуту в этом. Случись что, я ничего бы, наверное, не делал. Лучше бы я паразитировал на ком-то. Моя профессия не просто дает мне хлеб насущный, я этим живу.
— Предположим, у Вас есть большое состояние. И не захотите Вы на сцену. Чтобы Вы делали? Рыбу бы ловили?
— Да. В карты бы шлепал.
— Покажите мне меня, как я допрашиваю Вас...
— Я не умею. Это особая школа, особое воспитание. Не оттого, что не хочу. Я, наверное, никогда бы не смог держать куда-нибудь экзамен или показываться кому-то.
— Вы были развратным человеком в юности?
— Почему — был? Я не думаю, что все, что связано с чувственной стороной, все прекрасно.
— Значит, было что-то, чего Вы стыдились после? Групповой секс, или что-нибудь в этом роде?
— Каждый человек что-то держит за душой, какие-то тайные желания... Когда есть любимый человек рядом, то все хорошо — между любящими все позволено. Тут можно до бесконечности придумывать, что мы с женой и делаем. Вот если рядом нет такого человека, то начинаются и фантазии, и ложь...
— Что Вы больше любите — женщину или работу?
— Работу.
167
— А что остается еще, помимо любви к работе и к женщине?
— Хорошо бы себя полюбить.
— Кого Вам больше жалко? Себя или людей?
— Я не могу рассуждать о вселенной вообще. Жалко близких. Не могу я достаточно серьезно относиться к человечеству, мол, «пойми и прости».
— Можете показать, как Ваша жена ведет себя на кухне, что говорит?
— (Показывает). Она старается угадать, что мне хочется. Мне больно говорить об этом, потому что жена далеко. Она довольно известный врач, и сейчас уехала на практику в Вашингтон. На целый месяц. Поэтому мы только перезваниваемся.
— Вы хотели бы поумнеть? Страдали ли Вы, что недостаточно умны?
— Да, страдал.
— Какой самый умный человек, которого Вы встречали?
— Не самый умный, но умница. Он живет сейчас в Израиле, режиссер Портнов.
— Расскажите о своем отношении к зрителям.
— Раньше меня беспокоила обратная связь. Прошел спектакль, аплодисменты — и разошлись, каждый сам по себе. А как бы понять, что и как. И являлись люди странной профессии — критики, которые все объясняли. А сейчас меня это не занимает. Не то, чтобы я с удовольствием играл бы в пустом зале. Но меня перестало занимать, нравлюсь я или нет. Я знаю, чт? надо.
— Это о Вашей жене сказано: «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться» ?
— Мы накануне отъезда очень сильно поругались. Когда я услышал, как хлопнула дверь лифта — мне показалось, что какая-то крышка хлопнула. Я подумал, столько времени ее не будет! Мне хватило несколько секунд осознать, что надо сделать... Я напялил на себя, что успел, выскочил — но увидел только хвост уехавшей машины. Было воскресенье, машин мало, водители избалованные, все отказываются. Остановилась, наконец, машина — водитель спрашивает: сколько? Я — сколько скажешь... Погнали в Шереметьево-2. Погода ужасная, дорога скользкая. Приехал гораздо раньше, ходил два часа сорок минут, искал ее, беседовал с таможенниками раза два. Передумал все — что-то с машиной случилось, или еще что-то. Молил Бога и дьявола, чтобы только прояснилось бы, что случилось. Так и не нашел. Потерянный поехал домой. Я не спал, считал часы, минуты, спрашивал по телефону, сколько летит самолет... В восемь утра был звонок из Вашингтона. И когда я услышал ее голос, я подумал, что это самое замечательное, что вообще случается. Мне казалось в зале аэровокзала, что, если я не выматерюсь, не затопаю ногами, у меня внутренности лопнут... Сейчас мне кажется, что это эмоциональная подпитка, зарядка. Думаю, для чего-то это нужно. Даже не понимаю, отчего я это рассказал... Но тогда я жил, а сейчас проживаю. Жизнь была — вот тогда. Только изредка нам даются короткие отрезки настоящей жизни.
168
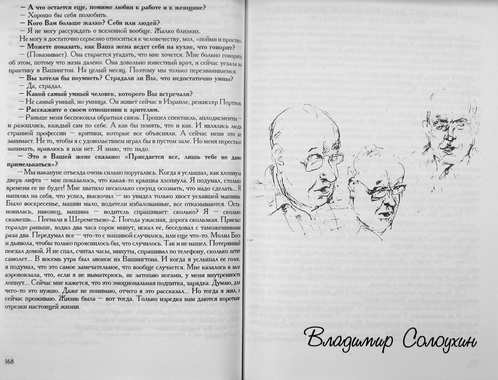
Владимир Солоухин
ПОСЛЕ БЕСЕДЫ СО МНОЙ ВЫ ВЕДЬ НЕ СТАЛИ
КО МНЕ ХУЖЕ ОТНОСИТЬСЯ?
— Владимир Алексеевич, такая страшная средневековая тюремная решетка вделана в вашу дверь, я уже 10 минут в себя не приду...
— Эта решетка плод воображения моей жены. Я не виноват. Вы звонили, я ведь тут же Вас позвал. Вот чаем угощаю. Хотя у меня все качества характера сливаются тоже хаотически: от материнского наследства до всякого мусора. Это только в деревне — цельные натуры. Да и то всякие попадаются.
— Ладно, я моська, никому не известный, начинающий журналист, мечтающий прославиться... Но Довлатову зачем понадобилось над Вами издеваться?
— У Довлатова спросил, и он ответил, что мол это апокриф. Ну, апокриф, так апокриф. А в действительности было совсем не так. Проходили мимо нашего строя в кремлевском полку Сталин и Черчиль всего навсего. Оба маленькие. Иосиф Виссарионович ухмыльнулся. А книги у меня стали выходить только через несколько лет.
— Что отчетливее властвовало, управляло Вашей жизнью — судьба иди случай?
— Ну мне трудно решить. Давайте я Вам помогу, а Вы разберетесь сами.
Я демобилизовался. Саша Соколовский увидел меня с вещмешком. Мы вспрыснули. «Пойдем, я тебя устрою». Если бы на 15 минут позже я его встретил, то трудился бы всю жизнь на заводе. С одной стороны это был случай, но с другой стороны меня уже знали и ценили Луговской и Антокольский. К господу я обращаюсь только со словом благодарности. Я издал семьдесят книг, во многих странах мира побывал. Пришвин не перешел к следующей стадии: «Я — и деревня». Также он не писал остро политических книг. А я написал о Ленине, о революции, о религии.
— Может, Бог о Вас заботится?
— У Эдит Пиаф есть выражение «Меня всегда в критические минуты выносило на нужную дорогу». Я был в литературном объединении задолго до «появления в моей жизни» Сталина. Туда приходили Сельвинский, Кирсанов — я был всегда в форме, а мое имя было у всех на устах.
Вижу Ваше удивленное лицо, ну вот Вам причина моей везучести: пошел в «Огонек» — там написал «Владимирские проселки», а после меня взяли в «Новый мир». Меня как бы несло по оптимальному руслу. А вначале не было у меня ни кола, ни двора, но работа дала мне какую-то материальную основу. Хотя тут не совсем везенье, что-то видимо было в книжке.
— А Ваше лицо знаете какое теперь? Нет, лучше расскажите о самом популярном выражении Вашего лица?
— Я никогда не думаю, как выгляжу. У меня есть дурная привычка закрывать глаза. Я не фотогеничен. У меня не было масок. Я никогда не делал карьеры. Вот недавно приглашали в Политехнический. Мной интересовался сам Лужков, хотел меня видеть на столетии Есенина.
— Какие у Вас взаимоотношения с зеркалом? Только функциональные?
170
— Только в глазах человека, которому я не понравился, я вижу зеркало. Никаких зеркал я не знаю.
— А почему женщин столь магнетически влечет к себе зеркало?
— Женщины очень зависят от мужчин. Правда, бывают и мужчины, которые холят свой усики. У них тоже присутствует элемент кокетства, видимо те и другие устроены одинаково. Женщина слишком сложное существо, чтобы я толком ответил. Женщина — инструмент. Но есть и другие инструменты — красота природы, религия, дальше — искусство.
— Хотя бы предрассудку какому-нибудь подвержен праведник Солоухин?
— Предрассудок... Это суеверие, секты. Выдти на улицу и бить всех в морду. Посмотрим в словаре, как толкуется слово «предрассудок». Презерватив есть, а предрассудка пока не вижу... Вот, наконец-то: «Предрассудок — мнение, предшествующее рассудку, мнение не освоенное критически».
Никаких национальных предрассудков у меня не было. Костя Ваншенкин — еврей, Поженян — армянин, а большие мои друзья. Только негодник пьяница оскорбляет мои национальные достоинства. Ни с немцами, ни с неграми ничего подобного у меня не было. Здесь у меня заглушка.
— Вы сказали, что к Богу обращались с благодарностью, а для людей какие-нибудь слова накопились, или опять заглушка?
— Обращение зреет. Что-нибудь похожее на обращение Фучика.
— Как Вы относитесь к религиозным чудесам?
— Митрополит Виталий мне показывал мироточащую ветку, но я отнесся к этому смутно. Об иконах — это книга об искусстве, а не о прославлении чудес.
— Вообразите сказочную страну, куда Вы приехали и с изумлением обнаружили, что люди с запасом времени выходят на улицу, чтобы удовлетворить свое и чужое любопытство, вообразите, что в этой стране принято разговаривать с незнакомыми...
— Если не называют своего горя, я односторонне участвовал бы в этом процессе. И если бы не заглядывали в мой кошелек.
— Уже несколько недель пресса, телевидение успокаивает публику, мол, не волнуйтесь, коммунисты власть не захватят, все у Вас будет хорошо. Но вдруг станет хуже, чем даже в старые, страшные времена, а визу недовольным пришлют домой и проезд оплатят в любую страну, Вы уедете?
— Все равно не уеду. Это равноценно тому, как колхозных поросят выпустить в лес. У него (поросенка) уже атрофирован инстинкт борьбы за существование. Сейчас всех выпускают из свинарника и у людей началась ностальгия по нему. Я окажусь беспомощным. Я не смогу на Западе устроиться, как устроился здесь.
— А что такое «устроенный» человек? Или лучше другое спрошу. Скажите, с чего для Вас начинается человек?
— Скорее с ума.
— А если Вы идете по тротуару, торопитесь домой, жена суп уже разливает, и вдруг грохот, скрежет тормозов, кровь, все в двух шагах от вас. Как Вы поступите?
171
— При катастрофе не знаю. Но допускаю, что если мафиози стреляют, я не брошусь загородить собой кого-то.
— На прощанье, задайте мне вопрос, вместив в него все свое любопытство к моей особе.
— Вот мы с Вами, Олег Ильич, разных национальностей, но после беседы со мной Вы ведь не стали ко мне хуже относиться?
172
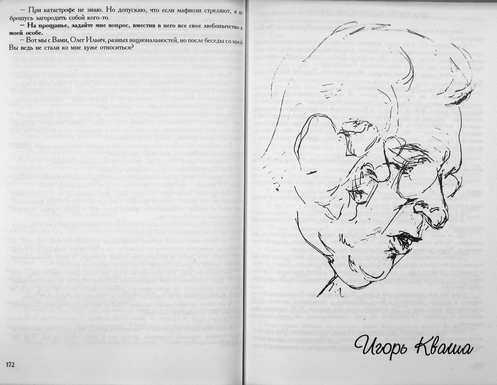
Игорь Кваша
ПРО УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ЗНАЮ
— Начну ни к селу, ни к городу. Я вчера был на концерте Розенбаума. Он Вам симпатичен?
— Симпатичен. Но я не очень понимаю его увлечения воинственной темой некоторого романтизирования войны. Может, я ошибаюсь, потому что у него есть очень страшные песни, которые мне нравятся. Песни Высоцкого нравятся мне больше. А Вам, что, больше нравятся песни Розенбаума?
— Я люблю одних великих поэтова: Мандельштама, Георгия Иванова или Ходасевича...
— А почему Вы о Розенбауме заговорили?
— Потому что он гениальный артист. Я не мог слушать его песни по магнитофону, читать сборники его, а когда попал на концерт — то увидел, что он гениальный артист. Всякий артист — в Костромской ли провинции, выпускник ли училищ» — все они по определению гениальные люди. Это жертвующие собой существа, несбывающиеся, не реализующиеся. Как преступники, проститутки, чиновники, военные — все мученики... Вот разболтался. Вы мне лучше не задавайте вопросов. Скажите, могли бы Вы придумать пять-шесть вопросов и задать себе самому?
— Нет...
— Почему Вам это сложно? Неудобно, скучно? Объясните, почему для Вас это невозможно?
— Что?
— Придумать самому себе вопросы и ответить на них в моем присутствии.
— Потому что себе задаешь самые сокровенные вопросы. А в Вашем присутствии надо учитывать интересы Вашей газеты, которых я не знаю.
— А в рубрику «Разговоры о сокровенном» не хотите?
— А Вы верите в сокровенный разговор в газете? Вы, вот такой напористый, энергичный?
— Да, я верю, что люди будут когда-нибудь говорить о сокровенном, не стесняясь. Чтобы газеты изменились — не пошлость, не глупость, не злобу дня печатали. Через сколько лет — через двадцать или сто — не знаю.
— Давайте договоримся, что, поскольку я очень плохо себя чувствую и сегодня первый день без приступов таких, которые нам не давали бы говорить. Хотя всю ночь я промаялся до шести утра, — но полчаса, сорок минут с Вами поговорю. Так Вы считаете, что получасовой разговор может быть сокровенным? Как Вы это себе представляете?
— Если Вы мне расскажите вот о чем... В стихотворении Пастернака кто-то умирает и говорит, обращаясь к Богу: «Кончаясь в больничной постели // Я чувствую рук твоих жар // Ты держишь меня как изделье // И прячешь как перстень в футляр». Пожалуйста, об этом стихотворении, об этих четырех строчках...
— Здесь проще говорить о Пастернаке, чем об этом стихотворении. Мне кажется, что поэзия не просто словоговорение, словосложение в особом порядке, это же нечто особенное, вообще поэзия... И поэтому мне кажется, что поэты — настоящие поэты
174
— они все-таки явление от Бога, как вообще все искусство, но поэзия — в каком-то таком суммированном проявлении.
— У Вас есть ребенок?
— Есть.
— Сколько лет?
— У меня уже взрослый ребенок, у меня уже внуки!
— Кто у Вас в мире есть еще кроме жены, внуков?
— У меня в мире — друзья.
— Почему Вы друзей в этот ряд ставите, как это получилось?
— Ну потому, что они мне очень много давали в жизни. Это на чувственном уровне меньше, чем жена, дети. Да, конечно, меньше. Я не могу променять внуков и ребенка на друзей. Но это очень много.
— Сколько их наберется? Десяток? Пять человек друзей? Самых-самых... Друзья часто меняются, текучесть большая, как в кадрах... Из теперь живущих?
— Теперь у меня трагический период .Они все почти за границей.
— Звоните кому-нибудь?
— Ну, естественно. Я звоню.
— Сколько их? Три, четыре, пять?
— Ну, наверное, три. Вы как будто не слышите, что я говорю. Потому что я говорю, что друзья — не на животном, чуственном уровне. Это хотя сопоставимо, но не идентично. Потому что некий ряд этого, совершенно животного ощущения, когда — это мой ребенок, наверное, то, что дано человеку, как продолжение рода, как моя рука. Откуда это появляется, почему ребенок похож, почему у него родинка в том же месте, почему у него походка такая же, это же...
— Я так ничего и не понял. Какой траур скорее сведет Вас в могилу — потеря жены, ребенка или друга?
— Я про это и говорю. Конечно, близкие даны тебе на божественном уровне. Неразделимые с тобой. А с друзьями мы можем поссориться и разойтись, это будет болезненно, это будет трагично, иногда это обеднит жизнь, но...
— Игорь, поздравляю, все другие знаменитости умничали и говорили: «Конечно, друзья, что такое жена и родственники...»
— Я говорю наоборот.
— Поэтому гордитесь. Мне это ближе. Хотя им я говорил, что мне ближе то, что они говорят. Я провокатор, я лгун, я мерзавец.
— Как потеря ребенка может с чем-нибудь сравниться?
—Вот такое выражение: «Во всякой личности создается космос, что творят все художники мира вместе». Ложится на душу, верите Вы в это? Преувеличение, по-моему.
— Нет, не верю. Чего стоит один Пастернак. Я действительно считаю, что поэзия и музыка — более высокие виды искусства, чем театр. Его не отношу к такому высокому проявлению. Это тоже божественное проявление, но не такое высокое, как поэзия и музыка.
— Гениальные актеры, по-вашему, были, будут, есть в театре? Во все века?
— Да, будут. Но больше поэтов и композиторов. Театр вторичен.
— Назовите известных Вам.
— Вы знаете, в чем дело... В последнее время на каждой презентации, которые
175
у нас проходят, все говорят это слово, оно сейчас затаскалось. Я не знаю, кто из современников гениальный, а кто не гениальный. Я видел проявления гениальности у Смоктуновского в «Идиоте». В БДТ. Вот это было гениальное исполнение, я это видел.
— Вы хотите ограничиться этим? Давайте ограничимся.
— Вот и я хочу...
— Сколько раз Вы говорили себе, как Пушкин, подпрыгивая: «Ай, да сукин сын! Ай, да молодец». Вы себя называли гениальным?
— Никогда. Мне очень приятно, когда так говорят, но я очень скептично к этому отношусь. Я не очень верю. Поэтому когда Вы, например, мне это говорите, внутренне я улыбаюсь.
— А если я докажу, что я солгал, Вы будете мне благодарны? Привыкли за брань, за критику благодарить? Или не умеете этого?
— Нет, почему, мне она всегда интересна. Не знаю только, почему я должен благодарить.
— Ну, Бога благодарят за болезни. Вы знаете, что некоторые религии...
— Ну, я до такого совершенства еще не дошел.
— Хорошо, тогда о другой благодарности. Игорь, Вы считаете, что Вам небо подарило Вашу жену Таню?
— Да.
— Если бы Вы думали по-другому, Вы, конечно, соврали бы в диктофон?
— Ну не знаю. Но этот ответ был искренен.
— На прощание спрошу, Вы не скучали, говорили с удовольствием?
— Про удовольствие не знаю, но не скучал.
176
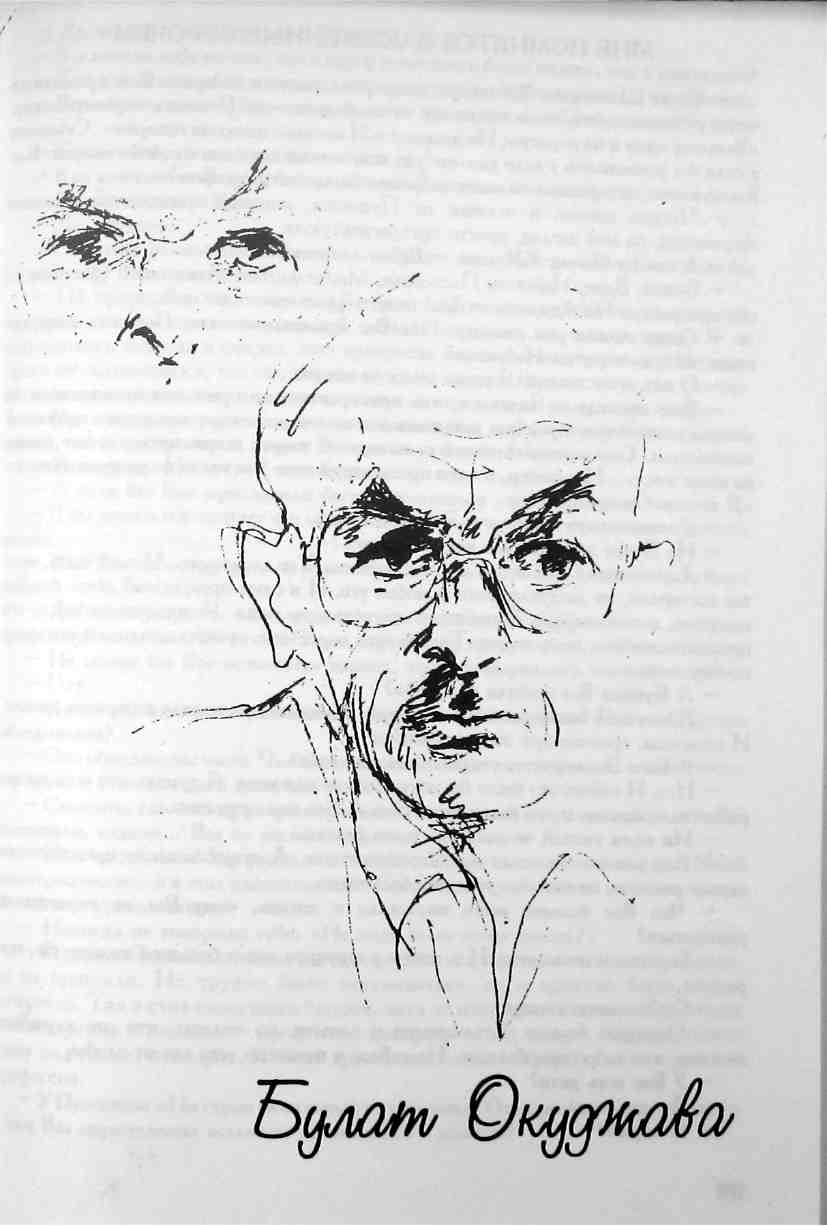
Булат Окуджава
МНЕ ПОМНЯТСЯ ЗАЕЗЖЕННЫЕ СТРОЧКИ
— Булат Шалвович, Вы теперь выздоравливаете и говорить Вам приходите чаще с самим собой, поэтому начну со злободневного. Помните лермонтовское «Выхожу один я на дорогу». Но дальше: « И звезда с звездою говорит». Скажите а если бы сочинилось у него как-нибудь так, что звезда сама с собой говорит. Как Вы думаете, все равно это стихотворение было бы шедевром?
— Честно говоря, в отличие от Пушкина, который грандиозное явление Лермонтов, на мой взгляд, просто прекрасный поэт.
— А кто из поэтов XX века — Ваши любимые?
— Бунин, Блок, Набоков, Пастернак, Мандельштам. Ахматова и Цветаева — обе прекрасны. Но Ахматова — мой поэт, а Цветаева — не мой...
— Один только раз позволю себе Вас проэкзаменовать. Помните наизусть какие-нибудь строчки Набокова?
— О нет, я не помню. Я даже своих не помню.
— Вам никогда не казалось, что пристрастия, которые мы накапливаем за жизнь, достаточно случайны или вызваны нашей неповоротливостью, ненужной занятостью. Совершенный человек, наверное, может встряхнуться и все станет на иные места... Например, в один прекрасный день Вы идете по улице и думаете: «Я изменю свою жизнь».
— У меня такого не бывает. Это моя жизнь.
— Но Ваши пристрастия ведь менялись?
— Да, конечно. С детства я любил Пушкина. Так сложилось. Может быть, меня так воспитали, но десятилетиями я любил его. И в один прекрасный день, как Вы говорите, я его открыл. Это бывает не только у меня. Рождается ребенок, его приучают любить, и он любит. Только став взрослым, сознательным, он понимает почему любит.
— А Бунина Вы любили с детства?
— Я из семьи пламенных большевиков. Меня тайком водила в церковь нянька. И однажды, прознав про это, ее выгнали.
— В Бога Вы веруете, открыли его для себя?
— Нет. И сейчас это было бы искусственно для меня. Я думаю, что есть логика развития природы, и это называется Бог. А Бог как существо...
— Ни один умный человек так и не думает...
— Как раз многие люди думают именно так. А существование нравственного закона реально, но оно совершенно объективно.
— Что Вас больше всего поражало в жизни, чему Вы не переставали удивляться?
— Горькое и печальное. И к концу я ощущаю зло в большем количестве, чем раньше.
— Сталкиваетесь чаще?
— Ощущаю больше. Сталкивался и раньше, но полагал, что это случайное явление, что добро преобладает. Но сейчас я понимаю, что зло от злобы.
—- У Вас есть дети?
— Да, два сына.
— И внуки?
178
— Да, внуку тринадцать лет.
— Вы ловили себя на том, что к внуку относитесь более нежно, чем к сыновьям?
— Так сложились обстоятельства, что с внуком я общаюсь редко, к сожалению.
— Вспомните, пожалуйста, эпизод, когда уговаривали себя перешагнуть через что-то?
— Было такое, но не хочу вспоминать.
— Как кончаются Ваши обиды, печали? Вам удавалось помнить в несчастье о том, что все проходит?
— Да, конечно.
— Скажите, размышляли Вы когда-нибудь о самоубийстве? Что Вас могло бы удержать от этого поступка?
— По природе я легкомысленный грузин. Меня совершенно не волнует мое будущее, меня волнует сегодняшний день. Исходя из этого я и живу. Я не задумываюсь никогда о смерти, хотя прекрасно знаю, что она предстоит. Никогда также не задумываюсь, что обо мне скажут, как оценят. Я живу и это мое счастье. Когда меня спрашивают, в чем мое счастье, я отвечаю: «В том, что я живу».
— Одни мудрецы рекомендуют думать о смерти, другие — нет. Случись такая оказия, чьим доверенным лицом Вы захотели бы быть?
— Во-вторых. Не хочу об этом думать.
— А если бы Вас пригласили быть доверенным лицом Ельцина?
— Я бы отказался, потому что мне это несвойственно. Я — доверенное лицо себя самого.
— Как Вы себя ощущали в музее Чуковского, где я Вас увидел? Вам было уютно?
— Да, потому что мы общались, давно не виделись. Если бы я знал, что туда приедет публика, было бы иначе. Я знал заранее, что придут люди, мне симпатичные.
— Не могли бы Вы вспомнить эпизод, когда кувыркались вниз головой?
— Нет.
— Какие любимые истории любите пересказывать близким? Чем-нибудь они объединены?
— Они объединены мной. Человеком, знания и опыт которого ниже опыта Земли, и в связи с этим который довольно смешон.
— Скажите, сколько примерно времени, лет или дней потрачено на то, что Вы выступали, ездили... Вы не жалеете об этом?
— Нет, не жалею. Мои песни — это хобби. Проза и стихи — настоящее. Мной заинтересовались, и я стал напевать стихи. Средством заработка это не было, просто доставляло удовольствие.
— Никогда не говорили себе: «Не надо было этого делать?»
— Говорил. Само положение выходящего на эстраду человека мне совершенно не пристало. Но трудно было отказываться, да и приятно было, что я интересен. Так я стал известным бардом, хотя не имею на это права. Некоторые стихотворения я напевал — процентов тридцать — под гитару. Не специально пишу под пение, наоборот. Я знаю других подлинных бардов, для которых это профессия.
— У Пушкина: «Но строк печальных не смываю». Отыщите у себя нечто такое, о чем Вы определенно жалеете, вспоминаете с ужасом?
179
— Ужасные поступки были, но такое ужасающее, чему бы я посвящал свое время — нет. Я доволен не собой, но своей жизнью. Так, как сложились обстоятельства.
— А собой отчего не довольны?
— Я не умею себя анализировать.
— Давайте я Вам помогу. Какие черты, особенности собственного характера Вас не устраивают?
— Мне мало что нравится в себе. Но то, что дано мне свыше —я не могу в этом раскаиваться. Размышлять о себе — хорош я или плох, хорошо или плохо делаю — нет, не буду.
— Что есть любовь? Сон, болезнь?
— Объективный биологический, химический процесс.
— Но тогда это чувственность.
— Нет, все равно что-то вырабатывается в человеке, и он выражает себя таким образом.
— Вы имеете в виду любовь до гробовой доски?
— Все зависит от состава химических веществ в человеке.
— Вы знаете примеры такой любви?
— Да, знаю.
— Свою жизнь, видимо, тоже Вы не оценивали, но интуитивно понимаете, какой она была?
— Да, конечно.
— Простите, мы говорим дольше условленного. А на прощание все же Ваше любимейшее собственное стихотворение, хоть пару строк...
— У меня нет таких стихов. Все они очень несовершенны. Помнятся мне другие строчки — заезженные. Те, которые часто цитируются.
