Страница:
192
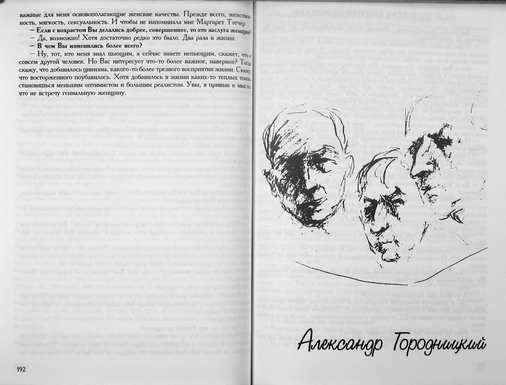
— Вы седой морщинистый, знавший толпу знаменитостей, не пора Вам садиться за воспоминания?
— Я уже написал воспоминания около четырех лет назад. И их переиздавали потому что они, неожиданно для меня, вызвали интерес. Я получил очень много писем, откликов на них, подчас совершенно противоположных.
— Как я Вам завидую. Во-первых, Вы уже издали и так серьезно относитесь к своей книге, а я только собираюсь издать сборник интервью, и во-вторых, мне это так скучно. В-третьих, когда бы не было необходимости в заработке я бы не завидовал Вам. Вы поймете, отчего мне скучно, если я спрошу Вашего разрешения... Позвольте мне эпиграфом к этой книге взять Вашу песню об атлантах, держащих на себе небо российской культуры?
— Я совершенно не воспринимаю всерьез Ваше заявление, будто Вы скучая собираетесь издавать такую замечательную книгу, не верю Вашему сообщению, что Вы стремитесь прежде всего заработать. Также я не согласен с Вашей исходной посылкой об истуканах. Но ради Бога, если Вам нужен эпиграф...
— Надеюсь, это крошечная неприятность Вашей жизни, знакомство со мной, лгуном и злодеем. Расскажите мне теперь о самых крупных своих катастрофах?
— Неожиданный вопрос, не берусь сразу что-то вспомнить. Наверное, смерть близких людей. Катастрофой стала смерть моего отца, хотя я любил больше мать, да и смерть отца была ожиданной — он умирал от рака легких. Я понял, что умерла часть меня, более значительная, чем осталось.
— Если Ваша жена исчезнет, что с Вами будет в Вы опуститесь или снова женитесь?
— Я все время боюсь, когда вообще что-то или кто-то исчезает, боюсь даже, когда что-то неожиданно появляется. И представлять этого не хочу и не могу, потому что для меня это означает прекращение жизни. Но чтобы как-то ответить на Ваш вопрос — признаю, что я писал скверные стишки раньше и если что-то стал писать приличное, это благодаря жене.
— Вы не замечали, что умершие люди становятся для нас как бы более живыми?
— Нет. Смысл потери отца заключается в том, что я понял, что так и не узнал, каким он был. И теперь не узнаю. Это в значительной степени относится и к другим людям.
— У Вас столько песен, пронизанных историей земли, а советские полководцы Вас когда-нибудь интересовали?
— Нет.
— А полководцы прошедших столетий?
— Да, я увлекался почему-то Ганнибалом и Бонапартом. Меня привлекали полководцы, которые в конце-концов проигрывали. Они были такие гениальные, и все же в конце проигрывали. С Суворовым я примирился потому, что он умер в такой опале.
— Кого из поэтов Вы любили сильнее других?
— Мы выбираем поэтов по уровню своей образованности. Для меня это был Александр Блок.
194
— Вспомните какую-нибудь строчку из Блока, любимую.
— «Дом, улица, фонарь, аптека...» Да, и еще я не назвал Киплинга. Начитавшись стихов Киплинга, я пошел в Горный институт, выбрал эту профессию. Да и какую карьеру мог выбрать в пятидесятые годы еврейский мальчик, когда еще витал ужас «космополитизма»...
— Вы часто не спали ночью, оттого, что работали?
— Я уже не помню.
— Зато Вы помните Лидию Чуковскую, Слуцкого, Самойлова.
—Я считаю, что все перечисленные Вами люди были счастливы, и это было преимуществом перед другими людьми. Они — те из немногих людей, которые формировали общественное сознание в то смутное время. Очень многим в себе я обязан этим людям. Лидия Чуковская была еще известна и тем, что в ее присутствии нельзя было поступить нечестно, она была нравственным мерилом.
— Какую часть своих мыслей Вы успели обнародовать? Какая часть остается невыраженной?
— Думаю, что ничего не осталось.
— А что-нибудь прячется за Вашими стихами?
— Мои стихи были очень плохие. И в них, и за ними стояло плохое качество.
— Когда Вы умирать будете, оттого что Аня окажется рядом, Вам легче будет?
— Да, конечно, мне хотелось бы, чтобы любимые люди ушли позже меня. Чтобы мир остался нетронутым.
— Как Вы чувствуете, какое примерно число женщин в мире, с которыми Вы могли бы жить?
— Думаю, что ни с одной.
— Когда Вы наконец прославились, Вам была слава уже не нужна, было уже поздно, как Довлатову?
— Я не считаю себя знаменитым.
— Вам вольготнее жить при капитализме?
— Мы не живем при капитализме, так же, как не жили при социализме. Мы жили в идиотской авторитарной системе, которая подломилась. Вот в Швеции социализм, Миттеран во Франции построил социализм... Я был рабом, не ощущая этого, и в этом самое страшное. Мы считали себя безумно богатыми. Нас воспитали в непонимании отсутствия свободы.
— У Вас есть дети?
— У меня есть сын от первого брака, который живет в Иерусалиме. Он очень верующий человек. Я много лет с ним воевал, считал, что он ничего не понимает, что я теряю сына. Теперь я понял, что все иначе. И еще я хочу поправиться о Галиче. Галич жил благополучно, но в нем вдруг проснулся замечательный поэт и борец в самое опасное время. Я не думаю, что он продолжал быть счастливым человеком. Мне очень жаль его трагического ухода. Это имя, к сожалению, практически уже ушло.
— А с Высоцким Вы были знакомы?
— Высоцкий — это совсем другое дело. Театр Высоцкого пошире, чем театр Галича. Но то и другое — театры. Еще — Окуджава.
— Кто из них самый остроумный человек?
195
— Самый остроумный был Самойлов. Он был человеком очень легким, он написал целую шутливую книгу в стихах, совершенно блестящую. Вспоминаю такой случай. Напротив него жил знаменитый скрипач Пикайзен. Самойлов мне говорит: «Представляешь, Саша, приходит он после концерта домой. Я думаю, вот, сейчас стопочку рванет, расслабится. А он ест булочку, запивает кефиром и еще сам себе на скрипочке играет перед сном. Ему мало! Да не Пикайзен он, а просто Айзенпик!»
— Придумайте свое сравнение, пожалуйста. Мне кажется, что как ветераны надевают ордена в праздник, и так Вы — вспоминаете о дружбе с великими людьми...
— Думаю, что нет. Я вспоминаю не для того, чтобы похвастаться. Это похоже скорее на ностальгию. Как говаривала Раневская: «Я такая старая, что еще помню порядочных людей».
— Кто из них мог бы вспомнить о дружбе с Вами в разговоре с корреспондентом?
— Самойлов я думаю, Эйдельман.
— А Вы ни о ком еще мне толком не рассказали — ни о Самойлове, ни об Эйдельмане, Чуковской.
— Я слишком тепло к ним отношусь. И потом, у меня есть книга воспоминаний...
— Понятно. Берите в библиотеке и читайте. Давайте тогда попробуем поговорить о живых. Может, получится... Возглавлять колонну, конечно, нужно Битову, президенту Пен-Клуба.
— Дело в том, что Андерй Битов для меня — ностальгия по молодости. Да он гораздо более значителен, чем его современники. Когда мы учились в Горном институте (он моложе меня), он пришел вместе с поэтом, потом художником, трагической фигурой — Виньковецким. Я стал понимать на живом примере, что существует литературная ткань прозы, существуют писатели-стилисты (Набокова еще не читали). Битов для нас, моего поколения, был первым серьезным писателем.
— Вы никогда не хотели быть еще и литературоведом?
— Нет. Просто я рассказываю только то, что ностальгически помню про свою юность и своих друзей. Что же касается «Пушкинского дома», то это открытие в российской литературе. Раннего Битова я знал хорошо и любил его. Позднего Битова знаю меньше.
— Как выглядит Битов, как смеется? Он выше Вас ростом? Жизнерадостнее?
— Он живет неподалеку. У него очень трудная судьба. Он очень тяжело болел и вряд ли жизнь его баловала. Сейчас он очень знаменит, но слава никогда еще не делала людей счастливыми. Так что я хотел бы пожелать ему здоровья и удачи в том, что он делает.
— Когда Вы говорите, — то кто из Вас лезет или виден другим отчетливее — поэт или ученый?
— Это не так. Я дилетант и там, и тут. Стараясь успеть всюду, я не преуспел по-настоящему ни в чем. Я не переоцениваю себя.
— Но любите себя, прощаете себе раздвоенность, поощряете ее даже?
— Да, безусловно. Потому что мне всегда кажется, что в соседней комнате происходит самое интересное.
— И машину Вы, конечно, умеете водить?
— Умею, но плохо.
196
— Опять плохо... Что-нибудь Вы научились делать хорошо? Где, когда, в какой стихии Вы живете хорошо?
— Я с завистью вспоминаю фразу, сказанную Хемингуэем о Фицжеральде: «Он ничего не умеет делать хорошо. Он не умеет хорошо водить машину, стрелять из ружья, любить женщину, быть счастливым. Он умеет только хорошо писать рассказы. Вы считаете, этого мало?» Если бы я написал хотя бы одну такую песню, я бы чувствовал себя счастливым. Но этого я тоже не умею. Так что я не могу сказать, что я что-то умею. Но, может быть, оценки — не моя задача? Пусть это делают другие...
— Может, Ваш приятель Юра Щекочихин?
— Он рыцарь без страха и упрека. Я горжусь тем, что мы с ним знакомы. Он человек пьющий и несгибаемый.
— Ничего не получается. Давайте попытаем счастье на женщинах. Ваша коллега Долина Вероника...
— Из следующего поколения авторов песен Вероника мне наиболее интересна. Сейчас она уже мать многих детей, поменяла несколько мужей. И мне нравится, как она это делает, потому что всегда остается хозяйкой положения. У нее мужской, бойцовский характер. Она говорит много глупостей на сцене и, может быть, в интервью. И гораздо умнее, чем тот имидж, который создает. Я считаю ее талантливым поэтом. У нее есть несколько настоящих песен, а это очень много. Хотя много есть песен, написанных в соответствии с имиджем («Мужчина — это совсем другое животное»), но это уже жеманство. Манерность может быть манерой искусства. Потому что если такая талантливейшая поэтесса, как Белла Ахмадуллина может сделать манерность основой своей прекрасной поэзии, то почему нельзя этого сделать в авторской песне? Я очень симпатизирую Веронике Долиной и считаю, что она может еще много хороших песен написать.
— Есть чертеж, есть потом здание. Есть ноты, а потом музыка. Скажите, как соотносится (помните, у Чехова: «Даже когда птица ходит, видно, что она может летать...») — Вот Вы что-то знаете, о художнике, Вы читали его книгу, слышали музыку или видели картину и потом видите этого человека и накладывается ли...
— Очень часто не накладывается. Это очень точное наблюдение. Я не согласен с чеховским заявлением. У него другое мировоззрение. Ему хорошо было говорить: «Если в первом действии ружье висит, то в третьем оно выстрелит». Да ничего подобного. Мы знаем с Вами тысячу примеров, когда ружье висит, да до него не дотянуться, и трагедия кончается, а ружье остается висеть на стене. Это концепция человека логического, начала века, который верит в разумность всего окружающего. Да, если птица летает, то может быть и видно, как она стремительна в полете. Но самая красивая птица, которую я видел, летать вообще не умеет. Это страус эму. Поэтому я не считаю этот тезис справедливым.
— Итак, Вы видите себя как бы в трех ипостасях. Средний ученый, средний поэт, и, давайте добавим, средний муж. Когда будете читать это интервью в газете, Вы будете себя узнавать?
— Не знаю, меня это мало волнует. Главное, чтобы кто-то меня узнал в интервью из тех, кто знает меня хоть в одной ипостаси. Потом о терминах. Я не считаю, что может быть средний ученый. Может быть средний инженер или средний научный работник. Я не считаю себя ученым. Да, я доктор, профессор и действительный член
197
Российской Академии естественных наук. Но считаю себя научным работником. И среднего поэта не бывает. По сравнению с Пушкиным Батюшков — средний поэт, да? Либо — поэт, либо не поэт.
— Против Вашего утверждения, думаю, что дальше Вы заговорите как слабый средний или большой ученый. Давайте условимся, что музыка получается из нот, здание из чертежа, стихи из сора и так далее. А Вас я прошу ответить, решить чем я теперь занимаюсь — пытаюсь ли мелодию Вашего существования перевести в ноты или занят каким-то более плодотворным делом, ну, например, аранжирую музыку, которую в Вас слышу?
— Мне трудно что-то об этом сказать. В детстве я думал, что у меня звучный, хороший голос, а услышал его в записи и был разочарован. Точно также я ужасно не нравлюсь себе по телевизору. Чудовищно себе со стороны не нравиться. Так что какую бы задачу Вы не ставили себе...
— Вы любите, сочиняя песню, ввернуть какую-нибудь метафору?
—Метафору? Да. Вот недавно, всадил слова моего любимого Сенеки: «Если судно никуда не плывет, ни один ветер ему не попутный». Только не подумайте, что я продолжаю отвечать на Ваш предыдущий вопрос.
— А сами Вы часто людям задаете вопросы?
— Нет. Моя жена Анна не даст соврать, что я не люблю даже спрашивать на улице как проехать. Не люблю входить в контакты. Вот журналист из меня точно не получился бы.
— Вы поверхностный человек или глубокий и сложный?
— (Городницкий молчит, отвечает жена). Совсем не поверхностный. Очень глубокий.
— Тогда скажите несколько слов о бездонном Сарнове.
— Недавняя его передача о Багрицком. Он очень интересный, блестящий, тонкий ценитель литературы. Но лично я с ним не знаком.
— Думаю, что это знак, когда заговорила Ваша жена. Давайте вернемся к женщинам. Вот Наталья Иванова, услышав, что я иду к Вам, нагрузила меня приветами...
— Наташа Иванова — женщина с твердым, энергичным характером. Давным-давно, когда меня нигде не печатали, отовсюду гнали, она, тогда юная и прекрасная, напечатала мои стихи, отнеслась ко мне с вниманием. И я не могу относиться к ней объективно, я ее люблю. Она человек решительный, резковатый, но с точным вкусом. У нее недавно вышла прекрасная книга о Фазиле Искандере. Она видела весь мир, все страны, вошла в международную десятку или пятерку людей, которые все обсуждают... Что бы она ни делала, она не потеряет ни правоты, ни человеческой красоты. Она неплохо играет на фортепьяно, и однажды аккомпанировала мне на одном моем импровизированном концерте.
— Как Вы думаете, сколько человек Наташа Иванова могла бы прокормить
— Думаю, что немного. Она не похожа на человека, который способен что-то накопить. Я рад, что слава и успех достались именно этому человеку, который знает разные стороны жизни.
— Придумайте сравнение, на что похожа Ваша память? На кучу чего?
— На кучу обломанных конструкций, из которых уже ничего не создашь. Конструкции города, который ты любил. Конструкции мира.
196
— Что в мире Вам было интереснее, чем люди?
— Пожалуй, ничего.
— Кто из Ваших знакомых в этой узости от Вас отличался?
— Я не знал таких людей. Видимо, это жесткие политики, ученые, полководцы... Те, для кого люди были мусором, строительным материалом. Я дважды встречался с великим философом Мерабом Мамардашвили. Думаю, что посчитаюсь с Вами колкостью, если скажу, что его интересовали прежде всего остального — люди.
— А кого Вы назовете великим прозаиком XX века?
— Не берусь определять, кто великий или невеликий. Но более близок мне, как я уже говорил, Киплинг.
— Набоков, по вашему мнению, великий поэт?
— Он великий писатель. Его поэзию отдельно я не воспринимаю.
— Есть, по-вашему мнению, загадочные вещи на свете?
— Безусловно, есть. Я верю в магию чисел, в то, что существовала Атлантида. Верю еще и в астральное ее существование. Важной научной посылкой я считаю теорию катастроф, которую, кажется, поддерживал один Кювье. В дискретность цивилизаций тоже верю. Я жалею, что уйду из жизни и не узнаю разгадки всего этого. Но я боюсь и не люблю предсказаний. Веря во многое, я не желаю знать своего будущего. Того, когда и как умру.
— Ваше жизнелюбие напоминает мне бодрость Юры Роста. Что Вы думаете о нем?
— Юра Рост — замечательный журналист. Он плавал на кораблях, спускался на дно океана, как и я, что сближает. Человек бесстрашный, всегда попадает в странные ситуации. Обладает замечательной интуицией в науке, а это большая редкость для журналиста. Человек решительный, немногословный, порядочный.
— От Вашего жизнелюбия у меня рябит в уме. Но кого-то из своих друзей Вы любите сильнее других?
— Вопрос из разряда: «Кого Вы любите больше — маму или папу?» Люблю по-разному. Очено любил Натана Эйдельмана, которого нет теперь с нами.
— Ваше мнение о Розенбауме, которого я хоть и наугад, но смело включаю в список Ваших друзей?
— Он один из самых ярких наших эстрадных артистов и, как говорит Окуджава, «выступальщиков». Он человек большого сценического обаяния. Хороший голос, прекрасные музыкальные данные. Его жанровые стилизации очень незаурядны, он человек очень одаренный.
— Когда Вы в последний раз расставались с женой, то насколько?
— На две недели, когда уезжал в Германию.
— А что Вам вспоминалось, когда Вы думали о ней?
— Не берусь конкретизировать. Как говорит Жириновский, «однозначно» целиком.
— Ну и как в финале не поговорить о Фазиле Искандере...
— У нас очень странно смешались понятия национальности и культуры. По-видимому, национальность человека — это его культура, его язык. Искандер — прежде всего русский писатель. Возможно, только произойдя от абхазки и перса, можно с такой остротой воспринимать русский язык. Видимо, интересна судьба русского языка, который переваривает в своем горниле авторов разного происхож-
199
дения, делая их замечательными поэтами, прозаиками. Вообще новые интересные открытая нас ждут на стыке наук, культур, языков. Фазиль Искандер — интересный пример того, как человек с совершенно другими генетическими корнями становится органично русским писателем по пластике, по стилю. Но что самое удивительное в Фазиле, его улыбка. Он же не сатирик. Но его легкий юмор страшнее иной сатиры, Я прочел одну фразу из «Сандро из Чагема», напечатанного в цензурном виде еще до перестройки, и ужаснулся — как же могли такое пропустить! Совершенно крамольные вещи. У Фазиля два лица. Он пишет чудесные стихи. Без улыбки отстраненно-трагически. Две интересные ипостаси одного художника.
— И на прощанье что-нибудь о Губермане. Мне показалось, что Вы с ннм слегка перемешались.
— Мне трудно говорить о Губермане, потому что это один из самых близких моих друзей. Он человек сдержанный, взвешенный, но не знаю в такой ли степени, как я.
200

— Вам жалко, что оборвалось пение?
— Мне жалко, что я уже забыл, пока слушал Вашего кантора, зачем Вы пришли
— Позвольте мне, как фокуснику, второй вопрос вытащить из стихотворения Ходасевича: «Входя ко мне, неси мечту // Иль дьявольскую красоту, // Иль Бога // Если сам ты Божий. // А маленькую доброту, // Как шляпу, оставляй в прихожей». Чем Вас может обрадовать гость? Я, например?
— Я не подготовлен к таким ответам. Вы хотите поговорить о Ходасевиче? Но у меня нет материалов. Вообще мне не нравится такая манера разговора: «Вам говорит Ходасевич...» Если Вам интересно мое мнение о Ходасевиче, так и спрашивайте.
— Любое стихотворение Ходасевича не увлечет Вас? Давайте я прочту другое стихотворение...
— Мне это не интересно.
— Давайте тогда пересчитаем Ваших баранов... Вы были знакомы с Мандельштамом, с его женой, с Ахматовой, с Цветаевой?
— Да.
— Вы столько раз рассказывали об этом в газетах, друзьям и так далее. Осталось ли что-нибудь, что Вы не выскребли?
— Я все написал.
— Кого еще из фантастических людей Вы можете вспомнить?
— Я немного был знаком с Волошиным, был у него в гостях. Знаком был с Андреем Белым. Но с этими общался очень мало.
— А кого-нибудь не из знаменитых, но гениальных людей Вы знали?
— Гениальных больше не знал. И, кстати, у нас обесценено понятие «гений» и «великий». Мы называем начало века «Серебряный век» потому, что начиная с последних лет XX века по 21 год, до смерти Блока и расстрела Гумилева — в это время у нас было несколько великих поэтов. Почему же «Серебряный»? Гении остались в XX веке, в Золотом веке — Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Гениев в XX веке не было. Но были великие, в том числе Ходасевич.
— Но у Вас нет материалов, чтобы беседовать о нем...
— Вы знаете, какую роль сыграл его дед?
— В чем?
— В антисемитизме. Отец Ходасевича был художник-фотограф.
— А Вам не скучно рассказывать?
— Нет, я готов Вам рассказать. Хотя меня уже не интересует наша беседа, но Вы ко мне пришли — значит Вам что-то от меня нужно. Вы пришли ко мне с такой стороны, что я согласился с Вами говорить.
— У Вас высокомерие прямо Набоковское. Вы что-нибудь знаете о надменности Набокова?
— Давайте не тратить времени. Слушайте и записывайте. Я расскажу интересное еврейской аудитории. Отец Ходасевича был поляк, мать — еврейка. Отец его матери, Брафман, опубликовал книгу «Вильнюсский кагал». С этого момента началось литературное антисемитское движение в нашей прессе. Но сам Ходасевич, наоборот,
202
был юдофил. Он изумительно перевел классиков еврейской поэзии. Иврита он не знал, переводил по хорошо сделанным подстрочникам. Он переводил великих еврейских поэтов — Бялика, Черняховского, Шнеура. Особенно ему удался Саул Черняховский. Я видел в Израиле улицы, названные именами этих поэтов. Расскажу немного о Черняховском. Он родился и жил в Херсонской губернии, где жили евреи-земледельцы. Поэтому вся его поэзия еврейского земледельчества. Это очень оригинально.
— Скажите, об этом нет в Еврейской энциклопедии? Или еще где-то?
— Давайте прекратим этот разговор, если Вам неинтересно.
— Просто я подумал, что можно было бы сделать сноску для читателя газеты. Лучше скажите мне, Вы ведь помните у Фета: «Не жизнь жаль, а жаль того огня...», — что Вам жаль оставить на земле, уходя?
— Я не готов ответить на этот вопрос.
— Кто из перечисленных Вами великих поэтов относился к Вам всего нежнее?
— Ахматова.
— Как именно выражалась эта нежность? Можно подробнее...
— Я так понял Ваш вопрос, что Вас интересует, кто был ко мне добрее. С Цветаевой я провел один день и больше ее не видел. К Осипу Эмильевичу я пришел в восемнадцать лет. Был знаком с ним долго, вплоть до его ареста и после его возвращения. Но я был очень молод. Не все понимал, что он говорил. С Ахматовой я познакомился поздно, мне было уже лет сорок. Хотя она снисходительно относилась к моей работе, хвалила ее, но ее отношение было отношением к взрослому человеку, отцу детей.
— Вы смотрите телевизор?
— Да.
— Вы, наверное, ловили себя на том, что Вам трудно вспомнить, что Вы видели вчера? А, может, воспоминания о великих поэтах такие же затуманенные?
— Нет. Я иногда мысленно с ними беседую.
— Есть ли среди теперешних Ваших знакомых не менее достойные собеседники?
— Я очень болен и мало бываю на людях. Есть поэты, которых я ценю. Некоторые из них являются моими собеседниками. У нас есть двадцать-двадцать пять одаренных поэтов. Особенно ценю Чухонцева, Кублановского и Рейна. С ними беседовать мне очень приятно. Еще есть здесь, в Переделкине, замечательный мой знакомый огромных разнообразных знаний. Ученый, лингвист, поэт. Это Вячеслав Иванов. Я знаю его с детства. Его называют Кома.
— Жена его также Вам симпатична?
— Да, я хорошо знал ее маму — Орлову.
— Это все старые знакомые. А допускаете Вы, что завтра с кем-то впервые увидитесь и почувствуете, что человек Вам сделался дорог или интересен.
— Да.
— Если бы на Вас свалились, предположим, двадцать тысяч долларов, вы бы разделили их между двадцатью известными Вам поэтами?
— Я разделил бы между детьми.
— Поэты не стоят того или дети дороже?
— Не стоят.
203
— Какими удовольствиями Вы дорожите? Вот Вы просыпаетесь — деревья солнце, ничего не болит — продолжите этот ряд...
— Самое большое удовольствие, когда я что-то напишу.
— И когда Вы последний раз что-то написали?
— Месяц назад.
— Можете пересказать, о чем Ваше последнее стихотворение?
—Могу назвать тему. Я задумался о Каине. Что за существо это было и постарался в стихах передать это. Человек-братоубийца. Бывает, убивают матерей. В нашей уголовной хронике то и дело рассказывается, как пьяная женщина убивает мать или детей... Я писал как бы и об этом.
— Существование добродетелей обусловлено наличием пороков, по мнению Толстого. Вы можете это подтвердить на примере Ахматовой, Цветаевой я Мандельштама?
— Мне трудно ответить потому, что я перед ними преклонялся. Я был мальчик когда с ними познакомился. И слишком понимал и понимаю, что мои стихи по сравнению с их творчеством — ничто.
— Но Вашим теперешним местом в русской поэзии Вы довольны?
— Нет, я не сумел сделать всего, что хотел.
— Вы в себе ощущали силы, которые не реализовали?
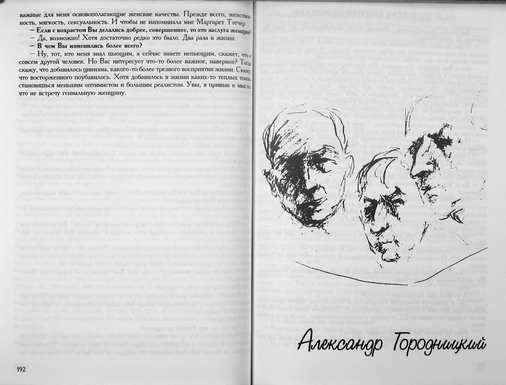
Александр Городницкий
РАДИ БОГА, ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ЭПИГРАФ
— Вы седой морщинистый, знавший толпу знаменитостей, не пора Вам садиться за воспоминания?
— Я уже написал воспоминания около четырех лет назад. И их переиздавали потому что они, неожиданно для меня, вызвали интерес. Я получил очень много писем, откликов на них, подчас совершенно противоположных.
— Как я Вам завидую. Во-первых, Вы уже издали и так серьезно относитесь к своей книге, а я только собираюсь издать сборник интервью, и во-вторых, мне это так скучно. В-третьих, когда бы не было необходимости в заработке я бы не завидовал Вам. Вы поймете, отчего мне скучно, если я спрошу Вашего разрешения... Позвольте мне эпиграфом к этой книге взять Вашу песню об атлантах, держащих на себе небо российской культуры?
— Я совершенно не воспринимаю всерьез Ваше заявление, будто Вы скучая собираетесь издавать такую замечательную книгу, не верю Вашему сообщению, что Вы стремитесь прежде всего заработать. Также я не согласен с Вашей исходной посылкой об истуканах. Но ради Бога, если Вам нужен эпиграф...
— Надеюсь, это крошечная неприятность Вашей жизни, знакомство со мной, лгуном и злодеем. Расскажите мне теперь о самых крупных своих катастрофах?
— Неожиданный вопрос, не берусь сразу что-то вспомнить. Наверное, смерть близких людей. Катастрофой стала смерть моего отца, хотя я любил больше мать, да и смерть отца была ожиданной — он умирал от рака легких. Я понял, что умерла часть меня, более значительная, чем осталось.
— Если Ваша жена исчезнет, что с Вами будет в Вы опуститесь или снова женитесь?
— Я все время боюсь, когда вообще что-то или кто-то исчезает, боюсь даже, когда что-то неожиданно появляется. И представлять этого не хочу и не могу, потому что для меня это означает прекращение жизни. Но чтобы как-то ответить на Ваш вопрос — признаю, что я писал скверные стишки раньше и если что-то стал писать приличное, это благодаря жене.
— Вы не замечали, что умершие люди становятся для нас как бы более живыми?
— Нет. Смысл потери отца заключается в том, что я понял, что так и не узнал, каким он был. И теперь не узнаю. Это в значительной степени относится и к другим людям.
— У Вас столько песен, пронизанных историей земли, а советские полководцы Вас когда-нибудь интересовали?
— Нет.
— А полководцы прошедших столетий?
— Да, я увлекался почему-то Ганнибалом и Бонапартом. Меня привлекали полководцы, которые в конце-концов проигрывали. Они были такие гениальные, и все же в конце проигрывали. С Суворовым я примирился потому, что он умер в такой опале.
— Кого из поэтов Вы любили сильнее других?
— Мы выбираем поэтов по уровню своей образованности. Для меня это был Александр Блок.
194
— Вспомните какую-нибудь строчку из Блока, любимую.
— «Дом, улица, фонарь, аптека...» Да, и еще я не назвал Киплинга. Начитавшись стихов Киплинга, я пошел в Горный институт, выбрал эту профессию. Да и какую карьеру мог выбрать в пятидесятые годы еврейский мальчик, когда еще витал ужас «космополитизма»...
— Вы часто не спали ночью, оттого, что работали?
— Я уже не помню.
— Зато Вы помните Лидию Чуковскую, Слуцкого, Самойлова.
—Я считаю, что все перечисленные Вами люди были счастливы, и это было преимуществом перед другими людьми. Они — те из немногих людей, которые формировали общественное сознание в то смутное время. Очень многим в себе я обязан этим людям. Лидия Чуковская была еще известна и тем, что в ее присутствии нельзя было поступить нечестно, она была нравственным мерилом.
— Какую часть своих мыслей Вы успели обнародовать? Какая часть остается невыраженной?
— Думаю, что ничего не осталось.
— А что-нибудь прячется за Вашими стихами?
— Мои стихи были очень плохие. И в них, и за ними стояло плохое качество.
— Когда Вы умирать будете, оттого что Аня окажется рядом, Вам легче будет?
— Да, конечно, мне хотелось бы, чтобы любимые люди ушли позже меня. Чтобы мир остался нетронутым.
— Как Вы чувствуете, какое примерно число женщин в мире, с которыми Вы могли бы жить?
— Думаю, что ни с одной.
— Когда Вы наконец прославились, Вам была слава уже не нужна, было уже поздно, как Довлатову?
— Я не считаю себя знаменитым.
— Вам вольготнее жить при капитализме?
— Мы не живем при капитализме, так же, как не жили при социализме. Мы жили в идиотской авторитарной системе, которая подломилась. Вот в Швеции социализм, Миттеран во Франции построил социализм... Я был рабом, не ощущая этого, и в этом самое страшное. Мы считали себя безумно богатыми. Нас воспитали в непонимании отсутствия свободы.
— У Вас есть дети?
— У меня есть сын от первого брака, который живет в Иерусалиме. Он очень верующий человек. Я много лет с ним воевал, считал, что он ничего не понимает, что я теряю сына. Теперь я понял, что все иначе. И еще я хочу поправиться о Галиче. Галич жил благополучно, но в нем вдруг проснулся замечательный поэт и борец в самое опасное время. Я не думаю, что он продолжал быть счастливым человеком. Мне очень жаль его трагического ухода. Это имя, к сожалению, практически уже ушло.
— А с Высоцким Вы были знакомы?
— Высоцкий — это совсем другое дело. Театр Высоцкого пошире, чем театр Галича. Но то и другое — театры. Еще — Окуджава.
— Кто из них самый остроумный человек?
195
— Самый остроумный был Самойлов. Он был человеком очень легким, он написал целую шутливую книгу в стихах, совершенно блестящую. Вспоминаю такой случай. Напротив него жил знаменитый скрипач Пикайзен. Самойлов мне говорит: «Представляешь, Саша, приходит он после концерта домой. Я думаю, вот, сейчас стопочку рванет, расслабится. А он ест булочку, запивает кефиром и еще сам себе на скрипочке играет перед сном. Ему мало! Да не Пикайзен он, а просто Айзенпик!»
— Придумайте свое сравнение, пожалуйста. Мне кажется, что как ветераны надевают ордена в праздник, и так Вы — вспоминаете о дружбе с великими людьми...
— Думаю, что нет. Я вспоминаю не для того, чтобы похвастаться. Это похоже скорее на ностальгию. Как говаривала Раневская: «Я такая старая, что еще помню порядочных людей».
— Кто из них мог бы вспомнить о дружбе с Вами в разговоре с корреспондентом?
— Самойлов я думаю, Эйдельман.
— А Вы ни о ком еще мне толком не рассказали — ни о Самойлове, ни об Эйдельмане, Чуковской.
— Я слишком тепло к ним отношусь. И потом, у меня есть книга воспоминаний...
— Понятно. Берите в библиотеке и читайте. Давайте тогда попробуем поговорить о живых. Может, получится... Возглавлять колонну, конечно, нужно Битову, президенту Пен-Клуба.
— Дело в том, что Андерй Битов для меня — ностальгия по молодости. Да он гораздо более значителен, чем его современники. Когда мы учились в Горном институте (он моложе меня), он пришел вместе с поэтом, потом художником, трагической фигурой — Виньковецким. Я стал понимать на живом примере, что существует литературная ткань прозы, существуют писатели-стилисты (Набокова еще не читали). Битов для нас, моего поколения, был первым серьезным писателем.
— Вы никогда не хотели быть еще и литературоведом?
— Нет. Просто я рассказываю только то, что ностальгически помню про свою юность и своих друзей. Что же касается «Пушкинского дома», то это открытие в российской литературе. Раннего Битова я знал хорошо и любил его. Позднего Битова знаю меньше.
— Как выглядит Битов, как смеется? Он выше Вас ростом? Жизнерадостнее?
— Он живет неподалеку. У него очень трудная судьба. Он очень тяжело болел и вряд ли жизнь его баловала. Сейчас он очень знаменит, но слава никогда еще не делала людей счастливыми. Так что я хотел бы пожелать ему здоровья и удачи в том, что он делает.
— Когда Вы говорите, — то кто из Вас лезет или виден другим отчетливее — поэт или ученый?
— Это не так. Я дилетант и там, и тут. Стараясь успеть всюду, я не преуспел по-настоящему ни в чем. Я не переоцениваю себя.
— Но любите себя, прощаете себе раздвоенность, поощряете ее даже?
— Да, безусловно. Потому что мне всегда кажется, что в соседней комнате происходит самое интересное.
— И машину Вы, конечно, умеете водить?
— Умею, но плохо.
196
— Опять плохо... Что-нибудь Вы научились делать хорошо? Где, когда, в какой стихии Вы живете хорошо?
— Я с завистью вспоминаю фразу, сказанную Хемингуэем о Фицжеральде: «Он ничего не умеет делать хорошо. Он не умеет хорошо водить машину, стрелять из ружья, любить женщину, быть счастливым. Он умеет только хорошо писать рассказы. Вы считаете, этого мало?» Если бы я написал хотя бы одну такую песню, я бы чувствовал себя счастливым. Но этого я тоже не умею. Так что я не могу сказать, что я что-то умею. Но, может быть, оценки — не моя задача? Пусть это делают другие...
— Может, Ваш приятель Юра Щекочихин?
— Он рыцарь без страха и упрека. Я горжусь тем, что мы с ним знакомы. Он человек пьющий и несгибаемый.
— Ничего не получается. Давайте попытаем счастье на женщинах. Ваша коллега Долина Вероника...
— Из следующего поколения авторов песен Вероника мне наиболее интересна. Сейчас она уже мать многих детей, поменяла несколько мужей. И мне нравится, как она это делает, потому что всегда остается хозяйкой положения. У нее мужской, бойцовский характер. Она говорит много глупостей на сцене и, может быть, в интервью. И гораздо умнее, чем тот имидж, который создает. Я считаю ее талантливым поэтом. У нее есть несколько настоящих песен, а это очень много. Хотя много есть песен, написанных в соответствии с имиджем («Мужчина — это совсем другое животное»), но это уже жеманство. Манерность может быть манерой искусства. Потому что если такая талантливейшая поэтесса, как Белла Ахмадуллина может сделать манерность основой своей прекрасной поэзии, то почему нельзя этого сделать в авторской песне? Я очень симпатизирую Веронике Долиной и считаю, что она может еще много хороших песен написать.
— Есть чертеж, есть потом здание. Есть ноты, а потом музыка. Скажите, как соотносится (помните, у Чехова: «Даже когда птица ходит, видно, что она может летать...») — Вот Вы что-то знаете, о художнике, Вы читали его книгу, слышали музыку или видели картину и потом видите этого человека и накладывается ли...
— Очень часто не накладывается. Это очень точное наблюдение. Я не согласен с чеховским заявлением. У него другое мировоззрение. Ему хорошо было говорить: «Если в первом действии ружье висит, то в третьем оно выстрелит». Да ничего подобного. Мы знаем с Вами тысячу примеров, когда ружье висит, да до него не дотянуться, и трагедия кончается, а ружье остается висеть на стене. Это концепция человека логического, начала века, который верит в разумность всего окружающего. Да, если птица летает, то может быть и видно, как она стремительна в полете. Но самая красивая птица, которую я видел, летать вообще не умеет. Это страус эму. Поэтому я не считаю этот тезис справедливым.
— Итак, Вы видите себя как бы в трех ипостасях. Средний ученый, средний поэт, и, давайте добавим, средний муж. Когда будете читать это интервью в газете, Вы будете себя узнавать?
— Не знаю, меня это мало волнует. Главное, чтобы кто-то меня узнал в интервью из тех, кто знает меня хоть в одной ипостаси. Потом о терминах. Я не считаю, что может быть средний ученый. Может быть средний инженер или средний научный работник. Я не считаю себя ученым. Да, я доктор, профессор и действительный член
197
Российской Академии естественных наук. Но считаю себя научным работником. И среднего поэта не бывает. По сравнению с Пушкиным Батюшков — средний поэт, да? Либо — поэт, либо не поэт.
— Против Вашего утверждения, думаю, что дальше Вы заговорите как слабый средний или большой ученый. Давайте условимся, что музыка получается из нот, здание из чертежа, стихи из сора и так далее. А Вас я прошу ответить, решить чем я теперь занимаюсь — пытаюсь ли мелодию Вашего существования перевести в ноты или занят каким-то более плодотворным делом, ну, например, аранжирую музыку, которую в Вас слышу?
— Мне трудно что-то об этом сказать. В детстве я думал, что у меня звучный, хороший голос, а услышал его в записи и был разочарован. Точно также я ужасно не нравлюсь себе по телевизору. Чудовищно себе со стороны не нравиться. Так что какую бы задачу Вы не ставили себе...
— Вы любите, сочиняя песню, ввернуть какую-нибудь метафору?
—Метафору? Да. Вот недавно, всадил слова моего любимого Сенеки: «Если судно никуда не плывет, ни один ветер ему не попутный». Только не подумайте, что я продолжаю отвечать на Ваш предыдущий вопрос.
— А сами Вы часто людям задаете вопросы?
— Нет. Моя жена Анна не даст соврать, что я не люблю даже спрашивать на улице как проехать. Не люблю входить в контакты. Вот журналист из меня точно не получился бы.
— Вы поверхностный человек или глубокий и сложный?
— (Городницкий молчит, отвечает жена). Совсем не поверхностный. Очень глубокий.
— Тогда скажите несколько слов о бездонном Сарнове.
— Недавняя его передача о Багрицком. Он очень интересный, блестящий, тонкий ценитель литературы. Но лично я с ним не знаком.
— Думаю, что это знак, когда заговорила Ваша жена. Давайте вернемся к женщинам. Вот Наталья Иванова, услышав, что я иду к Вам, нагрузила меня приветами...
— Наташа Иванова — женщина с твердым, энергичным характером. Давным-давно, когда меня нигде не печатали, отовсюду гнали, она, тогда юная и прекрасная, напечатала мои стихи, отнеслась ко мне с вниманием. И я не могу относиться к ней объективно, я ее люблю. Она человек решительный, резковатый, но с точным вкусом. У нее недавно вышла прекрасная книга о Фазиле Искандере. Она видела весь мир, все страны, вошла в международную десятку или пятерку людей, которые все обсуждают... Что бы она ни делала, она не потеряет ни правоты, ни человеческой красоты. Она неплохо играет на фортепьяно, и однажды аккомпанировала мне на одном моем импровизированном концерте.
— Как Вы думаете, сколько человек Наташа Иванова могла бы прокормить
— Думаю, что немного. Она не похожа на человека, который способен что-то накопить. Я рад, что слава и успех достались именно этому человеку, который знает разные стороны жизни.
— Придумайте сравнение, на что похожа Ваша память? На кучу чего?
— На кучу обломанных конструкций, из которых уже ничего не создашь. Конструкции города, который ты любил. Конструкции мира.
196
— Что в мире Вам было интереснее, чем люди?
— Пожалуй, ничего.
— Кто из Ваших знакомых в этой узости от Вас отличался?
— Я не знал таких людей. Видимо, это жесткие политики, ученые, полководцы... Те, для кого люди были мусором, строительным материалом. Я дважды встречался с великим философом Мерабом Мамардашвили. Думаю, что посчитаюсь с Вами колкостью, если скажу, что его интересовали прежде всего остального — люди.
— А кого Вы назовете великим прозаиком XX века?
— Не берусь определять, кто великий или невеликий. Но более близок мне, как я уже говорил, Киплинг.
— Набоков, по вашему мнению, великий поэт?
— Он великий писатель. Его поэзию отдельно я не воспринимаю.
— Есть, по-вашему мнению, загадочные вещи на свете?
— Безусловно, есть. Я верю в магию чисел, в то, что существовала Атлантида. Верю еще и в астральное ее существование. Важной научной посылкой я считаю теорию катастроф, которую, кажется, поддерживал один Кювье. В дискретность цивилизаций тоже верю. Я жалею, что уйду из жизни и не узнаю разгадки всего этого. Но я боюсь и не люблю предсказаний. Веря во многое, я не желаю знать своего будущего. Того, когда и как умру.
— Ваше жизнелюбие напоминает мне бодрость Юры Роста. Что Вы думаете о нем?
— Юра Рост — замечательный журналист. Он плавал на кораблях, спускался на дно океана, как и я, что сближает. Человек бесстрашный, всегда попадает в странные ситуации. Обладает замечательной интуицией в науке, а это большая редкость для журналиста. Человек решительный, немногословный, порядочный.
— От Вашего жизнелюбия у меня рябит в уме. Но кого-то из своих друзей Вы любите сильнее других?
— Вопрос из разряда: «Кого Вы любите больше — маму или папу?» Люблю по-разному. Очено любил Натана Эйдельмана, которого нет теперь с нами.
— Ваше мнение о Розенбауме, которого я хоть и наугад, но смело включаю в список Ваших друзей?
— Он один из самых ярких наших эстрадных артистов и, как говорит Окуджава, «выступальщиков». Он человек большого сценического обаяния. Хороший голос, прекрасные музыкальные данные. Его жанровые стилизации очень незаурядны, он человек очень одаренный.
— Когда Вы в последний раз расставались с женой, то насколько?
— На две недели, когда уезжал в Германию.
— А что Вам вспоминалось, когда Вы думали о ней?
— Не берусь конкретизировать. Как говорит Жириновский, «однозначно» целиком.
— Ну и как в финале не поговорить о Фазиле Искандере...
— У нас очень странно смешались понятия национальности и культуры. По-видимому, национальность человека — это его культура, его язык. Искандер — прежде всего русский писатель. Возможно, только произойдя от абхазки и перса, можно с такой остротой воспринимать русский язык. Видимо, интересна судьба русского языка, который переваривает в своем горниле авторов разного происхож-
199
дения, делая их замечательными поэтами, прозаиками. Вообще новые интересные открытая нас ждут на стыке наук, культур, языков. Фазиль Искандер — интересный пример того, как человек с совершенно другими генетическими корнями становится органично русским писателем по пластике, по стилю. Но что самое удивительное в Фазиле, его улыбка. Он же не сатирик. Но его легкий юмор страшнее иной сатиры, Я прочел одну фразу из «Сандро из Чагема», напечатанного в цензурном виде еще до перестройки, и ужаснулся — как же могли такое пропустить! Совершенно крамольные вещи. У Фазиля два лица. Он пишет чудесные стихи. Без улыбки отстраненно-трагически. Две интересные ипостаси одного художника.
— И на прощанье что-нибудь о Губермане. Мне показалось, что Вы с ннм слегка перемешались.
— Мне трудно говорить о Губермане, потому что это один из самых близких моих друзей. Он человек сдержанный, взвешенный, но не знаю в такой ли степени, как я.
200

Семен Липкин
ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ЕЩЕ ГОД Я СОГЛАСЕН
— Вам жалко, что оборвалось пение?
— Мне жалко, что я уже забыл, пока слушал Вашего кантора, зачем Вы пришли
— Позвольте мне, как фокуснику, второй вопрос вытащить из стихотворения Ходасевича: «Входя ко мне, неси мечту // Иль дьявольскую красоту, // Иль Бога // Если сам ты Божий. // А маленькую доброту, // Как шляпу, оставляй в прихожей». Чем Вас может обрадовать гость? Я, например?
— Я не подготовлен к таким ответам. Вы хотите поговорить о Ходасевиче? Но у меня нет материалов. Вообще мне не нравится такая манера разговора: «Вам говорит Ходасевич...» Если Вам интересно мое мнение о Ходасевиче, так и спрашивайте.
— Любое стихотворение Ходасевича не увлечет Вас? Давайте я прочту другое стихотворение...
— Мне это не интересно.
— Давайте тогда пересчитаем Ваших баранов... Вы были знакомы с Мандельштамом, с его женой, с Ахматовой, с Цветаевой?
— Да.
— Вы столько раз рассказывали об этом в газетах, друзьям и так далее. Осталось ли что-нибудь, что Вы не выскребли?
— Я все написал.
— Кого еще из фантастических людей Вы можете вспомнить?
— Я немного был знаком с Волошиным, был у него в гостях. Знаком был с Андреем Белым. Но с этими общался очень мало.
— А кого-нибудь не из знаменитых, но гениальных людей Вы знали?
— Гениальных больше не знал. И, кстати, у нас обесценено понятие «гений» и «великий». Мы называем начало века «Серебряный век» потому, что начиная с последних лет XX века по 21 год, до смерти Блока и расстрела Гумилева — в это время у нас было несколько великих поэтов. Почему же «Серебряный»? Гении остались в XX веке, в Золотом веке — Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Гениев в XX веке не было. Но были великие, в том числе Ходасевич.
— Но у Вас нет материалов, чтобы беседовать о нем...
— Вы знаете, какую роль сыграл его дед?
— В чем?
— В антисемитизме. Отец Ходасевича был художник-фотограф.
— А Вам не скучно рассказывать?
— Нет, я готов Вам рассказать. Хотя меня уже не интересует наша беседа, но Вы ко мне пришли — значит Вам что-то от меня нужно. Вы пришли ко мне с такой стороны, что я согласился с Вами говорить.
— У Вас высокомерие прямо Набоковское. Вы что-нибудь знаете о надменности Набокова?
— Давайте не тратить времени. Слушайте и записывайте. Я расскажу интересное еврейской аудитории. Отец Ходасевича был поляк, мать — еврейка. Отец его матери, Брафман, опубликовал книгу «Вильнюсский кагал». С этого момента началось литературное антисемитское движение в нашей прессе. Но сам Ходасевич, наоборот,
202
был юдофил. Он изумительно перевел классиков еврейской поэзии. Иврита он не знал, переводил по хорошо сделанным подстрочникам. Он переводил великих еврейских поэтов — Бялика, Черняховского, Шнеура. Особенно ему удался Саул Черняховский. Я видел в Израиле улицы, названные именами этих поэтов. Расскажу немного о Черняховском. Он родился и жил в Херсонской губернии, где жили евреи-земледельцы. Поэтому вся его поэзия еврейского земледельчества. Это очень оригинально.
— Скажите, об этом нет в Еврейской энциклопедии? Или еще где-то?
— Давайте прекратим этот разговор, если Вам неинтересно.
— Просто я подумал, что можно было бы сделать сноску для читателя газеты. Лучше скажите мне, Вы ведь помните у Фета: «Не жизнь жаль, а жаль того огня...», — что Вам жаль оставить на земле, уходя?
— Я не готов ответить на этот вопрос.
— Кто из перечисленных Вами великих поэтов относился к Вам всего нежнее?
— Ахматова.
— Как именно выражалась эта нежность? Можно подробнее...
— Я так понял Ваш вопрос, что Вас интересует, кто был ко мне добрее. С Цветаевой я провел один день и больше ее не видел. К Осипу Эмильевичу я пришел в восемнадцать лет. Был знаком с ним долго, вплоть до его ареста и после его возвращения. Но я был очень молод. Не все понимал, что он говорил. С Ахматовой я познакомился поздно, мне было уже лет сорок. Хотя она снисходительно относилась к моей работе, хвалила ее, но ее отношение было отношением к взрослому человеку, отцу детей.
— Вы смотрите телевизор?
— Да.
— Вы, наверное, ловили себя на том, что Вам трудно вспомнить, что Вы видели вчера? А, может, воспоминания о великих поэтах такие же затуманенные?
— Нет. Я иногда мысленно с ними беседую.
— Есть ли среди теперешних Ваших знакомых не менее достойные собеседники?
— Я очень болен и мало бываю на людях. Есть поэты, которых я ценю. Некоторые из них являются моими собеседниками. У нас есть двадцать-двадцать пять одаренных поэтов. Особенно ценю Чухонцева, Кублановского и Рейна. С ними беседовать мне очень приятно. Еще есть здесь, в Переделкине, замечательный мой знакомый огромных разнообразных знаний. Ученый, лингвист, поэт. Это Вячеслав Иванов. Я знаю его с детства. Его называют Кома.
— Жена его также Вам симпатична?
— Да, я хорошо знал ее маму — Орлову.
— Это все старые знакомые. А допускаете Вы, что завтра с кем-то впервые увидитесь и почувствуете, что человек Вам сделался дорог или интересен.
— Да.
— Если бы на Вас свалились, предположим, двадцать тысяч долларов, вы бы разделили их между двадцатью известными Вам поэтами?
— Я разделил бы между детьми.
— Поэты не стоят того или дети дороже?
— Не стоят.
203
— Какими удовольствиями Вы дорожите? Вот Вы просыпаетесь — деревья солнце, ничего не болит — продолжите этот ряд...
— Самое большое удовольствие, когда я что-то напишу.
— И когда Вы последний раз что-то написали?
— Месяц назад.
— Можете пересказать, о чем Ваше последнее стихотворение?
—Могу назвать тему. Я задумался о Каине. Что за существо это было и постарался в стихах передать это. Человек-братоубийца. Бывает, убивают матерей. В нашей уголовной хронике то и дело рассказывается, как пьяная женщина убивает мать или детей... Я писал как бы и об этом.
— Существование добродетелей обусловлено наличием пороков, по мнению Толстого. Вы можете это подтвердить на примере Ахматовой, Цветаевой я Мандельштама?
— Мне трудно ответить потому, что я перед ними преклонялся. Я был мальчик когда с ними познакомился. И слишком понимал и понимаю, что мои стихи по сравнению с их творчеством — ничто.
— Но Вашим теперешним местом в русской поэзии Вы довольны?
— Нет, я не сумел сделать всего, что хотел.
— Вы в себе ощущали силы, которые не реализовали?
