Страница:
—Понимаете, я об этом не думал. Я думал о другом. Что я не выразил всего того, что чувствовал в разные годы своей жизни. В детстве, во время войны.
— Кто себя выразил полнее — Набоков или Пушкин?
—Пушкин-гений, а Набоков — великий писатель. Сравнить кого-либо с Пушкиным невозможно.
— А с кем можно его сравнить из западных поэтов, писателей?
—Шекспир, Гете.
— А из англичан?
— Шекспир — англичанин!
— Вспомните еще удовольствия теперешнего Вашего положения.
— Хорошая погода, сердце не болит, жена чувствует себя прилично, хорошую книгу прочел.
—Скажите, пожалуйста, самоубийство — грех? И что еще Вас отталкивает в этом поступке?
— Мне жаль самоубийц. Самому уйти из жизни добровольно... Жизнь — счастье, даже в гетто. Дал Бог жизнь — живи. Я не осуждаю, но мне жаль такого человека.
— А наслаждения Вам тоже известны?
—Чтение.
— Давно умерший писатель, книгу которого Вы держите в руках, не кажется ли Вам более живым для Вас, чем окружающие Вас в доме творчества люди, не похожи они на привидения?
— Это люди, рожденные отцом и матерью, они заслуживают уважения. Они не привидения.
— Но Вам интереснее читать книгу?
—Среди писателей, живущих здесь, разные люди есть —молодые и старые, талантливые и нет, глупые и умные.
204
— Если бы судьба поставила Вас перед выбором — спасти жизнь человека или музейные ценности, картинную галерею...
— Если бы такая проблема стояла передо мной, когда я был молод, силен и действительно мог кого-то спасти, я, конечно, спас бы человека.
— Самое большое удовольствие Вы испытываете от чтения какого прозаика?
— Я могу назвать нескольких, одного мне трудно выделить. Прежде всего, очень люблю прозу Пушкина и Лермонтова. Сам я написал две книги прозы и ориентировался на эту прозу. Очень люблю Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова.
— В XX столетии никто из прозаиков не приносит Вам такого удовольствия?
— Я люблю нескольких писателей XX века.
— У Вас много детей?
— Четверо.
— Вы кого-нибудь любите из них больше, чем других?
— Да.
— Можете рассказать, как получилось, что Ваш любимый ребенок более любим, чем другие?
— Я не хотел бы на этом останавливаться.
— Вы согласны, что дети нас не любят, даже когда хотят, не умеют любить родителей?
— Не согласен.
— Ваш любимый ребенок отвечает Вам взаимностью?
— Да.
— Как Вы заслужили эту любовь, Вы знаете, почему он Вас любит?
— Ко мне все дети относятся хорошо, я на них не в обиде. У нас с женой хорошие отношения с детьми. Со старшей дочерью были трудности, потому что я развелся с ее матерью и женился на другой. Один из сыновей мне наиболее близок.
— Как Вам необходима музыка? Вы не чувствуете, что умрете через несколько дней, если не будете слушать музыку?
—У меня порок — я не очень хорошо слушаю музыку. Только ту, которая навеяна детством. Люблю русский романс, еврейские народные песни, которые пела в детстве мне бабушка. У меня примитивный музыкальный вкус. Я очень люблю живопись и немного понимаю в ней.
— Последний вопрос. Чего Вам всегда недоставало в жизни?
— Моя жизнь, литературная жизнь, сложилась трудно. Я из Одессы приехал в Москву в 1929 году. Печататься было трудно, потому что были очень высокие требования. И вот меня, в мои семнадцать-восемнадцать лет сразу напечатали толстые журналы!
— Простите, я Вас перебью. Умоляю, ни в коем случае никакой биографии! Так чего Вам недоставало?
— В 1932 году, в год коллективизации меня перестали печатать и двадцать пять лет не печатали.
— То есть, если бы печатали, Вы бы обладали всем, что желаете?
— Не знаю, чего бы мне недоставало, если бы меня печатали...
— В чем причина Вашего жизнелюбия? Из какого источника Вы пьете?
— Сейчас, как раньше пели комсомольские песни, часто стихотворцы упоминают
205
слово «Бог». Я с детства религиозен. Мой отец был социал-демократ, меньшевик и в Бога не верил. Я поступил в хедер против его воли. С детства был верующим неизвестно почему. Вера в Бога — вот мой источник.
— Какое я на Вас впечатление произвел? Дайте мне характеристику.
— Впечатление необразованного человека.
— Постараюсь подучиться, а Вы будете здоровый, такой же веселый и умный — тогда снова поговорим через год?
— Ради того, чтобы прожить еще один год, согласен.
206
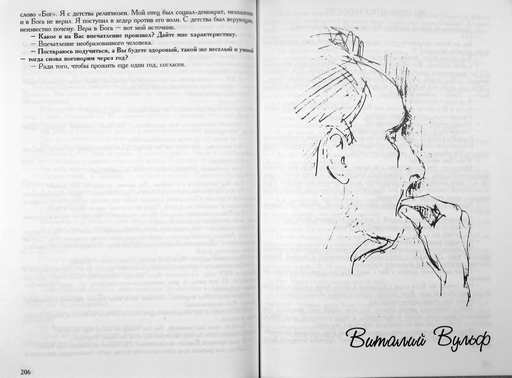
Виталий Вульф
ВЫ ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ
— Для громкого начала, скажите, Вы сами себе еще не надоели?
— Нет.
— Вы не будете возражать, если какой-нибудь великий поэт моими устами будет задавать вопросы?
— Как он мне может задавать вопросы?
— Сейчас объясню. Вот стихотворение «Гостю»: «Входя ко мне, неси мечту // Иль дьявольскую красоту» // Иль Бога, если сам ты Божий, // А маленькую доброту, // Как шляпу, оставляй в прихожей. // Здесь, на горошине Земли // Будь или ангел, или демон, // А человек? Иль не затем он, чтобы забыть могли»... Здесь с десяток вопросов...
— Я не увидел ни одного.
— Когда к Вам кто-то приходит, что Вы хотите, чтобы он принес с собой?
— Никогда не задаю себе такого вопроса.
— Может, чтобы он был естественным?
— Человек всегда должен быть естественным.
— Когда Вы к кому-то приходите, Вы что несете с собой, кроме естественности?
— Я только естественный. Никогда не занимаюсь таким расщеплением поступков, сознания. Не общаюсь с тем, кто мне неинтересен.
— А кто Вам интересен?
— Минуточку. Это просто прием, а не вопрос. Прием, не очень плодотворный для серьезной беседы. Человек должен быть естественным, хотя это самое трудное. По роду моих занятий мне приходится иметь дело с большим количеством людей, но мало людей приходит ко мне в дом. Я не очень подпускаю к себе. Я избирателен, наверное, кроме того, мне просто некогда...
— Кроме Вашего дома, что-нибудь объединяет людей, которых Вы пускаете к себе?
— Это просто круг близких друзей, с которыми я соединен много лет.
— Вы можете и теперь еще подружиться с кем-то?
— Да, почему бы и нет.
— Благодаря каким-то качествам человека?
— Это никогда нельзя определить. Контакты, которые возникают между людьми, невидимы миру. Возникают в силу самых разных ситуаций и условий. Бывают короткие дружбы, которые возникают и исчезают.
— Самая длительная дружба у Вас с кем? Или это слишком интимно, как религия?
— Нет, почему же. Есть люди, с которыми я дружу более тридцати лет. Галя Волчек, мой близкий друг. Леня Эрдман, директор театра «Современник».
— У них есть общие черты характера?
— Нет, в характерах ничего общего. Но есть общий круг интересов. Они занимаются искусством, живут в мире театра, и театр составляет средоточие их интересов. Поэтому мы как-то проходили вместе все эти годы .
— Осмелитесь Вы назвать имя человека, если он есть, который популярен, умен, весьма достойный, а Вы его не переносите? Дружбы которого Вы не искали?
208
— Надо прямо сказать, я вообще не искал чьей-то дружбы. Вопрос не вполне понятен. Среди моих друзей не может быть людей, мне несимпатичных. А среди людей, которые, также как и я занимаются искусством, но мне несимпатичны, такие, разумеется, есть.
— Представьтесь, кто Вы. Расскажите о себе.
— Не люблю говорить. Как-то очень трудно... Я театральный переводчик, эссеист, литератор, ведущий телевизионных программ, доктор наук, профессор...
— Искусствоведения?
— Нет, я доктор исторических наук. Много перевел в своей жизни пьес, более двадцати. В этом сезоне, наверное, в Москве идет пьес девять в моем переводе. Я написал довольно много больших книг, четыре крупные работы. Очень много статей за жизнь. Работаю на телевидении пять с половиной лет.
— А какой у Вас характер?
— Сложный.
— Кроме Волчек и Эрдмана — еще кто-нибудь Вам близок?
— Таких близких, как они, наверное, нет. Еще Наташа Завальнюк.
— Вы не знаете, что думает о Вас Волчек? Каким Вас видит?
— Никогда не спрашивал. Главное не то, что я думаю о них или что они обо мне думают. Главное, что я их люблю и они любят меня.
— Давайте попробуем катаньем, когда мытьем не получается. Что есть такого в Волчек, чего нет в Наташе?
— Нет, я не могу отвечать на такие вопросы. Они слишком абстрактные. Все люди разные, разные по характеру. Что я буду спрашивать: «Как ты ко мне относишься?» Если бы плохо относился, не дружил бы. Или наоборот. Я могу сказать одно, что такая постановка вопроса неточна и неверна.
— А я заключаю, что Вы очень скрытный человек. Ничем другим я не могу объяснить, что Вы, имея трех необыкновенных друзей, не умеете самому себе и мне заодно сказать, чем они отличаются?
— С какой стати, давая Вам интервью, я должен давать характеристики трем людям, которых Вы не знаете? Я их люблю очень, и этого достаточно.
— Почти убедили, но объясните вот что. Недавно я слышал, как Вы по телевидению прекрасно рассказывали о балерине Нине Тимофеевой.
— Об этом — пожалуйста. Я специально ездил в Израиль и делал передачу о ней. Я помню, как она танцевала. Я был большим поклонником ее таланта. Она — человек трагической судьбы. В 90 году она уехала — не в эмиграцию, а по контракту.
— Ваш рассказ будет напечатан?
— Нет. Книга — это совсем другой жанр.
— Вы записываете все то, что рассказываете?
— Нет, никогда. Потому что я, во-первых, написал. И потом устный жанр и письменный — разные вещи. Если человек выступает по телевидению и рисует чей-то портрет, то это устный рассказ, подчиненный законам устного жанра. А когда я буду писать, например, о Нине Тимофеевой, то это литературный портрет, который будет совершенно не похож на устный.
— А учиться мастерству нужно одинаково долго — и устного рассказа и письменного?
209
— Вопрос о мастерстве — тема совершенно другая.
— Вам не хочется тратить время на то, чтобы понять нечто Вам неизвестное
— Я делаю то, что умею и достаточно много умею. Но также я учусь новому как каждый человек, который профессионально занимается каким-то делом.
— Мне казалось, что это так легко, все артисты написали свои воспоминания.
— Это не значит, что они написали хорошо. Воспоминания — не всегда литературные произведения.
— Вы в ужас приходили от каких-нибудь воспоминаний? Ширвиндта или Гурченко?
— Ширвиндта не читал, а «Аплодисменты...» Гурченко очень хорошая книга.
— Значит, есть и хорошие, несмотря на то, что они берутся не за свое дело... Может, за них кто-то пишет?
— Я не знаю. Не уверен. Что касается Гурченко, то уверен, что нет. Я знаю Гурченко, и ее голос очень слышен в этих воспоминаних. Сейчас прочел замечательные воспоминания Козакова о его жизни в Израиле, напечатанные в «Знамени». Воспоминания называются «Третий звонок». Замечательно написано.
— А о своих книгах Вы то же самое можете сказать?
— Вы пришли ко мне, понятия не имея о моих книгах. Поэтому задаете мне такой бестактный вопрос.
— Простите. Вы пишете не о том же, о чем рассказываете?
— Нет. Вы должны понять эту разницу, объясняю ее Вам еще раз. Это удивительно, я беседую с человеком, который не знает ничего из моих литературных занятий. Прежде, чем придти ко мне, Вам нужно было прочитать хотя бы последнюю мою книгу — «Идолы, звезды, люди». Она вышла в издательстве «Искусство» в 1995 году. Тогда бы Вы не задавали мне такого вопроса. Эта книга — эссеистские портреты людей искусства — западных и наших. О половине из них я рассказывал на телевидении, но с литературным рассказом это не имеет ничего общего. Потому что на телевидении важна интонация, пластика, манера. Все — как ты сидишь, как смотришь, голосовая модуляция. А когда ты садишься за письменный стол, твои очерк подчинен другим законам.
— Каким законам сидения за столом Вы подчиняетесь?
— Законам литературного мастерства. Когда ты строишь литературный портрет человеческий, в котором ни твоя звуковая модуляция, ни заразительность какая-то не играет роли. Только слова...
— А в каком по счету браке, по-вашему мнению, супругам гарантирован успех. Сколько раз Вы были в браке?
—Один. Давно разведен, и жизнь моя довольно сложная в этом плане. Все зависит от понимания друг друга. И от внимания каждую данную секунду. Нельзя рассчитывать на то, что хорошо сегодня, значит, хорошо будет и завтра. Внимательность иссякает незаметно. Иногда не иссякает.
— Послушайте стихи: «Грубой жизнью оглушенный, // Нестерпимо уязвленный, // Опускаю веки я. И дремлю. // Чтоб легче минул, // Чтобы, как отлив отхлынул, // Шум земного бытия. // Лучше спать, чем слушать речи // Злобной жизни человечьей, // Малых правд пустую прю. // Все я знаю, все я вижу, // Лучше сном к себе приближу // Неизвестную зарю. // А уж если сны приснятся// То пускай в них повторятся // Детства давние года. // Снег на дворике
210
московском, // И в Петровско-Разумовском // Пар над зеркалом пруда.» Неизбежно Вы сталкиваетесь не только с талантливыми людьми. Они вторгаются в Вашу жизнь. Куда, ведь не в сон, Вы прячетесь от них? От меня, например?
— Я ни от кого не прячусь.
— То есть, Вас люди не мучат?
— А кто они?
— Люди, которых Вы видите на улице, в метро?
— Я не езжу в метро.
— Вы что, на самом деле совсем не видите обычных людей, не догадываетесь, что они злые, обездоленные, пьяные, несчастные?
— Почему Вы так решили? Откуда Вы знаете, кто обездолен, кто счастлив? Толпа очень разнообразна в любом городе, в любой стране.
—Опять спрошу, Вас никогда не отталкивали люди?
— Мало ли что бывало в жизни. Вы же спрашиваете про сегодняшний день. Я очень занят, и могу сказать одно — моя работа и сложившаяся жизнь привели к тому, что я достаточно независимый человек...
— Когда-то это называлось «башня из слоновой кости»...
— Причем здесь башня из слоновой кости? Это реальность. Я не завишу ни от кого и занимаюсь тем, чем хочу. И меня никто не заставляет ничего делать.
— То есть, других людей, кроме нескольких друзей, как бы и нет? Все остальные— это призраки, привидения, снующие вокруг?
— Олег, очень странный разговор... Почему призраки? Я отношусь к людям с добром...
— Но Вы же слишком заняты?
— Хорошо, каких людей Вы имеете в виду?
— Ну вот мимо Вас в грязных ботинках идет обездоленный человек...
— Да почему он обездоленный? Откуда Вы знаете? Неужели грязные ботинки — признак обездоленности? Что за бред?
— Да, Вы правы, ведь в метро Вы не ездите. А там у всех лица замученных людей...
— Да почему же все? В Израиле я видел полно измученных лиц... Ненавижу эти разговоры. Они вызывают только раздражение.
— Может, в самом деле «человек рожден для счастья, как птица для полета»...
—Если Вы хотите, чтобы я давал Вам интервью, задавайте мне конкретные вопросы.
— Вы когда-нибудь держали Ходасевича в руках?
— А Вы как думаете?
— Я думаю, что да. В восторге не были?
— Он очень большой поэт.
— А кто у Вас любимый поэт XX века?
— Марина Цветаева.
— Не вспомните две-три строчки?
— «Тоска по Родине — разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть...»
— А Вам все равно, где не быть одиноким?
— Нет, я люблю Москву, и больше нигде не хотел бы быть.
211
— Родина — это город? Слово «Москва» — это всё?
— Я не люблю таких общих вопросов. Я человек, проживший достаточно непростую жизнь перед тем, как пришел к той жизни, которой живу сегодня. Я много поездил по свету, поработал за границей. Довольно долго жил в Америке. Могу сказать, что без Москвы мне жизни нет. Хорошо я чувствую себя только в Москве. Все понимаю, переживаю много сложностей, никогда не было спокойного периода общей ситуации. И тем не менее, люблю Переделкино, этот дом. Это моя культура. мой язык. Хотя я свободно владею иностранным языком. Здесь мне все родное. Я все про это знаю, понимаю эту жизнь.
— Состав крови зависит от языка?
— Нет. Я еврей по национальности, но еврейским языком не владею. Русская культура — моя культура, самая близкая, я в ней вырос. Никогда не думал, какой я национальности, пока об этом не заговорили.
— «Пробочка над крепким йодом» // Как ты скоро перепрела, // Так вот и душа незримо жжет и разрушает тело.» Вы ведь себя изучили настолько, чтобы знать — Ваша душа тоже разрушает Ваше тело?
— Я не понимаю вопроса. Что значит себя изучать? Человек реализует себя работе. В деле. Мое счастье заключается в том, что я занимаюсь делом, которое люблю. Я человек достаточно самодостаточный, который реализовал себя в деде. Моя личность в этом. Это моя жизнь. Мою жизнь нельзя оторвать от того, что делаю. Как нельзя оторвать жизнь Гали Волчек от театра «Современник», или жизнь Вали Гафта и Лени Эрдмана от их дела.
— Это стихотворение Вы не понимаете или не принимаете?
— Это стихотворение написано Ходасевичем в 1921 году в сложную, кризисную для него пору...
— Для него или для России?
— Для Ходасевича.
— А может, он добросовестнее себя изучал, чем Вы?
— Это совсем другая жизнь. Почему Вы мне Ходасевича приводите в пример?
— Тогда была революция, сейчас война в Чечне...
— Ну и что? Всегда где-то идет война. Я что, должен идти, принимать участе в этой войне? Что за глупости Вы меня спрашиваете? Я не понимаю этого изучения. Мое изучение в деле. В том, что я пишу, говорю, рассказываю, делаю. Не задавайте мне глупых вопросов, Олег. Я этого не люблю. Это ерунда и я сейчас прекращу отвечать. Мне непонятна вот эта манера стихотворного вопроса. Первый раз я с этим столкнулся и, надеюсь, последний. Думаю, что это непродуктивно — опрокидывать стихи 20-х годов на 1996 год.
212
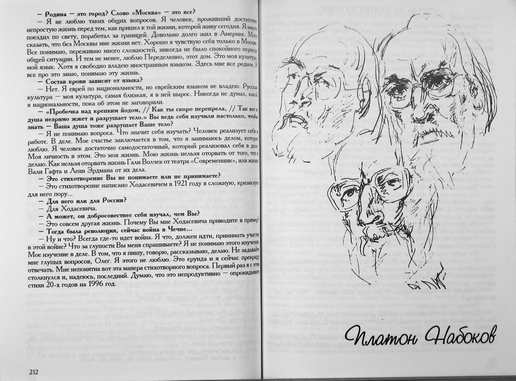
Платон Набоков
ОТКУДА ЖЕ ЭТИ ПЕСЬИ ЛИКИ
— Если бы давали орден тем, кто сидел в лагерях, Вы бы носили его?
— Никакого ордена никогда ни взять, ни носить не мог бы.
— Но Вы так охотно стали мне рассказывать о том, как сидели в лагерях. Зачем Вам это нужно?
— Очень просто. Во-первых, Вы еще не включили диктофон. И потом мой рассказ был замешан на юморе и это как визитная карточка, от которой нельзя отказаться.
— Как обжора объедается, поглощает то, что не нужно его желудку, так в человек слушает чужую речь, которая в большинстве случаев не перерабатываем мозгом, Вам так не кажется?
— Я думаю, когда люди беседуют, то каждый говорит сам для себя, чтобы понять себя самого.
— Вы до сих пор себя не изучили?
— Бог миловал.
— Как Вы думаете наш мозг — не самая ли совершенная часть человеческого организма?
— По-видимому, да. Видимо, с медицинской точки зрения тоже. Если человек близок к кончине или фиаско, то происходит мобилизация всех сил, и всякий узнает о себе, что он и кто он. Перед тем, как Берии объявили, что его сейчас арестуют, он писал на бумаге: «Тревога... тревога... тревога». Извините, что вспомнил имя ублюдка. Перед медициной все равны. Как и перед смертью...
— Скажите, в гробу Вы хотите лежать непременно с бородой?
— Вот борода мне надоела, в этом году сбрею.
— Воображайте дальше, не останавливайтесь, как Вы будете выглядеть?
— Не сказал бы, что мне все равно... Как святой, наверное. У всех покойников лицо — умиротворенное... Хотя, нет. Если вспомнить лагерных погибших, да и на войне тоже... А в миру — другое дело. Да и мастера придают покойникам нужное выражение, наводят марафет.
— Мне кажется, при наступлении смерти человек кроме того, что мучается, еще наблюдает какие-то интереснейшие вещи...
— Я считаю, что это будет совершенно с других позиций — с позиций, которые в этот мир не входят.
— Вы ждете момента смерти без страха, без возмущения?
— Без страха и без возмущения. В остальном я хотел бы скрыть свои ощущения, как потаенное, о чем не нужно разговаривать. Потому что те, кто туда заглядывают, — преступники. Разговаривать, рассуждать можно. Но кто занимается оккультными науками, пытается заглянуть в ощущения умирающего человека...
— Набоков это хорошо описал в рассказе «Соглядатай». Что же он преступник?
— Рассказ — это другое.
— Другое или нет, но понятно, что Вы не хотите об этом. Давайте о другом... Кто Вам первый объявил, доказал, что Вы — родственник Владимира Владимировича?
— Никто не доказывал. Это было семейное предание, тайное. Правда, речь шла большей частью о Владимире Дмитриевиче. Это он заслонил собой Милюкова, когда
214
в него стреляли... Он же нес скипетр при коронации Николая. Дело в том, что родовые предания оставались. Старшая мамина сестра Ольга перед смертью сказала мне, что Владимир Владимирович является моим родственником через отца. Я тогда работал на телевидении, уже отсидел. Стихи же я писал с четырнадцати лет. Еще до моего ареста в Литинституте в 1943 году я получил письмо из Австралии — у меня вышла книжка фронтовых стихов...
— Вот видите, Вы заговорили о себе, я Вас тут же перебиваю. И вообще, Вам обидно, что Вами интересуются, начали интересоваться лишь как далеким родственником гения?
— Вы правы — это несколько досадно. Многие путают, заблуждаются, называют даже братом... Я много езжу по стране, читаю свои стихи, вступаю в полемику, а я умею доказать, когда прав. И, конечно, при всех вопросах о родстве я отвечаю, что мне было бы приятнее, если спросили бы о моих стихах, моих мыслях. Но — дань предкам я не могу не отдать. Не могу не отдать дань великому дару.
— А другие Ваши любимые писатели в XX столетии?
— Кроме Набокова — Булгаков. Но, конечно, не его журналистская деятельность...
— Можете три слова сказать о «Мастере и Маргарите»?
— Это э-п-о-п-е-я любви и творчества. Право быть писателем — и право любить. Власть и искусство — бесконечная вражда.
— Скажите, а художник мучается больше, чем какой-нибудь пастух?
— Безусловно. Я пережил уже период, когда мне было страшно больно... Когда я думал, что надо с этим покончить. Такое было со мной по выходе из лагеря... Слава Богу, оборвалась веревка. А потом наступил период, когда я понял, что я должен просто любить — вот и все.
— Никак не могу поверить, что до сих пор Вам любопытны люди...
— Да, это так, но я сразу могу понять человека — интересен он мне или нет.
— Как Вы думаете, есть ли на планете замена Вашей жене?
— Наверное, могла бы быть замена, но у меня не было бы при знакомстве твердого ощущения — вот на этой женщине я женюсь, она будет матерью моих детей. Знаете, как я женился? Женат я уже почти тридцать лет. Шел я в Абхазии по берегу моря. Смотрю, лежит на берегу девушка. А я говорю: «Я на ней женюсь». И женился — через два месяца.
— Вы ощущаете на себе заботу Бога?
— И заботу, и преследования.
— Вы могли бы насчитать троих встреченных Вами в жизни самых замечательных людей?
— Искусство — живопись, музыка, поэзия — также существуют для заполнения какого-то пустого пространства, также живы. Я люблю поговорить с умным человеком, но поговорить с Пушкиным иногда интереснее.
— Правильно ли я заключаю из Вашей уклончивости, что композиторы, писатели — для Вас более живые собеседники?..
— По-видимому, это идет издалека, от древних. Это воспитание нашего миропонимания. В скифских курганах похоронены не только владыки, но и их боевые кони, ближайшие друзья, жены, рабы. Их убивали. Когда наши войска взорвали Днепрогэс, вода со страшной силой хлынула вниз. И обнажила многие захоронения...
215
Я приехал на Украину собирать народную молву о войне, о подпольных Движениях Меня послал Фадеев.
— А Вы хорошо помните Фадеева? Мне кажется, он был преступник, как Дзержинский?
— Вы очень точно сравнили. Я видел посмертную маску Дзержинского, она очень напоминала мне живого Фадеева. Может быть, я грешу против него. У меня был племянник, который был женат первым браком на дочери Фадеева. Я не знал об этом тогда. На следствии мне сказали, что обо мне Фадеев дал положительный отзыв... Но я не выполнил его заказ... Я узнал, что такое «Молодая Гвардия». Это все были страшные сказки. В лагере я встретил женщину, которую Фадеев облыжно назвал предательницей. Эта несчастная женщина столько вытерпела — в лагере ее били, едва не застрелили охранники за то, что она выдала Молодую Гвардию. Потом ее реабилитировали, она вышла на свободу, но в какой город она бы не приезжала, везде за ней следовала лживая молва.
— Знаете, я говорю с Вами и вот на что это похоже. Будто оператор снимает фрески в церкви, необыкновенной красоты, затем камера скользит в разрушение —в какие-то щели, горы мусора... Крыса прошмыгнет... Называемые Вами имена и события Вашей жизни связаны между собой, как иконы в церкви и крысы в ней...
— Да, пожалуй... И многие другие Набоковы подверглись преследованию и были уничтожены. Дядя Дмитрий исчез в огне войны, исчез дядя Павел, ушедший с Добровольческой Армией. Мой отец был крупным коммерсантом и занимал крупные должности. Его отец, Евдоким Иванович был главой Крестьянского банка (отделения Азово-Черноморского банка). Я видел дедушку единственный раз, когда мне было полтора года. Ох, можно еще долго вспоминать... Страдалица, неосуществившая свой талант, свой дар, моя мать Анастасия Евгеньевна Криштофович. Я не назвал еще имен своих друзей — назвал лишь имена родственников, да и то не всех Не могу не вспомнить своих лагерных друзей, которые меня спасали, боролись, участвовали в восстаниях, писали стихи, помогали ближним. Которые тоже говорили — кодла, падла, оно же быдло, и ничего с этой сволочью не сделаешь, они как были стукачами, так и останутся — в лагере или на свободе. Товий Николаевич Пешковский спас мне жизнь, первый, кто прочитал мне в лагере стихи Сирина. Доктор Георгий Беленький, судьба которого схожа с моей
