Страница:
«Тёмен, безобразен и пуст»
Здесь мы незаметно затронули один тонкий, но чрезвычайно важный вопрос: чем же традиционное ушу отличается от современного? Да и вообще – где конкретно коренится традиция ушу? Ответ на него для большинства современных западных авторов сводится к несложному определению: «Все, что не современное, то традиционное» или: «Традиционное – это то, что существовало раньше». Естественно, мы здесь намеренно несколько упрощаем картину, но суть остается той же: традиционность ушу понимается как явление чисто внешнее, несмотря на многочисленные ссылки на «эзотерическое ушу», на его мистицизм и т. д.
Примечательно, что в традиции господствует не форма действия, но его внутренний образ. Это справедливо и для ушу, поэтому традиция ушу – это ответ не столько на вопрос, что демонстрируется мастером ученику, но что передается за внешней формой и как передается. Для ушу, как и для многих явлений восточной культуры вообще, каналом ретрансляции традиций являлась именно эта духовная связь, «мастер – ученик», что выражалось классической формулой: «Передавая дух, преемствуем учение».
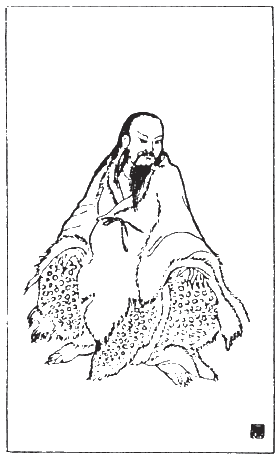 Легендарный император Фуси, создавший письменность, научивший людей готовить пищу и подаривший им приемы кулачного боя
Легендарный император Фуси, создавший письменность, научивший людей готовить пищу и подаривший им приемы кулачного боя
Интенсивность, чувственность, реальность традиции поддерживались именно представлениями об облике первоучителя, сам же этот образ ковался в мифах, тайных учениях и рассказах о «людях необычайных». И этот образ для последователя ушу не был чем-то далеким и расплывчатым, но обладал абсолютной конкретикой, материальностью, ибо всякий ученик осмыслял себя не иначе как преемником этого образа.
О каком образе, в сущности, идет речь? Образ учителя, традиционный для Китая, может показаться для европейца парадоксальным и необычным. Это не прекрасно сложенный атлет, не мудрец, говорящий четкими и меткими афоризмами, что предусматривается канонами греко-римской красоты. Это и не силач, внушающий ужас и поклонение своими подвигами. Облик легендарных мастеров – Бодхидхармы, Чжан Саньфэна – зачастую безобразен и отталкивающ. У одного – огромные уши, нечесаные волосы до земли, другой – хром и отвратителен на вид, третий – груб и невыдержан.
Естественно, не стоит считать, что каждый учитель ушу именно таков, реальность подсказывает нам скорее абсолютно противоположное. Речь идет об образе, о метафоре, о собирательном персонаже легенд. И этот образ учителя – уродливого и насмешливого – несомненно метафора традиции сакрального, создание народной культуры, реакция на вычурность и подчеркнутое благородство чиновников, на их самовозвеличивание. Народная культура отреагировала на культуру элитарную созданием некого «антисоциального» образа учителя, поклоняясь ему не меньше, чем богам и духам. Не случайно в деревенских школах ушу до сих пор рядом с изображениями духов очага устанавливается посвященный мастеру школы алтарь, на котором регулярно возжигаются благовония перед табличкой с его именем. Поклоняются даже не столько мастеру – но всей совокупности культуры ушу, которую он воплощает, равно как культ предков в Китае есть символ служения всей «высокой древности» и миру духов.
Мастер-учитель в китайской традиции противоположен обыденному порядку вещей, он «не таков», он обратен привычности. Это и выражается в подчеркнутом юродстве таких людей. Они противопо-ложны канону не только красоты, но и обучения. Наставник ушу учит не по писаным канонам и не объяснениями, но парадоксами (эту парадоксальность мы встречаем и в чань-буддизме) – непоколебимым молчанием, пронзительным криком заставляет ученика то рубить дрова вместо изучения ударов, то часами наблюдать за падающими каплями воды. Поведение мастера ушу сближалось с природной естественностью, спонтанностью действия «вне мысли».
Утрирование, гротеск мастера отнюдь не становились эпатажем социальной действительности. Скорее наоборот – четче обрисовывали те вещи, мимо которых равнодушно проходил интеллектуальный взор непосвященного. Здесь размывается привычный строй вещей, декристаллизуется обыденность, понятия нашего внешнего, вещного мира теряют устойчивость, твердость своих граней.
Мастер переводит жизнь, да и весь мир, в иную плоскость – плоскость духовного бытия. Само размывание границ обыденности, ее распластывание в пространстве и времени в конечном счете ведет наше сознание к сердцевине, к началу всех вещей, оно обращается в абсолютную пустоту – идеал философской и эстетической традиции Китая. Не случайно даос Чжуан-цзы говорил, что облик учителя «темен и пуст, хоть целый день гляди – не углядишь, слушай – не услышишь, дотрагивайся – не дотронешься», то есть фактически он повторяет все характерные черты Дао.
Не случайно мастеров сравнивали с темным, или сокровенным, зеркалом (сюаньцзин) – предметом ранней культовой практики даосов, которое представляло собой отполированную круглую металлическую пластину. Зеркало объективно отражает события, но в то же время само не меняется, вечно оставаясь самим собой. Более того, человек, глядя в зеркало, видит не само зеркало, а свое отражение в нем и не замечает зеркальной поверхности. Действительно, мастер – это «сокровенное зеркало», его характер, истинный облик потаены от окружающих, он находится в ином измерении и живет жизнью космической, вселенской.
Здесь проявляется особое отношение к акту творчества, характерное для Китая. Для западного художника, поэта, философа акт творчества может состояться лишь тогда, когда его произведение выставлено на публику, прочитано, увидено, оценено людьми. Для китайского же мастера важен не результат, но сам процесс, ибо это всегда путь самосовершенствования. Творческий акт свершается прежде всего для себя, для собственной души, и в нем мы всегда единимся с учителями высокой древности, когда наступает «духовная встреча» (шэньхуэй) поколений. Прекрасная каллиграфия, великолепный художественный свиток не обязательно должны быть выставлены напоказ. Не случайно блестящий эстет и художник V века Цзун Бинь смысл своего творчества видел не в создании прекрасных картин, а в том, что великие мужи древности возвращаются к жизни в его сознании, а сам он лишь оттачивает свой разум. «Что может быть более важного, чем оттачивать свой разум?»[38]
Только так – «оттачивать свой разум». В китайских текстах зачастую употребляется более точное слово – «полировать», обрабатывать, подобно полировке поверхности зеркала, дабы оно естественнее отражало реальность, причем не только реальность внешнюю, природно-телесную, но и внутреннюю, сокрытую. В этом и есть высший смысл творчества. Момент самовыражения должен быть ускользающе стремителен, и именно в этой мимолетности, неуловимости и преходящести состоит высшая ценность мастерства. Оно ускользает снаружи, но остается в вечности, в духовном пространстве бытия.
Мастер всегда следует Дао, он не предпринимает сам никаких действий, лишь проживает свою жизнь как некое высшее духовное предназначение, как вселенскую миссию – легко и свободно. Он не замутняет свой разум сомнениями о выборе пути, ибо Дао само предо-пределяет выбор вне размышлений. Надо лишь довериться этому пути, а фактически – поверить в чистоту собственных изначальных природных свойств. Таким образом он уравновешивает собственные природные свойства (син), данные ему от рождения, и некую человечески-мирскую универсальную жизненность, или судьбу (мин), – индивидуальное проявление его мастерства.
Иногда природные свойства понимались как внутреннее начало человека, его психика, физическое начало. Внутреннее предопределяется неизменным и неизбывным Дао, ушу же позволяет реализовать этот Срединный путь в жизни конкретного человека.
Мастерство в Китае, которое и было равносильно понятию «гунфу», – это восприятие мира, отличного от обыденного. Оно начинается с «прозрения собственной природы» (гуаньсин) благодаря «взиранию внутрь» (нэйгуань). Мир, распадающийся в сознании обычного человека на сотни несвязанных явлений, собирался воедино, и последователь прозревал «целостное Дао» (цюань Дао) и «достигал Единого». Мир приходил в свое изначальное единство, нерасчлененность, суть которого – глобальная Пустота. «Прозрение собственных природных свойств», «своего незагрязненного истинного лика», осознание себя как сверхбытийного, несубстанционального явления (не человека!), разлитого в природной естественности, приводит к ощущению собственной неотличимости от этой глобальной Пустоты. Приводя свой дух в покой и умиротворяя собственную природу, мастер сливается своим пустотным сознанием с Дао, и тогда каждое его движение обретает исключительную ценность, ибо оно и есть воплощение самого Дао, а не механический повтор чьих-то поучений. Лишь у мастера прием действительно исходит из сердца.
Эта распластанность человека в пространстве бытия, утрата личностного в обмен на вселенское и понималась в китайской эзотерике как «не-я» (уво), или «самозабытье» (ванво) – самоутрата в бесконечном потоке изменений. Ясно, что в этот момент перед нами предстает не человек, но воплощение «истины Небес». Так обучение ушу обращается в передачу мистической традиции.
Передача традиции в Китае есть всегда передача истины. Ложное не может передаваться, ибо является не Учением, но лишь его формальным исполнением.
Примечательно, что в традиции господствует не форма действия, но его внутренний образ. Это справедливо и для ушу, поэтому традиция ушу – это ответ не столько на вопрос, что демонстрируется мастером ученику, но что передается за внешней формой и как передается. Для ушу, как и для многих явлений восточной культуры вообще, каналом ретрансляции традиций являлась именно эта духовная связь, «мастер – ученик», что выражалось классической формулой: «Передавая дух, преемствуем учение».
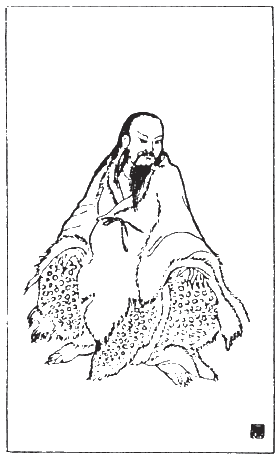
Интенсивность, чувственность, реальность традиции поддерживались именно представлениями об облике первоучителя, сам же этот образ ковался в мифах, тайных учениях и рассказах о «людях необычайных». И этот образ для последователя ушу не был чем-то далеким и расплывчатым, но обладал абсолютной конкретикой, материальностью, ибо всякий ученик осмыслял себя не иначе как преемником этого образа.
О каком образе, в сущности, идет речь? Образ учителя, традиционный для Китая, может показаться для европейца парадоксальным и необычным. Это не прекрасно сложенный атлет, не мудрец, говорящий четкими и меткими афоризмами, что предусматривается канонами греко-римской красоты. Это и не силач, внушающий ужас и поклонение своими подвигами. Облик легендарных мастеров – Бодхидхармы, Чжан Саньфэна – зачастую безобразен и отталкивающ. У одного – огромные уши, нечесаные волосы до земли, другой – хром и отвратителен на вид, третий – груб и невыдержан.
Естественно, не стоит считать, что каждый учитель ушу именно таков, реальность подсказывает нам скорее абсолютно противоположное. Речь идет об образе, о метафоре, о собирательном персонаже легенд. И этот образ учителя – уродливого и насмешливого – несомненно метафора традиции сакрального, создание народной культуры, реакция на вычурность и подчеркнутое благородство чиновников, на их самовозвеличивание. Народная культура отреагировала на культуру элитарную созданием некого «антисоциального» образа учителя, поклоняясь ему не меньше, чем богам и духам. Не случайно в деревенских школах ушу до сих пор рядом с изображениями духов очага устанавливается посвященный мастеру школы алтарь, на котором регулярно возжигаются благовония перед табличкой с его именем. Поклоняются даже не столько мастеру – но всей совокупности культуры ушу, которую он воплощает, равно как культ предков в Китае есть символ служения всей «высокой древности» и миру духов.
Мастер-учитель в китайской традиции противоположен обыденному порядку вещей, он «не таков», он обратен привычности. Это и выражается в подчеркнутом юродстве таких людей. Они противопо-ложны канону не только красоты, но и обучения. Наставник ушу учит не по писаным канонам и не объяснениями, но парадоксами (эту парадоксальность мы встречаем и в чань-буддизме) – непоколебимым молчанием, пронзительным криком заставляет ученика то рубить дрова вместо изучения ударов, то часами наблюдать за падающими каплями воды. Поведение мастера ушу сближалось с природной естественностью, спонтанностью действия «вне мысли».
Утрирование, гротеск мастера отнюдь не становились эпатажем социальной действительности. Скорее наоборот – четче обрисовывали те вещи, мимо которых равнодушно проходил интеллектуальный взор непосвященного. Здесь размывается привычный строй вещей, декристаллизуется обыденность, понятия нашего внешнего, вещного мира теряют устойчивость, твердость своих граней.
Мастер переводит жизнь, да и весь мир, в иную плоскость – плоскость духовного бытия. Само размывание границ обыденности, ее распластывание в пространстве и времени в конечном счете ведет наше сознание к сердцевине, к началу всех вещей, оно обращается в абсолютную пустоту – идеал философской и эстетической традиции Китая. Не случайно даос Чжуан-цзы говорил, что облик учителя «темен и пуст, хоть целый день гляди – не углядишь, слушай – не услышишь, дотрагивайся – не дотронешься», то есть фактически он повторяет все характерные черты Дао.
Не случайно мастеров сравнивали с темным, или сокровенным, зеркалом (сюаньцзин) – предметом ранней культовой практики даосов, которое представляло собой отполированную круглую металлическую пластину. Зеркало объективно отражает события, но в то же время само не меняется, вечно оставаясь самим собой. Более того, человек, глядя в зеркало, видит не само зеркало, а свое отражение в нем и не замечает зеркальной поверхности. Действительно, мастер – это «сокровенное зеркало», его характер, истинный облик потаены от окружающих, он находится в ином измерении и живет жизнью космической, вселенской.
Здесь проявляется особое отношение к акту творчества, характерное для Китая. Для западного художника, поэта, философа акт творчества может состояться лишь тогда, когда его произведение выставлено на публику, прочитано, увидено, оценено людьми. Для китайского же мастера важен не результат, но сам процесс, ибо это всегда путь самосовершенствования. Творческий акт свершается прежде всего для себя, для собственной души, и в нем мы всегда единимся с учителями высокой древности, когда наступает «духовная встреча» (шэньхуэй) поколений. Прекрасная каллиграфия, великолепный художественный свиток не обязательно должны быть выставлены напоказ. Не случайно блестящий эстет и художник V века Цзун Бинь смысл своего творчества видел не в создании прекрасных картин, а в том, что великие мужи древности возвращаются к жизни в его сознании, а сам он лишь оттачивает свой разум. «Что может быть более важного, чем оттачивать свой разум?»[38]
Только так – «оттачивать свой разум». В китайских текстах зачастую употребляется более точное слово – «полировать», обрабатывать, подобно полировке поверхности зеркала, дабы оно естественнее отражало реальность, причем не только реальность внешнюю, природно-телесную, но и внутреннюю, сокрытую. В этом и есть высший смысл творчества. Момент самовыражения должен быть ускользающе стремителен, и именно в этой мимолетности, неуловимости и преходящести состоит высшая ценность мастерства. Оно ускользает снаружи, но остается в вечности, в духовном пространстве бытия.
Мастер всегда следует Дао, он не предпринимает сам никаких действий, лишь проживает свою жизнь как некое высшее духовное предназначение, как вселенскую миссию – легко и свободно. Он не замутняет свой разум сомнениями о выборе пути, ибо Дао само предо-пределяет выбор вне размышлений. Надо лишь довериться этому пути, а фактически – поверить в чистоту собственных изначальных природных свойств. Таким образом он уравновешивает собственные природные свойства (син), данные ему от рождения, и некую человечески-мирскую универсальную жизненность, или судьбу (мин), – индивидуальное проявление его мастерства.
Иногда природные свойства понимались как внутреннее начало человека, его психика, физическое начало. Внутреннее предопределяется неизменным и неизбывным Дао, ушу же позволяет реализовать этот Срединный путь в жизни конкретного человека.
Мастерство в Китае, которое и было равносильно понятию «гунфу», – это восприятие мира, отличного от обыденного. Оно начинается с «прозрения собственной природы» (гуаньсин) благодаря «взиранию внутрь» (нэйгуань). Мир, распадающийся в сознании обычного человека на сотни несвязанных явлений, собирался воедино, и последователь прозревал «целостное Дао» (цюань Дао) и «достигал Единого». Мир приходил в свое изначальное единство, нерасчлененность, суть которого – глобальная Пустота. «Прозрение собственных природных свойств», «своего незагрязненного истинного лика», осознание себя как сверхбытийного, несубстанционального явления (не человека!), разлитого в природной естественности, приводит к ощущению собственной неотличимости от этой глобальной Пустоты. Приводя свой дух в покой и умиротворяя собственную природу, мастер сливается своим пустотным сознанием с Дао, и тогда каждое его движение обретает исключительную ценность, ибо оно и есть воплощение самого Дао, а не механический повтор чьих-то поучений. Лишь у мастера прием действительно исходит из сердца.
Эта распластанность человека в пространстве бытия, утрата личностного в обмен на вселенское и понималась в китайской эзотерике как «не-я» (уво), или «самозабытье» (ванво) – самоутрата в бесконечном потоке изменений. Ясно, что в этот момент перед нами предстает не человек, но воплощение «истины Небес». Так обучение ушу обращается в передачу мистической традиции.
Передача традиции в Китае есть всегда передача истины. Ложное не может передаваться, ибо является не Учением, но лишь его формальным исполнением.
В потоке вечного возвращения
Возвращение Абсолютного Учителя в каждом последующем поколении учеников – одно из самых мистических явлений в ушу, вещь, с трудом понимаемая обычным человеком, хотя это – стержень и нравственный идеал китайской традиции вообще. Как так: если человек умер, погибла его физическая оболочка, тело превратилось в прах – то что «вечно возвращается»? Душа? Дух? Людям, знакомым с языческой и христианской мистикой, это еще может показаться понятным, хотя некоторые возразят против самого факта возвращения каждой души. Но в ушу не об этом идет речь. Возвращается не просто абстрактный Учитель, возвращается его конкретная Личность. Возвращается не только в духе, не только в тождественности помысла и психотипа, но и в конкретных чертах лица.
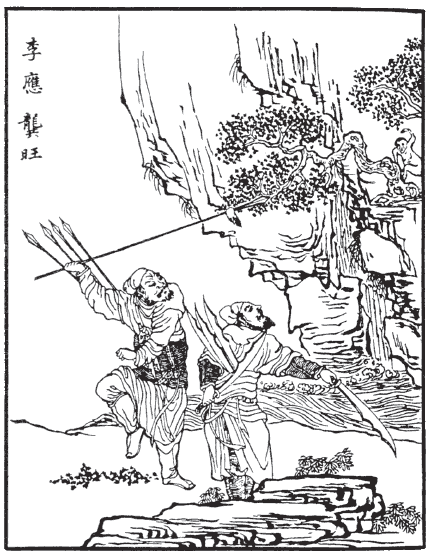 Обучение бою с копьем
Обучение бою с копьем
У конфуцианских философов, например, мы встречаем замечательные пассажи о том, как, услышав древнюю музыку, человек видит в мельчайших подробностях лик того, кто ее сочинил, хотя ему никогда не приходилось воочию сталкиваться с автором музыки, жившим за два-три столетия до этого. Мастер тайцзицюань Ян Чэнфу говорил, что когда он начинает делать комплекс тайцзицюань, рядом появляется Чжан Саньфэн (образ? лик? реальность?), который обучает и поправляет его. Создатель стиля багуачжан Дун Хайчуань учился у даосских небожителей, которые появлялись лишь в момент тренировки, причем он ясно видел их облик, одежды, мог описать даже тембр голоса – «низкий и медленный, очень глубокий».
И еще одна история из анналов ушу. Однажды великий мастер синъицюань Го Юньшэнь собрал своих учеников и сообщил: «Сегодня я решил, что мой путь по земле завершен, и я покину вас». Ученики были потрясены решением мастера умереть – умереть так просто и обыденно, при полном здоровье – и принялись уговаривать Го Юньшэня не покидать их. Го, усмехнувшись, заметил: «Напрасно печалитесь. Пока вы занимаетесь этим искусством, я буду жив».
Значит, учителю суждено возвращаться явленно и неявленно, и как образу и как реальной личности, как иллюзии присутствия и как доподлинной личности. В этом – величайший мистический факт передачи ушу.
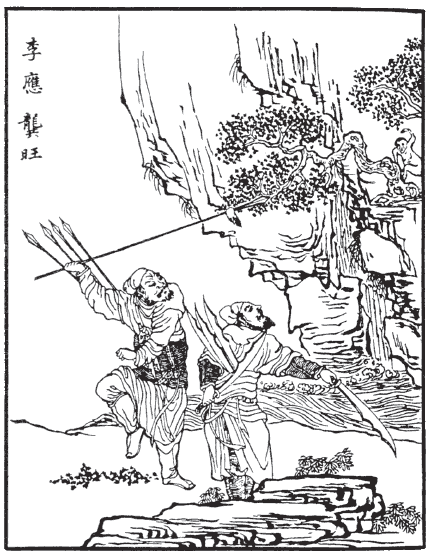
У конфуцианских философов, например, мы встречаем замечательные пассажи о том, как, услышав древнюю музыку, человек видит в мельчайших подробностях лик того, кто ее сочинил, хотя ему никогда не приходилось воочию сталкиваться с автором музыки, жившим за два-три столетия до этого. Мастер тайцзицюань Ян Чэнфу говорил, что когда он начинает делать комплекс тайцзицюань, рядом появляется Чжан Саньфэн (образ? лик? реальность?), который обучает и поправляет его. Создатель стиля багуачжан Дун Хайчуань учился у даосских небожителей, которые появлялись лишь в момент тренировки, причем он ясно видел их облик, одежды, мог описать даже тембр голоса – «низкий и медленный, очень глубокий».
И еще одна история из анналов ушу. Однажды великий мастер синъицюань Го Юньшэнь собрал своих учеников и сообщил: «Сегодня я решил, что мой путь по земле завершен, и я покину вас». Ученики были потрясены решением мастера умереть – умереть так просто и обыденно, при полном здоровье – и принялись уговаривать Го Юньшэня не покидать их. Го, усмехнувшись, заметил: «Напрасно печалитесь. Пока вы занимаетесь этим искусством, я буду жив».
Значит, учителю суждено возвращаться явленно и неявленно, и как образу и как реальной личности, как иллюзии присутствия и как доподлинной личности. В этом – величайший мистический факт передачи ушу.
Глава 6
Врата учения
Изучать ушу легко – заниматься им трудно.
Заниматься ушу легко – сохранять его трудно.
Сохранять ушу легко – постичь его трудно.
Мастер Хань Цзяньчжун (стиль мэйхуачжуан)
Школа – внутренний мир ушу
Естественно, что, говоря о мастерах ушу, нельзя не затронуть такую важную часть внутренней традиции ушу, как школа – основная ячейка, где передается учение. Сегодня можно услышать, как «школой ушу» называют обычный спортивный клуб, секцию, причем это понятие настолько закрепилось в нашем сознании, что мы вряд ли задумываемся над его сутью. А вот для Китая понятие «школа» имело совсем иное, исключительно духовное значение.
Система школ ушу возникает в тот момент, когда начинается осознание боевых искусств как духовно полноценной системы, ничем не отличной от других китайских «искусств». Эта мысль явилась психологической посылкой для формирования школ. Необходимо накапливать и сохранять знания, вводя человека в тесный и интенсивно духовный круг общения, где все проникнуто единой мыслью овладения тайнами ушу.
Прежде всего постараемся разобраться, что мы вообще подразумеваем под названием «школа ушу». Чем она отличается от стиля? Правомочно ли параллельное название, скажем, «шаолиньский стиль» и «шаолиньская школа»? Кстати, такая путаница нередка, и сегодня даже далеко не каждый последователь ушу в Китае способен разобраться в ней. А эти различия весьма немаловажны для понимания «внутреннего пространства» ушу.
Отметим, что школы ушу отнюдь не возникают вместе с возникновением боевых искусств. Они начинают формироваться в XIII веке, однако их складывание завершается лишь к XVII веку вместе со становлением системы внутренних стилей, которые можно практиковать лишь внутри таких школ. Школ было множество по всему Китаю, хотя, конечно, не все они были равноценны и многие лишь имитировали традиционные буддийские общины и даосские секты. Вообще же, на формирование школ ушу и на их структуру, с одной стороны, повлияли форма и взаимоотношения внутри традиционной китайской семьи, с другой – организация и система обучения в даосских и буддийских сектах. К тому же школам предшествуют многочисленные народные общества ушу, носящие в своем большинстве массовый, общедеревенский характер. Становление народного синкретизма в тот момент, когда ушу стало самым массовым народным занятием, поставило точку в формировании школ как организаций не только обучения ушу, но и передачи духовной «истинной традиции».
Особенно бурный рост ушу шел в XVII–XIX веках, частично он был связан с глухим противостоянием народных «мудрецов» элитарно-имперской культуре, частично – с интимизацией мистической культуры вообще, когда единственным способом сохранения духовной «истинности» становилось создание исключительно узкого, герметического сообщества, где концентрация внутреннего напряжения была предельной.
Не стоит полагать, что духовная самоорганизация была основным стержнем всякой школы ушу. Отнюдь нет. Например, после прихода в Китай маньчжуров ряд школ оказался тесно связан с тайными обществами, особенно это распространилось на юге Китая, где действовала знаменитая «Триада» – «Общество Неба и Земли». Зачастую школа ушу и тайное общество полностью взаимоналагались, растворяясь друг в друге, школа вырастала в огромное сообщество. Поэтому наряду с крайне закрытыми школами ушу, в которых нередко объединялось не более десятка человек и отбор в которые был очень строг, стали развиваться более массовые «общества» (шэ) или «дворы боевых искусств» (гуань). В них зачастую состояло до нескольких сотен человек, на деревенском и на уездном уровне их члены тренировались абсолютно открыто, не таясь ни от местных чиновников, ни от проверяющих, хотя при этом нередко такие «дворы» и разгоняли за «еретическую практику», фактически – за отправление неофициальных ритуалов, поклонение «не тем» богам и духам.
Такие «дворы» были обычно тесно связаны с узкими школами, называемыми «мэнь» («врата»). Более того, и во внутренней иерархии, и в структуре взаимоотношений, и даже в изучаемых приемах и комплексах эти два типа школ могли полностью совпадать, благо они обычно располагались в одной местности. И тем не менее, разница была, причем разница весьма существенная.
Огромное духовное напряжение, возникающее в небольшом круге учеников школы-мэнь, позволяло передавать ушу как истинно сакральное знание. Да и вообще, по сути, передавалось не ушу, а некое «нечто», которое стоит за ним, – «искусство Дао». В больших же «дворах», тайных обществах многие секреты ушу растворялись в массе занимающихся, но самое главное – утрачивалась возможность передачи «от сердца к сердцу». Это была своеобразная имитация формы, которой приписывался мистический смысл, но который фактически уже давно был утерян.
Стили ушу как таковые разрабатывались внутри школ, именно там простой технический арсенал боя приобретал свою стилистику – историю, легенды, первопредка, внутренние ритуалы – одним словом, все «опознавательные» знаки стиля. Практиковались же эти стили в более широких обществах. Учение и внутренняя психологическая обстановка школы были очень сложны для большинства тех, кто желал практиковать ушу, а их по всему Китаю были миллионы. Многие аспекты были вообще недоступны для ментальных и духовных способностей некоторых учеников. Поэтому «дворы боевых искусств», выполняя особую, компенсаторную роль, собирали самый различный люд, который овладевал ушу в основном на внешнем, техническом уровне, хотя в этом многие достигали поражающего мастерства. И все же наиболее духовно открытых вводили в узкий круг учеников школы.
Интересно, что существовало и «материальное» отличие школ от обществ или «дворов» – школы имели свои генеалогические хроники, сакральные тексты, их члены широко занимались медитацией, обладали полными методиками «внутренней тренировки». А вот в массовых объединениях это практически полностью отсутствовало или лишь имитировалось в «снятом» виде.
Настоящих школ в Китае было немного, были они малоприметны, равно как и мастера, руководяшие ими, в основном же можно было столкнуться с «дворами боевых искусств». Школы же были столь тесно вплетены в общую духовную ткань культуры, что исчезали в полнозвучии многочисленных «обществ», «дворов боевых искусств», «армейских школ», которые заслоняли их своей яркостью и массовостью. В школах и шла «истинная передача» ушу, так как лишь их структура и внутренний климат позволяли в полной мере не только сохранять знания в концентрированном виде, но и беречь сам дух, саму внутреннюю стилистику традиции ушу.
Сам характер школы исключал приход в нее случайных людей, ученики редко покидали ее недоучившись, большинство из членов школ своим основным занятием в жизни считали практику ушу, и другой «работы», по сути, у них не было, хотя многие последователи являлись крестьянами, торговцами, лодочниками, ремесленниками.
Интересно само название школы ушу. Классическая школа именовалось «семьей» (цзя) или «вратами» (мэнь). Через эти врата неофит входил в новый, по сути запредельный мир – мир тайн великих мудрецов. Там он готовился в течение долгих лет к восприятию трансцендентных истин ушу, тренировал тело и дух, постигая самого себя. «Войти во врата» – так именовалось вступление в школу ушу. За вратами ученик должен оставить, может быть, все то, к чему привык. «Выбросить себя старого и породить нового», – говорит китайское изречение. Наставники ушу советовали «выбросить старую одежду, выбросить старые привычки, выбросить старое «Я». В некоторых школах при ритуале вступления символически сжигались одежда ученика, а также табличка или клочок бумажки с иероглифами, на которых было написано имя неофита. Пепел растворяли в воде, и такой напиток назывался «чай небожителей». Затем ученик выпивал этот чай, как бы поглощая сам себя. Человек символически умирал, уничтожал себя, чтобы возродиться вновь, но уже в истинном виде – в качестве адепта ушу.
Вступление в школу ушу представляло сложное испытание для психики и тела неофита. Новичок обычно сначала отвечал на ритуальные вопросы, произносил магические заклинания.
Во многих школах ушу ритуал вступления был сильно редуцирован, уменьшен внешне до простых формальностей, как бы переведен во внутреннюю форму переживания. В полном ритуале, сложных действиях, заклинаниях не было необходимости. Мастер прекрасно чувствовал, кого он берет к себе в школу, говорили, что мастер узнает об ученике раньше, чем тот придет к нему.
Порой меткое слово, точность выражения мысли становились «пропуском» в школу ушу. Главное, чтобы в них отражались искренность души и живость мысли. Вот одна из историй, относящаяся к XV веку. Однажды на улице города Лояна шао-линьский наставник Хайъу повстречал мальчишку-оборванца удивительно жалкого вида и дал ему несколько медяков. И вдруг нищий ответил ему стихами:
– Тот, кто с молодости выражается стихами, – не нищий. Если просящий милостыню преисполнен решимости – он уже не нищенствует. Придет день – и ты пожелаешь стать благородным мужем и героем.
Старый монах и мальчишка вместе возвратились в монастырь. Хайъу не ошибся – нищему оборванцу было суждено в 28 лет стать одним из самых молодых настоятелей Шаолиньского монастыря и получить прозвище Будда-Воин[39].
Система школ ушу возникает в тот момент, когда начинается осознание боевых искусств как духовно полноценной системы, ничем не отличной от других китайских «искусств». Эта мысль явилась психологической посылкой для формирования школ. Необходимо накапливать и сохранять знания, вводя человека в тесный и интенсивно духовный круг общения, где все проникнуто единой мыслью овладения тайнами ушу.
Прежде всего постараемся разобраться, что мы вообще подразумеваем под названием «школа ушу». Чем она отличается от стиля? Правомочно ли параллельное название, скажем, «шаолиньский стиль» и «шаолиньская школа»? Кстати, такая путаница нередка, и сегодня даже далеко не каждый последователь ушу в Китае способен разобраться в ней. А эти различия весьма немаловажны для понимания «внутреннего пространства» ушу.
Отметим, что школы ушу отнюдь не возникают вместе с возникновением боевых искусств. Они начинают формироваться в XIII веке, однако их складывание завершается лишь к XVII веку вместе со становлением системы внутренних стилей, которые можно практиковать лишь внутри таких школ. Школ было множество по всему Китаю, хотя, конечно, не все они были равноценны и многие лишь имитировали традиционные буддийские общины и даосские секты. Вообще же, на формирование школ ушу и на их структуру, с одной стороны, повлияли форма и взаимоотношения внутри традиционной китайской семьи, с другой – организация и система обучения в даосских и буддийских сектах. К тому же школам предшествуют многочисленные народные общества ушу, носящие в своем большинстве массовый, общедеревенский характер. Становление народного синкретизма в тот момент, когда ушу стало самым массовым народным занятием, поставило точку в формировании школ как организаций не только обучения ушу, но и передачи духовной «истинной традиции».
Особенно бурный рост ушу шел в XVII–XIX веках, частично он был связан с глухим противостоянием народных «мудрецов» элитарно-имперской культуре, частично – с интимизацией мистической культуры вообще, когда единственным способом сохранения духовной «истинности» становилось создание исключительно узкого, герметического сообщества, где концентрация внутреннего напряжения была предельной.
Не стоит полагать, что духовная самоорганизация была основным стержнем всякой школы ушу. Отнюдь нет. Например, после прихода в Китай маньчжуров ряд школ оказался тесно связан с тайными обществами, особенно это распространилось на юге Китая, где действовала знаменитая «Триада» – «Общество Неба и Земли». Зачастую школа ушу и тайное общество полностью взаимоналагались, растворяясь друг в друге, школа вырастала в огромное сообщество. Поэтому наряду с крайне закрытыми школами ушу, в которых нередко объединялось не более десятка человек и отбор в которые был очень строг, стали развиваться более массовые «общества» (шэ) или «дворы боевых искусств» (гуань). В них зачастую состояло до нескольких сотен человек, на деревенском и на уездном уровне их члены тренировались абсолютно открыто, не таясь ни от местных чиновников, ни от проверяющих, хотя при этом нередко такие «дворы» и разгоняли за «еретическую практику», фактически – за отправление неофициальных ритуалов, поклонение «не тем» богам и духам.
Такие «дворы» были обычно тесно связаны с узкими школами, называемыми «мэнь» («врата»). Более того, и во внутренней иерархии, и в структуре взаимоотношений, и даже в изучаемых приемах и комплексах эти два типа школ могли полностью совпадать, благо они обычно располагались в одной местности. И тем не менее, разница была, причем разница весьма существенная.
Огромное духовное напряжение, возникающее в небольшом круге учеников школы-мэнь, позволяло передавать ушу как истинно сакральное знание. Да и вообще, по сути, передавалось не ушу, а некое «нечто», которое стоит за ним, – «искусство Дао». В больших же «дворах», тайных обществах многие секреты ушу растворялись в массе занимающихся, но самое главное – утрачивалась возможность передачи «от сердца к сердцу». Это была своеобразная имитация формы, которой приписывался мистический смысл, но который фактически уже давно был утерян.
Стили ушу как таковые разрабатывались внутри школ, именно там простой технический арсенал боя приобретал свою стилистику – историю, легенды, первопредка, внутренние ритуалы – одним словом, все «опознавательные» знаки стиля. Практиковались же эти стили в более широких обществах. Учение и внутренняя психологическая обстановка школы были очень сложны для большинства тех, кто желал практиковать ушу, а их по всему Китаю были миллионы. Многие аспекты были вообще недоступны для ментальных и духовных способностей некоторых учеников. Поэтому «дворы боевых искусств», выполняя особую, компенсаторную роль, собирали самый различный люд, который овладевал ушу в основном на внешнем, техническом уровне, хотя в этом многие достигали поражающего мастерства. И все же наиболее духовно открытых вводили в узкий круг учеников школы.
Интересно, что существовало и «материальное» отличие школ от обществ или «дворов» – школы имели свои генеалогические хроники, сакральные тексты, их члены широко занимались медитацией, обладали полными методиками «внутренней тренировки». А вот в массовых объединениях это практически полностью отсутствовало или лишь имитировалось в «снятом» виде.
Настоящих школ в Китае было немного, были они малоприметны, равно как и мастера, руководяшие ими, в основном же можно было столкнуться с «дворами боевых искусств». Школы же были столь тесно вплетены в общую духовную ткань культуры, что исчезали в полнозвучии многочисленных «обществ», «дворов боевых искусств», «армейских школ», которые заслоняли их своей яркостью и массовостью. В школах и шла «истинная передача» ушу, так как лишь их структура и внутренний климат позволяли в полной мере не только сохранять знания в концентрированном виде, но и беречь сам дух, саму внутреннюю стилистику традиции ушу.
Сам характер школы исключал приход в нее случайных людей, ученики редко покидали ее недоучившись, большинство из членов школ своим основным занятием в жизни считали практику ушу, и другой «работы», по сути, у них не было, хотя многие последователи являлись крестьянами, торговцами, лодочниками, ремесленниками.
Интересно само название школы ушу. Классическая школа именовалось «семьей» (цзя) или «вратами» (мэнь). Через эти врата неофит входил в новый, по сути запредельный мир – мир тайн великих мудрецов. Там он готовился в течение долгих лет к восприятию трансцендентных истин ушу, тренировал тело и дух, постигая самого себя. «Войти во врата» – так именовалось вступление в школу ушу. За вратами ученик должен оставить, может быть, все то, к чему привык. «Выбросить себя старого и породить нового», – говорит китайское изречение. Наставники ушу советовали «выбросить старую одежду, выбросить старые привычки, выбросить старое «Я». В некоторых школах при ритуале вступления символически сжигались одежда ученика, а также табличка или клочок бумажки с иероглифами, на которых было написано имя неофита. Пепел растворяли в воде, и такой напиток назывался «чай небожителей». Затем ученик выпивал этот чай, как бы поглощая сам себя. Человек символически умирал, уничтожал себя, чтобы возродиться вновь, но уже в истинном виде – в качестве адепта ушу.
Вступление в школу ушу представляло сложное испытание для психики и тела неофита. Новичок обычно сначала отвечал на ритуальные вопросы, произносил магические заклинания.
Во многих школах ушу ритуал вступления был сильно редуцирован, уменьшен внешне до простых формальностей, как бы переведен во внутреннюю форму переживания. В полном ритуале, сложных действиях, заклинаниях не было необходимости. Мастер прекрасно чувствовал, кого он берет к себе в школу, говорили, что мастер узнает об ученике раньше, чем тот придет к нему.
Порой меткое слово, точность выражения мысли становились «пропуском» в школу ушу. Главное, чтобы в них отражались искренность души и живость мысли. Вот одна из историй, относящаяся к XV веку. Однажды на улице города Лояна шао-линьский наставник Хайъу повстречал мальчишку-оборванца удивительно жалкого вида и дал ему несколько медяков. И вдруг нищий ответил ему стихами:
Наставник Хайъу пристально посмотрел на мальчишку и ответил:
Лишь отчаяние погнало жалкого Цзю медяки просить.
Но этот нищий полон решимости за милость отблагодарить!
– Тот, кто с молодости выражается стихами, – не нищий. Если просящий милостыню преисполнен решимости – он уже не нищенствует. Придет день – и ты пожелаешь стать благородным мужем и героем.
Старый монах и мальчишка вместе возвратились в монастырь. Хайъу не ошибся – нищему оборванцу было суждено в 28 лет стать одним из самых молодых настоятелей Шаолиньского монастыря и получить прозвище Будда-Воин[39].
Школа или стиль?
Заметим, что школа по своему характеру отличается от стиля или направления ушу. Например, ряд школ мог практиковать один и тот же стиль. У истоков стиля обычно стоял легендарный первооснователь. Его личность обычно восходила или к полностью мифологическим персонам, чей образ «очеловечился», например к бессмертным небожителям или к полулегендарным героям, которые прямого отношения к ушу не имели, но освящали стиль своей благостью, – Бодхидхарме, Чжан Саньфэну. Был также целый ряд вполне реальных людей, причем живших сравнительно недавно, два-три века назад, которые, однако, столь сильно обросли легендами, что сама реальность этих личностей утратилась абсолютно. Например, основатель стиля «Огненная палка Шаолиня» монах Цзиньнало в мифах приобрел имя буддийского небесного божества Кинары, поэтому считалось, что сами духи принесли методы боя с палкой на землю. Так или иначе, персона-основатель стиля был всегда мифологичен и символичен как воплощение духовной мощи, идущей от века и от мира. По сути, у стиля не было начала, ибо его корни уходили в бесконечную глубину эпохи первопредков. В отличие от стиля, в начале школы почти всегда стоял реальный человек. Сама структура школы вырастала из организации китайской семьи, клана (патронимии), а поэтому и назывались они семейными или клановыми названиями, например, янши тайцзицюань (школа тайцзицюань клана Ян) или хунцзямэнь (школа семьи Хун)[40]. Вступление в школу, таким образом, становилось приобщением к семейным связям.
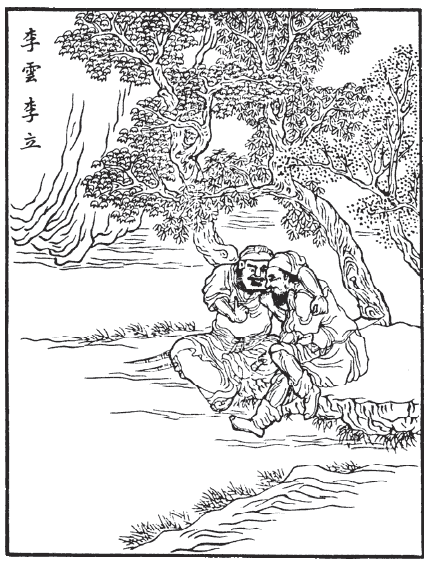 Два бойца из одной школы ушу
Два бойца из одной школы ушу
А вот вопрос с созданием стилей ушу не так прост, как может показаться. Прежде всего, что такое стиль? В Китае его обозначали как «цюань» – «кулак» (шаолиньцюань, танланцюань) либо «люпай» – «группа последователей». Правда, встречались исключения, например, когда стиль вырастал из семейной школы. Южные стили так и называются – хунцзяцюань (стиль семьи Хун) или люцзяцюань (стиль семьи Лю). Да и знаменитый тайцзицюань первоначально в некоторых центральных районах Китая просто назывался «стиль семьи Чэнь» по имени его первооснователей.
Стили вырастали из школ. Носители «истинной передачи», да и просто талантливые ученики покидали лоно родной школы, переезжали с места на место. Многие чиновники служили за сотни километров от родных мест, более того, считалось, что чиновник не имеет права служить на родине, дабы не потакать и без того развитой коррупции, неформальным связям и тайным обществам. Многие из местных шэньши – чиновников – блестяще знали ушу, к тому же отменное здоровье было важным условием на чиновничьих экзаменах. Это знание ушу помогало «пришлым» быстро адаптироваться в местной среде при переездах с места на место – народ высоко ценил боевое мастерство. Так, ученики школы могли начинать преподавать в разных районах Китая, естественно, с разной долей усердия, к тому же и их способности были различны. Представители семейных школ на новом месте были вынуждены брать в обучение членов других фамилий, и клановость школы ушу нарушалась. Боевые искусства становились все более открытыми и вместе с тем разветвленными. Да и как можно было скрывать наличие школы ушу в деревне, когда занятия происходили прямо во дворе и становились столь же привычным зрелищем, как и готовка пищи.
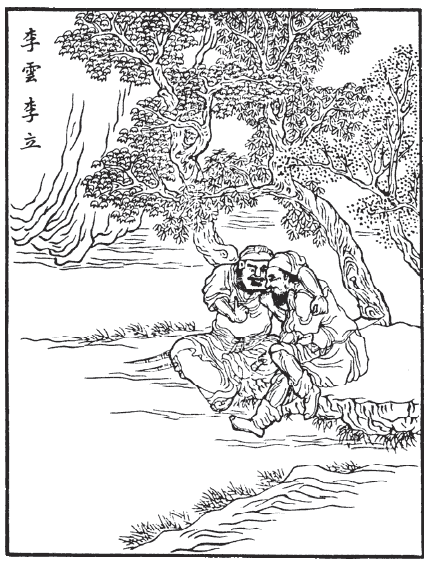
А вот вопрос с созданием стилей ушу не так прост, как может показаться. Прежде всего, что такое стиль? В Китае его обозначали как «цюань» – «кулак» (шаолиньцюань, танланцюань) либо «люпай» – «группа последователей». Правда, встречались исключения, например, когда стиль вырастал из семейной школы. Южные стили так и называются – хунцзяцюань (стиль семьи Хун) или люцзяцюань (стиль семьи Лю). Да и знаменитый тайцзицюань первоначально в некоторых центральных районах Китая просто назывался «стиль семьи Чэнь» по имени его первооснователей.
Стили вырастали из школ. Носители «истинной передачи», да и просто талантливые ученики покидали лоно родной школы, переезжали с места на место. Многие чиновники служили за сотни километров от родных мест, более того, считалось, что чиновник не имеет права служить на родине, дабы не потакать и без того развитой коррупции, неформальным связям и тайным обществам. Многие из местных шэньши – чиновников – блестяще знали ушу, к тому же отменное здоровье было важным условием на чиновничьих экзаменах. Это знание ушу помогало «пришлым» быстро адаптироваться в местной среде при переездах с места на место – народ высоко ценил боевое мастерство. Так, ученики школы могли начинать преподавать в разных районах Китая, естественно, с разной долей усердия, к тому же и их способности были различны. Представители семейных школ на новом месте были вынуждены брать в обучение членов других фамилий, и клановость школы ушу нарушалась. Боевые искусства становились все более открытыми и вместе с тем разветвленными. Да и как можно было скрывать наличие школы ушу в деревне, когда занятия происходили прямо во дворе и становились столь же привычным зрелищем, как и готовка пищи.
