Борис Степанович сидел в кресле, худой, с землисто-жёлтым лицом, и нога у него была неестественно вытянута, но он улыбался так радостно, что ребята скоро забыли про его болезнь.
Они весело рассказывали, как идут дела в школе. Никогда ещё Панама не видел, чтобы Юля смеялась так заливисто. «Какая она красивая, — думал он, — и глаза смеются, и волосы такие густые. И вся она какая-то совсем взрослая».
— Хотите, я вам кофе сварю? — сказала Юля. — Мы ездили в Швецию на состязания, и там меня научили такой кофе варить. Все шведы пьют такой кофе по утрам…
— Да не стоит, — сказал Борис Степанович. Но Юля уже гремела посудой на кухне.
— У вас «Арабика»?
— А бог его знает, — ответил Борис Степанович, — я его от случая к случаю покупаю.
— Ну что вы, кофе обязательно должен быть в доме.
Борис Степанович наклонился к Маше и заговорщически спросил:
— А ты умеешь кофе варить?
— Нет, — тихо ответила она. И вообще она всё молчала и сидела в сторонке.
— Я тоже, — подмигнул ей Борис Степанович и засмеялся.
— Я зато борщ умею! — просияла Маша. — И блинчики.
— Красота! Вот у меня нога новая вырастет, и мы с Игорем придём к тебе обедать. Хотя его сильно кормить нельзя, а то будет мучиться, как Фред Палмер. Он за пятнадцать лет работы на ипподромах мира вынужден был выпарить в бане пять тонн веса. Но тебе, Игорь, это, по-моему, ещё не грозит.
— Вот и кофе! — Юля внесла поднос с маленькими чашечками. — Берите сахар.
Хлопнула дверь в прихожей.
— О! Да у тебя гости! — сказала красивая девушка, входя в комнату. — А я ещё на лестнице подумала: «Где это так вкусно кофе пахнет?»
— Это вот у нас мастерица Юля, — сказал Борис Степанович. — Ну, иди мой руки да садись с нами.
— Это ваша сестра? — спросила Юля, и голос её показался Панаме каким-то странным.
— Нет, — ответил Борис Степанович,
Девушка вернулась, и они с Борисом Степановичем о чём-то весело заговорили.
— Да! Я же не представил тебе гостей, — сказал учитель. — Это наш знаменитый конник Пономарёв, это Юля — можно сказать, будущее фигурного катания. А это Маша…
— Ничем не знаменитая, — засмеялась Маша.
— Неправда. Ты моя самая любимая ученица.
— Извините. Мне нужно на тренировку, — сказала Юля, — я пойду.
— Да выпей хоть кофе.
— Нет, я пойду, мне нужно! — Она быстро ушла.
— Чего она убежала? — спросил Панама, когда они шли по улице с Машей. — По-моему, никакой тренировки у неё нот.
— Эх, ты! ответила Маша. — Ничего ты не понимаешь…
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава заключительная
Они весело рассказывали, как идут дела в школе. Никогда ещё Панама не видел, чтобы Юля смеялась так заливисто. «Какая она красивая, — думал он, — и глаза смеются, и волосы такие густые. И вся она какая-то совсем взрослая».
— Хотите, я вам кофе сварю? — сказала Юля. — Мы ездили в Швецию на состязания, и там меня научили такой кофе варить. Все шведы пьют такой кофе по утрам…
— Да не стоит, — сказал Борис Степанович. Но Юля уже гремела посудой на кухне.
— У вас «Арабика»?
— А бог его знает, — ответил Борис Степанович, — я его от случая к случаю покупаю.
— Ну что вы, кофе обязательно должен быть в доме.
Борис Степанович наклонился к Маше и заговорщически спросил:
— А ты умеешь кофе варить?
— Нет, — тихо ответила она. И вообще она всё молчала и сидела в сторонке.
— Я тоже, — подмигнул ей Борис Степанович и засмеялся.
— Я зато борщ умею! — просияла Маша. — И блинчики.
— Красота! Вот у меня нога новая вырастет, и мы с Игорем придём к тебе обедать. Хотя его сильно кормить нельзя, а то будет мучиться, как Фред Палмер. Он за пятнадцать лет работы на ипподромах мира вынужден был выпарить в бане пять тонн веса. Но тебе, Игорь, это, по-моему, ещё не грозит.
— Вот и кофе! — Юля внесла поднос с маленькими чашечками. — Берите сахар.
Хлопнула дверь в прихожей.
— О! Да у тебя гости! — сказала красивая девушка, входя в комнату. — А я ещё на лестнице подумала: «Где это так вкусно кофе пахнет?»
— Это вот у нас мастерица Юля, — сказал Борис Степанович. — Ну, иди мой руки да садись с нами.
— Это ваша сестра? — спросила Юля, и голос её показался Панаме каким-то странным.
— Нет, — ответил Борис Степанович,
Девушка вернулась, и они с Борисом Степановичем о чём-то весело заговорили.
— Да! Я же не представил тебе гостей, — сказал учитель. — Это наш знаменитый конник Пономарёв, это Юля — можно сказать, будущее фигурного катания. А это Маша…
— Ничем не знаменитая, — засмеялась Маша.
— Неправда. Ты моя самая любимая ученица.
— Извините. Мне нужно на тренировку, — сказала Юля, — я пойду.
— Да выпей хоть кофе.
— Нет, я пойду, мне нужно! — Она быстро ушла.
— Чего она убежала? — спросил Панама, когда они шли по улице с Машей. — По-моему, никакой тренировки у неё нот.
— Эх, ты! ответила Маша. — Ничего ты не понимаешь…
Глава двадцать первая
БЫВАЕТ В ЖИЗНИ ВСЁ…
Первым уроком была история. Марья Александровна окинула взглядом класс и сказала:
— Фоминой Юли нет. Бедная девочка… Это после вчерашнего.
— А что случилось? — спросил Панама у Столбова.
— Эх ты, Панама! — ответил тот. — Ты что же, телевизор не смотришь?
— Некогда, — виновато ответил Панама.
— Продула вчера наша чемпионка! Три раза упала! Никакого места не заняла. Так и надо, воображать не будет. Её немка, которую она в прошлом году победила, теперь уделала…
— Столбов!
— Я больше не буду, Марьсанна.
«Оно конечно, так ей, в общем-то, и надо, — думал Панама. Он вспомнил Юлькину высокомерную походку, её любимую фразу „я так хочу“. — Она же никого равным себе не считает. И человек неверный. Всё только о себе заботится. Как она нас бросила в конюшне! Хорошо, что всё обошлось… Вот теперь расстроилась — дома сидит, плачет, наверное. Никто-никто к ней не пойдёт… Потому что она всех оттолкнула. Смотрит на всех, будто мы дети, а она взрослая… Вот и сидит одна!» И Панаме вдруг стало её жалко. С болезненной отчётливостью он вспомнил тот вечер, когда он решил бросить манеж. Ведь если бы не Маша… Бросил бы обязательно! Бросил бы, а потом пропал, потому что теперь Панама не представлял споем жизни без коней…
«А ведь и она так же! Если сейчас не окажется кто-нибудь рядом, она тоже спорт бросит. Бросит и всю жизнь будет несчастна. Ах, была не была! Пойду к ней! — решил Панама. — Авось не выгонят!»
Он долго стоял у двери, обитой клеёнкой, не решаясь позвонить. Наконец нажал пупырышек звонка.
— Тебе чего? — открыла дверь Юлька.
На лестнице было темно, но и здесь было заметно, как она осунулась, как опухли у неё зарёванные глаза.
— Уроки тебе принёс! — сказал Панама. И быстро протолкнулся в квартиру.
— Ко мне нельзя! А уроки мне не нужны!
— Ну, раз уж я пришёл… сказал Панама. А сам пальто снимает.
— А чего ты раздеваешься?
— Неудобно в пальто в комнату.
— Я тебя в комнату и не зову.
— А здесь темно! — Панама уже проходил в комнату.
Там был беспорядок. Вещи раскиданы, постель не прибрана.
— Ты чего, — спросил Панама, — лежишь, что ли?
— Не твоё дело. Давай уроки и сматывайся.
— А ты умеешь класть гордость в карман?
— Что?
— Для пользы дела. Вот ты меня обижаешь, а я свою гордость в карман положил, и мне совсем не обидно, потому что ты обижаешь меня напрасно. Я ведь даже не жалеть тебя пришёл, тем более что я вчера соревнования и не смотрел… И вообще, пошли в кино!
— Чего я там не видела…
— А можно в мороженицу сходить. У меня рубль есть!
— Что ты ко мне пристал, что тебе нужно?
«Ну-ко, попробуем тебя с ходу взять, как препятствие с шамбарьером», — подумал Панама. Он часто теперь ловил себя на том, что в трудных положениях начинал думать так, словно он ехал на норовистой лошади.
— А то, — сказал Панама, — что ты слюнтяйка: подумаешь, соревнования проиграла! Вон Борис Степанович чуть ногу не потерял, а ничего, улыбается… — И тут же он понял, что так у него ничего не получится. «Закидка! — сказал он про себя. — Не с той ноги начал. Нет, тут нужно как-то по другому. Ну-ко, начнём всё сначала».
— Ну и хорошо, хоть бы он совсем себе шею свернул!
— Эх, ты, а он-то тебя расхваливал! Говорит, какая она хорошая девчонка, волевая, целеустремлённая и красивая…
— Так и сказал?
— Так и сказал. И зря ты тогда убежала, мы ещё долго сидели. Борис Степаныч фотографии показывал, он во многих фильмах дублёром работал.
Юлька внимательно слушала.
— А ещё он говорил, что с тебя пример брать нужно, как ты умеешь планировать день… — несло Панаму. — Только ведь это всё неправда.
— Это почему же?
— Никакая ты не волевая, вон маленькая неприятность, и всё…
— Хорошенькая маленькая… Весь мир видел, как я падала. «Фомина! Советский Союз!» А я ляп об лёд, ляп второй раз, и в третий… Как я теперь на улицу-то выйду!
— Знаешь, а давай всей компанией пойдём. Машу позовём, Столбова. В куче-то тебя и не видно будет. А дома нельзя сидеть — нужно прогуляться…
— А ребята пойдут?
— Да они хоть куда пойдут!
— Ну ладно, — сказала Юлька, — ты посиди здесь, я переоденусь.
Панама мысленно подпрыгнул. «А всё-таки она не такая уж плохая девчонка. Но Маша лучше, Маша умнее да и, пожалуй, красивее…»
И Панама вдруг поймал себя на том, что и Маша, и Юлька, и Столбов кажутся ему теперь совсем другими, будто смотрит он на них из седла. «Что это? — подумал он. Я повзрослел?»
— Фоминой Юли нет. Бедная девочка… Это после вчерашнего.
— А что случилось? — спросил Панама у Столбова.
— Эх ты, Панама! — ответил тот. — Ты что же, телевизор не смотришь?
— Некогда, — виновато ответил Панама.
— Продула вчера наша чемпионка! Три раза упала! Никакого места не заняла. Так и надо, воображать не будет. Её немка, которую она в прошлом году победила, теперь уделала…
— Столбов!
— Я больше не буду, Марьсанна.
«Оно конечно, так ей, в общем-то, и надо, — думал Панама. Он вспомнил Юлькину высокомерную походку, её любимую фразу „я так хочу“. — Она же никого равным себе не считает. И человек неверный. Всё только о себе заботится. Как она нас бросила в конюшне! Хорошо, что всё обошлось… Вот теперь расстроилась — дома сидит, плачет, наверное. Никто-никто к ней не пойдёт… Потому что она всех оттолкнула. Смотрит на всех, будто мы дети, а она взрослая… Вот и сидит одна!» И Панаме вдруг стало её жалко. С болезненной отчётливостью он вспомнил тот вечер, когда он решил бросить манеж. Ведь если бы не Маша… Бросил бы обязательно! Бросил бы, а потом пропал, потому что теперь Панама не представлял споем жизни без коней…
«А ведь и она так же! Если сейчас не окажется кто-нибудь рядом, она тоже спорт бросит. Бросит и всю жизнь будет несчастна. Ах, была не была! Пойду к ней! — решил Панама. — Авось не выгонят!»
Он долго стоял у двери, обитой клеёнкой, не решаясь позвонить. Наконец нажал пупырышек звонка.
— Тебе чего? — открыла дверь Юлька.
На лестнице было темно, но и здесь было заметно, как она осунулась, как опухли у неё зарёванные глаза.
— Уроки тебе принёс! — сказал Панама. И быстро протолкнулся в квартиру.
— Ко мне нельзя! А уроки мне не нужны!
— Ну, раз уж я пришёл… сказал Панама. А сам пальто снимает.
— А чего ты раздеваешься?
— Неудобно в пальто в комнату.
— Я тебя в комнату и не зову.
— А здесь темно! — Панама уже проходил в комнату.
Там был беспорядок. Вещи раскиданы, постель не прибрана.
— Ты чего, — спросил Панама, — лежишь, что ли?
— Не твоё дело. Давай уроки и сматывайся.
— А ты умеешь класть гордость в карман?
— Что?
— Для пользы дела. Вот ты меня обижаешь, а я свою гордость в карман положил, и мне совсем не обидно, потому что ты обижаешь меня напрасно. Я ведь даже не жалеть тебя пришёл, тем более что я вчера соревнования и не смотрел… И вообще, пошли в кино!
— Чего я там не видела…
— А можно в мороженицу сходить. У меня рубль есть!
— Что ты ко мне пристал, что тебе нужно?
«Ну-ко, попробуем тебя с ходу взять, как препятствие с шамбарьером», — подумал Панама. Он часто теперь ловил себя на том, что в трудных положениях начинал думать так, словно он ехал на норовистой лошади.
— А то, — сказал Панама, — что ты слюнтяйка: подумаешь, соревнования проиграла! Вон Борис Степанович чуть ногу не потерял, а ничего, улыбается… — И тут же он понял, что так у него ничего не получится. «Закидка! — сказал он про себя. — Не с той ноги начал. Нет, тут нужно как-то по другому. Ну-ко, начнём всё сначала».
— Ну и хорошо, хоть бы он совсем себе шею свернул!
— Эх, ты, а он-то тебя расхваливал! Говорит, какая она хорошая девчонка, волевая, целеустремлённая и красивая…
— Так и сказал?
— Так и сказал. И зря ты тогда убежала, мы ещё долго сидели. Борис Степаныч фотографии показывал, он во многих фильмах дублёром работал.
Юлька внимательно слушала.
— А ещё он говорил, что с тебя пример брать нужно, как ты умеешь планировать день… — несло Панаму. — Только ведь это всё неправда.
— Это почему же?
— Никакая ты не волевая, вон маленькая неприятность, и всё…
— Хорошенькая маленькая… Весь мир видел, как я падала. «Фомина! Советский Союз!» А я ляп об лёд, ляп второй раз, и в третий… Как я теперь на улицу-то выйду!
— Знаешь, а давай всей компанией пойдём. Машу позовём, Столбова. В куче-то тебя и не видно будет. А дома нельзя сидеть — нужно прогуляться…
— А ребята пойдут?
— Да они хоть куда пойдут!
— Ну ладно, — сказала Юлька, — ты посиди здесь, я переоденусь.
Панама мысленно подпрыгнул. «А всё-таки она не такая уж плохая девчонка. Но Маша лучше, Маша умнее да и, пожалуй, красивее…»
И Панама вдруг поймал себя на том, что и Маша, и Юлька, и Столбов кажутся ему теперь совсем другими, будто смотрит он на них из седла. «Что это? — подумал он. Я повзрослел?»
Глава двадцать вторая
БОЛЬШИЕ СОСТЯЗАНИЯ
— Во — видал! — Конюх протянул Игорю скребницу, всю набитую конской шерстью. — Весна, брат! Весна! Зимняя шерсть сходит.
Весна грохотала льдом в водосточных трубах, рассыпалась воробьиным чириканьем по садам и скверам и, наконец, зазеленела первой травой на газонах.
Пономарёв разрывался между школой и манежем. И в школе и в манеже заканчивался учебный год. Игорь подрос, у него начал ломаться голос. Денис Платонович уже больше не зовёт его «мальчик», а всё больше «Игорь» или «Пономарёв».
— Завтра у нас большие состязания, так вы уж, Игорь, придите пораньше, поможете мне одеться.
— Есть, — отвечает Игорь.
Помочь мастеру одеться перед соревнованием — это старая традиция, такой чести удостаиваются только самые лучшие ученики. Игорь горд и счастлив, когда на следующий день он, только что пришедший от парикмахера, стоит в тренерской, держа вешалку с одеждой Дениса Платоновича.
Старик чисто выбрит, напудрен и завит. Он долго расчёсывает усы перед зеркалом.
— Брюки, — говорит он, не оборачиваясь, и влезает в белые узкие штаны. — Сапоги… О…о…о… — начинает он кряхтеть, натягивая высокие, тонкой кожи сапоги. — Чёртов сапожник, совершил такие немыслимые голенища, это ж какие-то перчатки, а не сапоги…
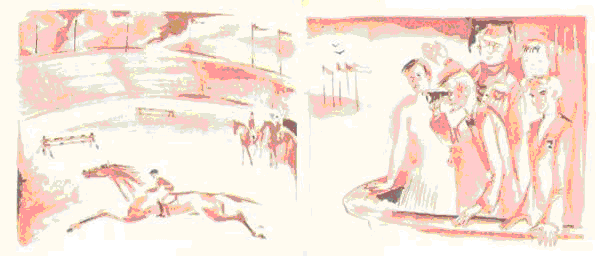
Наконец и сапоги, сияющие чёрным лаком, на месте. Тренер прохаживается, постукивая высокими каблуками.
— Сюртук!
Тёмно-синий, мягкого сукна сюртук с бархатным воротником и бархатными манжетами ловко лёг на плечи. На Игоре такой же костюм, только сюртук ярко-алый.
— Ну что ж, пора! — поправляя кружевной манжет рубашки, говорит тренер.
И вот они выезжают на ярко-зелёное поле ипподрома, где пестрят полосатыми боками препятствия. Громит оркестр, шумят трибуны, и кони нервно переступают точёными ногами.
Соревнования шли своим чередом. Наверху, в главной ложе, судья следил за участниками, и на лицо у него было такое выражение, точно он съел что-то кислое.
— Это что, все так кататься будут? — спросил он скучным голосом, глядя, как очередной всадник не может послать лошадь на препятствие.
— Они ездят лучше, я не знаю, что с ними такое сегодня. Волнение сказывается… — заступилась за своих женщина-тренер.
— Вот я и говорю: катаются. Им бы по дорожкам в садике кататься…
Помощник председателя, маленький старичок во фраке, снял пенсне и, протирая его, произнёс:
— Такое впечатление, что некоторые юноши с трудом различают, где у животного голова, а где хвост… От всего этого хочется лечь и тихо умереть. Сидят как собаки на заборе.
— Барьеры высоковаты, — вставил журналист, который тоже сидел в судейской ложе.
— Барьеры стандартные, — возразил Денис Платонович, не меняя позы.
— Плохому танцору, — злым хриплым голосом добавил начальник манежа, — всегда что-нибудь мешает… Нос, например!
— Ну, Денис Платоныч, если и твои гусары… хе-хе… так ездят, то я буду вынужден пригласить тебя в цирк… — сказал ехидный старичок, — чтобы, так сказать, компенсировать сегодняшнее представление. Хе, хе, хе…
— Что у нас там следующим номером программы? — Судья-информатор посмотрел список. — Так, Пономарёв, конь ему по жребию выпал Нерон… Ну что ж, посмотрим, какую нам этот пономарь обедню отслужит.
У Панамы тряслись руки, кисти были холодными и прыгали, как лягушки. Нерон тоже волновался, всхрапывал и копал копытом.
— Смотри ты, — сказал Бычун, — Нерон-то горячится, вроде как порядочный конь. — Миша пытался шутить, но и у него от волнения были до синяков искусаны губы.
— Вызывается шестнадцатый номер!
— Меня! — сказал Панама и почувствовал, как сердце горячим комком оборвалось в груди.
«Нет, — подумал он, — так ехать нельзя, нужно успокоиться. Нужно о чём-нибудь спокойном и хорошем подумать». Он вспомнил кинотеатр, куда они пошли все вчетвером, и как они ели мороженое в фойе, а Столбов строил такие рожи, что их чуть не выпели из зала.
И Юлька тоже смеялась. А когда они проводили её домой, она вдруг повернулась и сказала: «Ребята! Я вас очень люблю! Я бы без вас совсем пропала!»
А теперь все трое: и Маша, и Юлька, и Столбов — сидят где-то на трибунах и переживают за него.
— Давай, давай садись! — торопил Бычун. — Ну-ка, я стремя подержу. Сел. Ну, всё нормально! Картинка! Повод не затягивай, и всё будет как надо. Ну, пошёл!
Панама выехал на залитое солнцем поле. Волнами доносился шум с трибун. Хлопали праздничные флаги, пестрели свежевыкрашенные барьеры.
Панама резко взял повод, и конь весёлым галопом пошёл на середину. Поворот. Поклон судьям. Ну, это-то Панама умеет делать красиво. Недаром их Денис Платонович целое занятие учил. Шапку нужно снимать чётко, в два приёма. Раз-два и резко подбородок к груди.
— Это твой? — спросил старичок в судейской ложе.
— Мой! — отвечал старый тренер.
— Ну, кланяться ты их научил, посмотрим, научил ли садить…
Донна-донннн! — звякнул судейский колокол. И Панама повёл Нерона на первый барьер. Конь шёл очень резво, но мальчику капалось, что всё движется медленно и плавно, как во сне. Исчез шум трибун, не слепило солнце, остался только он и горячо дышащая лошадь. Посыл! Ему показалось, что прыжок длится бесконечно долго.
— Ух ты, — сказал журналист в судейской ложе, — с каким запасом прыгнул!
— Сдаюсь, — сказал ехидный старичок, — это дитя не производит впечатление собаки на заборе.
— Очень, очень красиво и свободно сидит! — сказал газетчик.
— Сажали крепко, вот и сидит… его теперь хоть вверх ногами переверни, он из седла не выпадет! — повеселел председатель.
— Посмотрим, как он пройдёт «гвоздь программы», — опять встрял старичок во фраке.
«Гвоздём» был забор и широкая канава за ним. Пока ещё ни один всадник не сумел послать коня на это препятствие. Панама вёл коня коротким галопом, чуть подаваясь вперёд при скачке. Впереди торчали планки забора. Панама на секунду дрогнул и сейчас же почувствовал, как Нерон приготовился перейти на рысь. Панама начал «качать» поводом.
— Нерон, голубчик! — просил он. — Давай, давай!
Но конь, словно нарочно, замедлял бег: он помнил, что сегодня уже двое всадников на нём доходили до этого препятствия и останавливались.
— Да пойдёшь ты или нет! — крикнул Панама и дал шпоры. Нерон дёрнулся вперёд. «Эх! — тоскливо подумал мальчишка. — Темп потерял! Теперь не смогу правильно посыл дать!» — Ну давай! Давай! Славный конёк! А теперь прыгай! — И он ударил лошадь хлыстом.
Конь понял сигнал и взвился над препятствием.
Денис Платонович тугим накрахмаленным платком промокнул лоб.
Весна грохотала льдом в водосточных трубах, рассыпалась воробьиным чириканьем по садам и скверам и, наконец, зазеленела первой травой на газонах.
Пономарёв разрывался между школой и манежем. И в школе и в манеже заканчивался учебный год. Игорь подрос, у него начал ломаться голос. Денис Платонович уже больше не зовёт его «мальчик», а всё больше «Игорь» или «Пономарёв».
— Завтра у нас большие состязания, так вы уж, Игорь, придите пораньше, поможете мне одеться.
— Есть, — отвечает Игорь.
Помочь мастеру одеться перед соревнованием — это старая традиция, такой чести удостаиваются только самые лучшие ученики. Игорь горд и счастлив, когда на следующий день он, только что пришедший от парикмахера, стоит в тренерской, держа вешалку с одеждой Дениса Платоновича.
Старик чисто выбрит, напудрен и завит. Он долго расчёсывает усы перед зеркалом.
— Брюки, — говорит он, не оборачиваясь, и влезает в белые узкие штаны. — Сапоги… О…о…о… — начинает он кряхтеть, натягивая высокие, тонкой кожи сапоги. — Чёртов сапожник, совершил такие немыслимые голенища, это ж какие-то перчатки, а не сапоги…
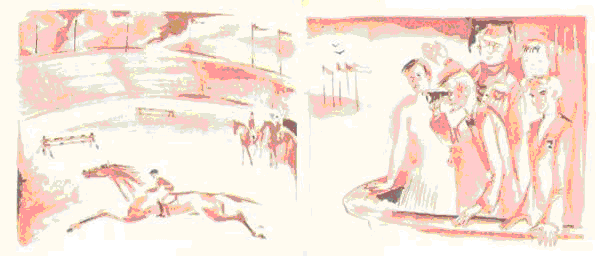
Наконец и сапоги, сияющие чёрным лаком, на месте. Тренер прохаживается, постукивая высокими каблуками.
— Сюртук!
Тёмно-синий, мягкого сукна сюртук с бархатным воротником и бархатными манжетами ловко лёг на плечи. На Игоре такой же костюм, только сюртук ярко-алый.
— Ну что ж, пора! — поправляя кружевной манжет рубашки, говорит тренер.
И вот они выезжают на ярко-зелёное поле ипподрома, где пестрят полосатыми боками препятствия. Громит оркестр, шумят трибуны, и кони нервно переступают точёными ногами.
Соревнования шли своим чередом. Наверху, в главной ложе, судья следил за участниками, и на лицо у него было такое выражение, точно он съел что-то кислое.
— Это что, все так кататься будут? — спросил он скучным голосом, глядя, как очередной всадник не может послать лошадь на препятствие.
— Они ездят лучше, я не знаю, что с ними такое сегодня. Волнение сказывается… — заступилась за своих женщина-тренер.
— Вот я и говорю: катаются. Им бы по дорожкам в садике кататься…
Помощник председателя, маленький старичок во фраке, снял пенсне и, протирая его, произнёс:
— Такое впечатление, что некоторые юноши с трудом различают, где у животного голова, а где хвост… От всего этого хочется лечь и тихо умереть. Сидят как собаки на заборе.
— Барьеры высоковаты, — вставил журналист, который тоже сидел в судейской ложе.
— Барьеры стандартные, — возразил Денис Платонович, не меняя позы.
— Плохому танцору, — злым хриплым голосом добавил начальник манежа, — всегда что-нибудь мешает… Нос, например!
— Ну, Денис Платоныч, если и твои гусары… хе-хе… так ездят, то я буду вынужден пригласить тебя в цирк… — сказал ехидный старичок, — чтобы, так сказать, компенсировать сегодняшнее представление. Хе, хе, хе…
— Что у нас там следующим номером программы? — Судья-информатор посмотрел список. — Так, Пономарёв, конь ему по жребию выпал Нерон… Ну что ж, посмотрим, какую нам этот пономарь обедню отслужит.
У Панамы тряслись руки, кисти были холодными и прыгали, как лягушки. Нерон тоже волновался, всхрапывал и копал копытом.
— Смотри ты, — сказал Бычун, — Нерон-то горячится, вроде как порядочный конь. — Миша пытался шутить, но и у него от волнения были до синяков искусаны губы.
— Вызывается шестнадцатый номер!
— Меня! — сказал Панама и почувствовал, как сердце горячим комком оборвалось в груди.
«Нет, — подумал он, — так ехать нельзя, нужно успокоиться. Нужно о чём-нибудь спокойном и хорошем подумать». Он вспомнил кинотеатр, куда они пошли все вчетвером, и как они ели мороженое в фойе, а Столбов строил такие рожи, что их чуть не выпели из зала.
И Юлька тоже смеялась. А когда они проводили её домой, она вдруг повернулась и сказала: «Ребята! Я вас очень люблю! Я бы без вас совсем пропала!»
А теперь все трое: и Маша, и Юлька, и Столбов — сидят где-то на трибунах и переживают за него.
— Давай, давай садись! — торопил Бычун. — Ну-ка, я стремя подержу. Сел. Ну, всё нормально! Картинка! Повод не затягивай, и всё будет как надо. Ну, пошёл!
Панама выехал на залитое солнцем поле. Волнами доносился шум с трибун. Хлопали праздничные флаги, пестрели свежевыкрашенные барьеры.
Панама резко взял повод, и конь весёлым галопом пошёл на середину. Поворот. Поклон судьям. Ну, это-то Панама умеет делать красиво. Недаром их Денис Платонович целое занятие учил. Шапку нужно снимать чётко, в два приёма. Раз-два и резко подбородок к груди.
— Это твой? — спросил старичок в судейской ложе.
— Мой! — отвечал старый тренер.
— Ну, кланяться ты их научил, посмотрим, научил ли садить…
Донна-донннн! — звякнул судейский колокол. И Панама повёл Нерона на первый барьер. Конь шёл очень резво, но мальчику капалось, что всё движется медленно и плавно, как во сне. Исчез шум трибун, не слепило солнце, остался только он и горячо дышащая лошадь. Посыл! Ему показалось, что прыжок длится бесконечно долго.
— Ух ты, — сказал журналист в судейской ложе, — с каким запасом прыгнул!
— Сдаюсь, — сказал ехидный старичок, — это дитя не производит впечатление собаки на заборе.
— Очень, очень красиво и свободно сидит! — сказал газетчик.
— Сажали крепко, вот и сидит… его теперь хоть вверх ногами переверни, он из седла не выпадет! — повеселел председатель.
— Посмотрим, как он пройдёт «гвоздь программы», — опять встрял старичок во фраке.
«Гвоздём» был забор и широкая канава за ним. Пока ещё ни один всадник не сумел послать коня на это препятствие. Панама вёл коня коротким галопом, чуть подаваясь вперёд при скачке. Впереди торчали планки забора. Панама на секунду дрогнул и сейчас же почувствовал, как Нерон приготовился перейти на рысь. Панама начал «качать» поводом.
— Нерон, голубчик! — просил он. — Давай, давай!
Но конь, словно нарочно, замедлял бег: он помнил, что сегодня уже двое всадников на нём доходили до этого препятствия и останавливались.
— Да пойдёшь ты или нет! — крикнул Панама и дал шпоры. Нерон дёрнулся вперёд. «Эх! — тоскливо подумал мальчишка. — Темп потерял! Теперь не смогу правильно посыл дать!» — Ну давай! Давай! Славный конёк! А теперь прыгай! — И он ударил лошадь хлыстом.
Конь понял сигнал и взвился над препятствием.
Денис Платонович тугим накрахмаленным платком промокнул лоб.
Глава заключительная
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ
— Школа, равняйсь! Смирно!
Замирают шеренги всадников, замирают тренеры, конюхи, ветеринары. Слышно только, как позвякивают удилами кони да хлопают на весёлом весеннем ветру флаги.
— Сегодня мы присваиваем очередной спортивный разряд нашим воспитанникам! За время обучения ребята прошли не только большую специальную подготовку, они научились любить коней, научились сострадать им, научились преодолевать себя. Ибо без этого конный спорт невозможен…
Пономарёв ловит каждое слово. Смотрит на торжественные лица старых конников, что стоят на трибуне. Вот Денис Платонович, рядом с ним старичок во фраке.
— В соответствии с правилами нашей школы молодые конники получают коней, которые будут закреплены за ними. Желаю вам, чтобы вы не только нашли контакт с лошадьми, но и чтобы между собой вы всегда шли стремя в стремя, как ваши наставники и старшие спортсмены.
— Коней!
Со стороны конюшен торжественно выходит группа коневодов. Они ведут осёдланных коней.
«Что это? думает Панама. — Это же Конус! Конус! Это же конь Бориса Степановича». Он не видит коневода. Но вот шеренга разворачивается.
— Это же Борис Степанович! — чуть не вскрикивает Пономарёв. Тяжело припадая на больную ногу, учитель ведёт коня.
— К столу квалификационной комиссии вызывается Пономарёв Игорь Владимирович.
Он не сразу соображает, что это его.
— Вот здесь и здесь распишись, — говорит секретарь.
Панама ставит подпись в каких-то бумагах.
— Передать коня его новому владельцу!
Борис Степанович подводит Панаме Конуса.
— Ну, — говорит он, — получай.
— Что? — растерялся Панама.
— Не что, а кого. Конуса получай!
— Нет! — чуть не кричит Панама. — Это ваш конь. Я не могу его принять! Не надо…
— Это твой конь, говорит учитель. — Я ещё нездоров, а коню нужна работа. Это теперь твой конь. Ты его заслужил.
— Чем?
— Добротой, вероятно, — говорит подошедший Денис Платонович. — Помнишь, как ты к нему ночью прибежал?.. Так владей!
— Прощай, дорогой! — говорит Борис Степанович и прижимается лицом к голове коня. И они оба замирают,
Панама готов заплакать. Борис Степанович целует коня в замшевые ноздри. Он бледен, и у него дрожат губы.
— Бери. — Учитель вкладывает в руку Панамы повод. — Всё хорошо. Всё хорошо. Я рад, что этот конь тебе, а не кому-нибудь другому.
В тот ранний утренний час, когда дворники в белых фартуках поливают улицы и маленькие радуги пляшут над шлангами, по городу едут три всадника. Услышав цокот копыт, от которого давно отвыкли городские улицы, прохожие останавливаются, оглядываются, и на их лицах появляется необычное выражение.
Три всадника — седой красивый старик и два мальчика — ловко сидят на стройных конях.
Их алые сюртуки, белые брюки и сияющие лаком сапоги отражаются в мокром голубом асфальте.
Машины уступают им дорогу, весело подмигивают светофоры, и кажется, что все кони с крыш домов и постаментов памятников радостно приветствуют их.

Замирают шеренги всадников, замирают тренеры, конюхи, ветеринары. Слышно только, как позвякивают удилами кони да хлопают на весёлом весеннем ветру флаги.
— Сегодня мы присваиваем очередной спортивный разряд нашим воспитанникам! За время обучения ребята прошли не только большую специальную подготовку, они научились любить коней, научились сострадать им, научились преодолевать себя. Ибо без этого конный спорт невозможен…
Пономарёв ловит каждое слово. Смотрит на торжественные лица старых конников, что стоят на трибуне. Вот Денис Платонович, рядом с ним старичок во фраке.
— В соответствии с правилами нашей школы молодые конники получают коней, которые будут закреплены за ними. Желаю вам, чтобы вы не только нашли контакт с лошадьми, но и чтобы между собой вы всегда шли стремя в стремя, как ваши наставники и старшие спортсмены.
— Коней!
Со стороны конюшен торжественно выходит группа коневодов. Они ведут осёдланных коней.
«Что это? думает Панама. — Это же Конус! Конус! Это же конь Бориса Степановича». Он не видит коневода. Но вот шеренга разворачивается.
— Это же Борис Степанович! — чуть не вскрикивает Пономарёв. Тяжело припадая на больную ногу, учитель ведёт коня.
— К столу квалификационной комиссии вызывается Пономарёв Игорь Владимирович.
Он не сразу соображает, что это его.
— Вот здесь и здесь распишись, — говорит секретарь.
Панама ставит подпись в каких-то бумагах.
— Передать коня его новому владельцу!
Борис Степанович подводит Панаме Конуса.
— Ну, — говорит он, — получай.
— Что? — растерялся Панама.
— Не что, а кого. Конуса получай!
— Нет! — чуть не кричит Панама. — Это ваш конь. Я не могу его принять! Не надо…
— Это твой конь, говорит учитель. — Я ещё нездоров, а коню нужна работа. Это теперь твой конь. Ты его заслужил.
— Чем?
— Добротой, вероятно, — говорит подошедший Денис Платонович. — Помнишь, как ты к нему ночью прибежал?.. Так владей!
— Прощай, дорогой! — говорит Борис Степанович и прижимается лицом к голове коня. И они оба замирают,
Панама готов заплакать. Борис Степанович целует коня в замшевые ноздри. Он бледен, и у него дрожат губы.
— Бери. — Учитель вкладывает в руку Панамы повод. — Всё хорошо. Всё хорошо. Я рад, что этот конь тебе, а не кому-нибудь другому.
В тот ранний утренний час, когда дворники в белых фартуках поливают улицы и маленькие радуги пляшут над шлангами, по городу едут три всадника. Услышав цокот копыт, от которого давно отвыкли городские улицы, прохожие останавливаются, оглядываются, и на их лицах появляется необычное выражение.
Три всадника — седой красивый старик и два мальчика — ловко сидят на стройных конях.
Их алые сюртуки, белые брюки и сияющие лаком сапоги отражаются в мокром голубом асфальте.
Машины уступают им дорогу, весело подмигивают светофоры, и кажется, что все кони с крыш домов и постаментов памятников радостно приветствуют их.

