(Спуск и подъем трала, этакого большого мешка из многослойного капрона, — дело на больших глубинах не простое и не скорое. Особенно тяжко это дается при волне и ветре. Здесь очень много зависит от того, кто командует судном: требуется удерживать его в нужной позиции, чтобы драга не дергалась слишком резко, чтобы трос шел под нужным углом и бог знает что еще. Если учесть, что с обоих бортов спускается несколько тросов с разными подвесками, то задача получается как у жонглера, который удерживает в равновесии десяток предметов. К тому же тралы и другие донные приборы имеют гнусное обыкновение цепляться за что-нибудь и рвать трос. Это уже порядочная неприятность. Отчет о любом рейсе содержит похоронные строки: трос оборвался, трал потерян. Хорошо, если один.)
— Вот такой ажиотаж был вокруг этого памятного трала. Расхватали свою нечисть донную органики, остальное — на геохимический анализ. Остальное это конкреции, на вид самые обыкновенные, даже хуже иных, которые раньше доставали. Мы как раз с Владимиром Сергеевичем сидели, программу на завтрашний день обсуждали. Вбегает Саша, лаборант-спектроскопист. Он вообще-то человек неспокойный, а тут прямо сам не свой. «Владимир Сергеич, гляньте-ка!»
(Владимир Сергеевич Соколов — начальник экспедиции, я о нем много слышал, но не знаком.)
— В экспресс-анализе сообщают оценочное содержание главных компонентов и выделяют особо, если что-нибудь необычное замечено. Несколько строк было подчеркнуто красным. Владимир Сергеевич глянул и прямо на глазах стал от волнения розоветь. Взял перо, еще раз зачем-то подчеркнул те же строки и подвинул по столу листочек ко мне. Действительно, это был необыкновенный улов. Впервые в конкрециях найдены металлы платиновой группы, платина и иридий в существенных количествах. Существенных в смысле десятых долей процента. От экспресс-анализа особой точности ждать не приходится. «Будьте добры, Саша, покажите капитану», сказал Владимир Сергеевич, забирая у меня листок. Саша опрометью выскочил из каюты, а через десять минут пришел капитан. По-моему, он был доволен не меньше нас. Но это можно было понять, только зная его пятнадцать лет.
(Уж это точно: он и на суше таков. Свои чувства показывать не любит. Когда одолевает тревога — подчеркнуто спокоен, когда впору бежать сломя голову — нетороплив как в замедленном фильме.)
— Мы рассчитывали, что в этом специальном рейсе найдем что-нибудь новое в конкрециях. Элементов как-никак мы знаем за сотню, и следы редких лантаноидов или актиноидов вполне могли обнаружиться. Но тут было гораздо большее и, может быть, перспективное. Конечно, надо было проверять, закреплять, уточнять. Через полчаса в воду пошел новый трал, но тут-то и начались неприятности, и уж их хватало.
Ночь темная, хоть глаз выколи. От судовых прожекторов свет какой-то фантастический. А волнение на океане все усиливается. Прошло два часа, вытравили тысячи три метров. У лебедки стоял матрос, Сергеев Алеша. Крепыш такой, не то вятский, не то вологодский. И тут он, представьте себе, видит в качающемся таком, неверном свете, как несколько жил троса расползаются у него на глазах. Еще секунды, и это место уйдет в воду, там трос порвется, и прощай наш трал вместе с тремя километрами троса. И ведь не растерялся парень. Мгновенно остановил лебедку, но трос-то все равно тянет. Так он руками его схватил, правая по одну сторону разрыва, левая — по другую. Счастье, что он в рукавицах был. И кричит сдавленным от натуги голосом: «Ребята, стопор давайте!»
Тут, конечно, люди подбежали, трое захватили, ослабили. Когда Сергеев рукавицы снял, все ахнули: руки были совершенно синие. Ни одной царапины, а внутри кровотечения. Капитан подошел, за плечи обнял. Это у него, кажется, высший знак одобрения. Рассмотрели разрыв, еще трос потравили, а там опять подозрительное место. Пришлось вырубать и новый сплесень делать. Это, я вам скажу, ночка была. Сплетать многожильный сантиметровый трос вручную — в любых условиях не простое дело, а ночью, при изрядной качке на первый взгляд просто невозможное. Вся ночь за этой работой прошла, утром только запустили лебедку.
Капитан всю ночь и весь следующий день на вахте простоял. Владимир Сергеевич к нему несколько раз подходил: «Михал Михалыч, отдохни, поспи!» Нет: отошел только закусить, полежал полчаса и опять в рубке. И не потому, что не доверяет. Старпом Жарков Иван Петрович с ним несколько раз плавал, каждую мелочь досконально знает, друг друга они с капитаном, как говорится, с полуслова понимают. А вот: во-первых, морская традиция, а во-вторых, характер. Если положение особое, на вахте должен быть капитан.
Дошел, наконец, трал до дна, протащили его как следует, начали поднимать. Все прямо чуть богу не молятся, чтоб поднять его без происшествий. О том, какой улов был накануне, людям, конечно, известно. Что-то даст теперь царь морской? Что означали вчерашние находки: случайную шутку природы или новую важную закономерность? Все волнуются, а синоптик, кажется, больше всех. Уж и без синоптика видно, что непогода надвигается. А тросу на всех наплевать: мотается монотонно, бесконечно. Кажется, он так до скончания века мотаться будет. Капитан своей ювелирной работой занят: десять метров вперед, двадцать метров вправо. Так час за часом.
Наконец показался трал. Тут уже органики скромно держались: не их час. Владимир Сергеевич сам в лабораторию пошел. Сенсация! Содержание платиновых металлов больше, чем в самых богатых рудах. Несколько конкреций — почти что платиновые самородки. Осмий, иридий, рутений. В общем, если вы помните таблицу, вся восьмая группа, конечно, на железомарганцевой основе. Такие открытия в океане не часто случаются. Капитана позвали в лабораторию поглядеть на добычу.
Планерка — как военный совет в Филях. Дело опять к ночи, похоже, мало кому и эту ночь спать придется. Синоптик докладывает: если останемся на месте, есть шанс оказаться близко к центру циклона. По всем морским законам, надо, не медля ни минуты, уходить в сторону, пропустить ураган мимо. Если есть точные координаты, можно, конечно, уйти и вернуться снова…
— А почему не было координат? — спросил я.
— В том-то и дело! — почти закричал Николай Иванович. Он был теперь во власти своего рассказа, говорил громко и жестикулировал так, что редкие прохожие оглядывались на нас. — В том-то и дело! Надо же так случиться, что часа за два до планерки сломалась какая-то чертовщина у радистов. Они там возились как бешеные, но неизвестно было, когда исправят. Поэтому по «Лорану» не могли определиться. А звезд на небе и в помине не было, черное небо как чернила. Вот и выходило: знаем свое положение с точностью до 5 7 минут, а это, может быть, добрых 15 километров.
— И потеряли бы место?
— Конечно! Черт их знает, эти платиновые. Может, они небольшой участок дна покрывают. Искать потом этот участок заново — как иголку в стогу сена. Если бы не циклон, ясно что делать: оставаться на месте, взять еще несколько проб, попытаться очертить границы месторождения. Дилемма на редкость неприятная. Прежде всего для капитана. Он хозяин на судне. Он отвечает за государственное имущество и за жизнь людей.
Начальник геологического отряда сам не свой: открытие в руках, а может уплыть. Останется как курьез, как память о прошедшей мимо фантастической удаче. Начальнику экспедиции тяжко; он и сам геохимик, может, это и его звездный час. Но, с другой стороны, как давить на капитана?
Колесников сидит в кресле, молчит, слушает. Помполит на него поглядывает, да и все его слова ждут. Старпом твердо на своем стоит: немедленно уходить. В сущности, он прав. Мы находимся примерно в тысяче миль к востоку от Филиппин, в классической зоне тайфунов. Нет никаких оснований, что «Беттина» окажется милосерднее своих предшественниц. Люди устали, раздражены. Ветер усиливается. Пожалуй, еще несколько часов, и будет поздно уходить.
Тут наконец капитан сказал. То мрачный сидел, как туча, складки на лице залегли бороздами. А сказал и вдруг улыбнулся, борозды исчезли. И всем легко стало. Отчасти, конечно, потому, что человек за всех решение принял. Но так сказать — людей обидеть. Внутренне все такого решения хотели. Может быть, и старпом даже. Во всяком случае, расходились все веселые, точно подарки получили.
Ночь была тяжелая, а день и того хуже. Работали как черти. Но риск оправдался: «Беттина» чуть свернула еще на север и самое страшное не состоялось. А забортные работы своим ходом шли, несмотря ни на что. Один трал, правда, сорвало, но об этом уже не очень жалели. Ради такого дела можно было чем-то пожертвовать. Донного материала натаскали тонн двадцать. Утром радисты обрадовали: «Лоран» заработал, координаты с большой точностью есть. От трех-четырех бессонных ночей люди с ног валились. Иной поспит часа два и опять к лебедке. Саше-лаборанту плохо стало, так его врач силой в постель уложил. На одном капитане ничего не заметно: всегда побрит, аккуратен. Но устал он страшно. Наутро после шторма сдал вахту Жаркову и к себе пошел. Я случайно его в этот момент подсмотрел. Он уже скинул напряжение, может, думал, никто его не видит. А я вдруг понял: он же очень немолодой человек. И много переживший: война, блокада… Следующим утром встречаю его и думаю: нет, все это мне показалось, нет этому человеку износу…
Мы сидели на скамейке под деревьями. Смолисто пахли сосны, был совсем еще летний день. Странно было представить себе бурный океан в тысяче миль к востоку от Филиппин. Николай Иванович замолчал. Наверно, мы оба думали об одном. Я спросил:
— А что же платиновые металлы?
— Большое открытие. Теперь в Москве идут детальные исследования. Говорят, что надо еще одну экспедицию туда послать. А место это назвать полигоном Колесникова.
ОШИБКА СВЕТОНИЯ
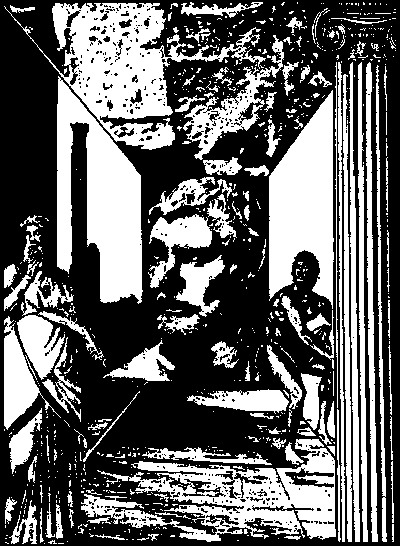
Историки говорят: биография Гая Светония Транквилла, автора «Жизни двенадцати цезарей», которой зачитывались поколения и поколения, полна неясностей. Полагают, что он родился около 70 года нашей эры, в правление Веспасиана. Дата его смерти неизвестна. Большинство сочинений Светония до нас не дошло.
Он был уже заметным ученым и писателем, когда Адриан, ставший императором в 117 году, сделал его своим доверенным лицом, дал высокий пост при дворе. Но через пять лет Светоний был неожиданно уволен в отставку.
Все, что мы знаем об этом деле, заключено в следующих строках историка Элия Спартиана, жившего два столетия спустя и описавшего жизнь Адриана:
«Он сменил префекта претория Септиция Клара и государственного секретаря Светония Транквилла, а также многих других за то, что они тогда держали себя на половине его жены Сабины более свободно, чем это было совместимо с уважением к императорскому двору. И со своей женой, как он говорил, он развелся бы из-за ее угрюмости и сварливости, если бы был частным человеком».
Светоний оказался не у дел. Возможно, он прожил после этого лет двадцать, а то и тридцать. Писал много и на разные темы. Может быть, опала была для него в конечном счете удачей?
Что же произошло около 122 года при дворе Адриана?
То, что следует ниже, представляет собой попытку «реконструкции» важнейшего эпизода жизни Светония. Это похоже на реконструкцию памятника архитектуры по его фундаменту или ископаемого животного по части скелета.
В свои пятьдесят лет Светоний начал седеть и лысеть, но и то и другое еще мало изменило его изящную голову. Когда речь зашла о годах, он сказал, что охотно предоставляет поле битвы обоим врагам: быть может, они будут сдерживать друг друга.
Гость, Марк Лициний Флакк, был товарищем детских игр Светония. Как и Светоний, он происходил из всаднического рода. После школы судьба развела их. Светоний отказался от обычной в их сословии военной карьеры и углубился в науки. Лициний отправился с легионами в Германию, а потом участвовал почти во всех походах императора Траяна. Лишь изредка встречались они, когда Лициний приезжал в Рим. Смерть Траяна остановила его восхождение. Прослужив несколько лет в далекой Дакии, он вернулся в Рим со шрамами от многих ран и с ревматизмом.
Вилла Светония была расположена в четырех-пяти часах верховой езды от города. В открытой столовой они наслаждались покоем мягкого весеннего дня.
Обед подходил к концу. Безмолвный раб вынес последние, почти не тронутые блюда, мальчик-нубиец наполнил кубки. Они остались одни.
— Как видно, жизнь твоя течет привычным порядком, несмотря на опалу? — сказал Лициний, продолжая неторопливую беседу.
— Скорее он был нарушен раньше, приближением ко двору и службой. Опала лишь восстановила этот порядок.
Нижняя губа Светония была все время слегка поджата, как будто в едва заметной иронической полуулыбке. «Совсем как тридцать пять лет назад!» подумал Лициний.
Тридцать пять лет! Это было в дни императора Домициана, последнего из цезарей, чью жизнь Светоний описал в своем сочинении. Лициний получил его список в Дакии и прочел с жгучим интересом.
— Послушай, Светоний, мы отвыкли друг от друга, — сказал Лициний. Слишком долго жили по-разному. Ты — философ, а я — солдат, в сущности, только простой и грубый солдат…
Светоний задумчиво смотрел вдаль, на зеленые холмы, озаренные солнцем. Он повернулся к собеседнику и остановил его жестом руки, вытянутой ладонью вниз.
— Думаю, ты преувеличиваешь. Правда, я книжный человек, как сказал еще Плиний. Но моя жизнь шла не только среди книг, а среди людей, в том числе и воинов. Что до тебя, то твоя рука одинаково хорошо держит и меч и перо. Я с большим удовольствием прочел твои записки о Дакии. Спасибо, что ты догадался прислать мне их… Как передовую центурию, за которой последовал весь тяжело вооруженный легион…
Он веселым взглядом окинул массивную фигуру Лициния, отяжелевшую, видимо, за самые последние годы гарнизонной службы в маленькой крепости. Туника белой шерсти открывала могучую грудь, густо поросшую седыми волосами.
— Я хотел спросить, — продолжал Светоний, — что ты думаешь о землях, лежащих дальше к северу и востоку от Дакии? Мыслимо ли и нужно ли Риму их завоевание? Правда, нынешний император миролюбив, но Рим так могуч, что стремление дальше раздвигать границы может оказаться непреодолимым. Если не у Адриана, то у его преемников.
— Решительно немыслимо и не нужно, — ответил Лициний. — Эти племена рассеяны по бескрайним просторам, и о них известно немногим больше, чем во времена Геродота…
— Ты помнишь, как мы заучивали Геродота, — прервал его Светоний, поддавшись воспоминаниям.
— Конечно, — усмехнулся Лициний. — Я получил бы тогда порку от рыжего верзилы Квинта, если бы ты не дал мне переписать проклятый греческий текст. Должен тебе сознаться, что я теперь не силен в греческом. Мне ведь пришлось служить не в Элладе, как иным счастливчикам, а в местах, где и латынь доводилось слышать не каждый день.
Они выпили довольно много вина, особенно Лициний. Его широкое лицо стало медно-бурым. Светоний был обычно так воздержан, что два кубка, которые он опорожнил, слегка опьянили его. Их беседа становилась беспорядочнее и сердечнее.
Он хлопнул в ладоши. Бесшумно вошел мальчик и по его приказанию принес еще кувшин фалернского и блюдо прошлогоднего винограда, хорошо сохранившегося в погребах виллы.
— Ты спрашиваешь меня о варварах, живущих в степях и лесах за Понтом… — Лициний, оказывается, обдумывал его вопрос. — Тебя, наверно, удивляет, что мы так мало знаем об этих сарматах и скифах. Ведь границы Рима вплотную придвинулись к их землям. Но они не допускают к себе купцов и путешественников, а когда мы попытались проникнуть туда военной силой, это кончилось для нас печально. Торгуют они так: в назначенное место приносят свои товары и оставляют для обмена. Ты должен оставить, в свою очередь, то, что считается нужным для них. Жители пограничных районов это отлично знают. Если варвары недовольны обменом, они больше не появляются. Ради чего завоевывает Рим новые провинции? Что бы ни заявляли сенаторы и их клевреты, мы с тобой это хорошо знаем: ради рабов. Но сарматы и скифы совершенно негодные рабы. Я сам видел четырех варваров — двух мужжин и женщину с ребенком, — которые перерезали себе горло, когда их привели пленниками в нашу крепость. Один из мужчин незаметно спрятал под одеждой нож, и они передавали этот нож друг другу. Женщина, прежде чем зарезать себя, убила ребенка. Уверяю тебя, я видел в жизни немало ужасов, но эта картина…
Светоний заметно побледнел. Он был мягкосерд и чувствителен. Когда ему по долгу службы и положению приходилось бывать на кровавых зрелищах в новом амфитеатре Флавиев, для него это каждый раз было тягостно.
В книге Светоний должен был много рассказывать о злодеяниях, пытках и казнях, которыми были наполнены времена недавних правителей. Он писал в надежде, что это — только прошлое, которому не позволят вернуться разум и просвещение. Казалось, нравы и порядки при Траяне и Адриане подтверждали это.
Светоний был огорчен своей незаслуженной опалой и обижен на Адриана. Но он лучше многих знал и то, что при другой власти он легко мог попасть не на свою уютную виллу, а в руки палача.
…Вечерело. Солнце спускалось к холмам, за которыми едва ощутимо дышало невидимое море. Они еще раньше договорились, что Лициний останется ночевать. Поэтому спешить было некуда. Лициний, как и хозяин, был холост. В Риме он жил пока в доме своего богатого вольноотпущенника и готовился ехать на воды для лечения…
— Твои рассказы замечательны, — сказал Светоний. — Если бы ты согласился, я посадил рядом с нами скорописца, раба-грека, чтобы он записал главное. Не сегодня, разумеется…
Лициний засмеялся.
— Ты — истинный ученый, Светоний. И как истинный ученый, слегка педант. Без этого, наверно, ты бы не мог сделать так много. Честно говоря, я не всему верил, что говорили. Правда ли, что ты сочинил том о римских состязаниях и изучал бранные слова?
Светоний улыбнулся смущенно.
— Сознаюсь, сознаюсь… После того как я купил этот клочок земли, он обвел рукой воображаемые границы своего поместья, — у меня было несколько лет досуга для моих трудов. Хозяйство здесь, как видишь, небольшое, оно только в меру развлекает меня. Мне тогда казалось, что мой долг — описать для будущих поколений быт, язык, нравы нашего народа. Этого хотел и покойный Плиний.
— Говорят, ты был с ним близок?
— Да, — с легкой гордостью подтвердил Светоний, — могу сказать, что он был мне другом. Пожалуй, больше, чем другом. Он был моим постоянным советчиком, если хочешь, покровителем…
Светоний помедлил и продолжал:
— Мой характер, видимо, создан так, что нуждается в руке друга, которая бы меня направляла и подталкивала. Кроме того, я знаю, что неопытен и непрактичен в делах повседневной жизни. Думаю, этот опыт я уже не приобрету.
— Друг мой, — сказал Лициний с неожиданным чувством и силой, — ты хорош именно таков, каков ты есть. Я бы очень не хотел, чтобы ты стал другим. Право, я люблю тебя, Светоний, и теперь больше, чем в юности. Когда я возвращался из Дакии, мне встретился в Брундизии один патриций. Он сказал, что ты не то тяжело болен, не то даже умер. Я так рад, что он солгал.
Светонию стало немного неловко. Человек сдержанный, он стеснялся выражения чувств, даже приятных ему.
— Как все же случилось, что ты поссорился с императором? — напрямик спросил Лициний. — Ведь вы, кажется, подходите друг другу: Адриан человек ученый и покровительствует наукам. К тому же, как говорят, он разумен и справедлив. Когда до меня дошла весть, что ты занял важную должность при его особе, я возблагодарил богов. Наконец-то, думал я, цезаря будут окружать люди, которые помогут ему мудро править империей.
— Мое влияние было вовсе не так велико, как тебе кажется, — сказал Светоний. — Самое большее, я ведал перепиской императора с правителями провинции и с союзниками. Я ничего не решал.
— Но ты составлял письма! Ты мог подсказать решение, мог выразить его волю по своему разумению.
— Да, это бывало, — согласился Светоний. — Но больше в частных, нерешающих вопросах. Адриан любил поручать мне дела, которые касались философов, ваятелей, художников. Я вел по этим делам всю переписку с Грецией.
Светоний знал, что собеседник ждет ответа на свой вопрос. Он помолчал, едва заметно вздохнул и продолжал:
— Видишь ли, дорогой Лициний, я сделал ошибку, недопустимую для царедворца. Именно потому и сделал, что не мог стать настоящим царедворцем. Я сказал императору правду, когда ему была скорее нужна ложь.
Лициний недоуменно поднял бровь, но промолчал.
— Позволь мне рассказать все по порядку. Но прежде пойми вот что. Адриан действительно человек ученый и справедливый. Но каким бы человеком он ни был, он прежде всего правитель. Как человек, Адриан может рассуждать подобно мне и тебе, но действовать и публично говорить он будет совсем иначе. Он будет руководствоваться вовсе не простыми и естественными человеческими чувствами, а благом государства — действительным или мнимым, долгом императора — опять-таки действительным или воображаемым. И тогда бойся тот, кто рассчитывал на его разумность и гуманность! Не скажу, что это было мне ясно с самого начала. Напротив, шесть лет назад я начинал службу, полный надежд и усердия. Я испытал немало разочарований, но служить продолжал до самого конца честно, не жалея ни сил, ни времени. Правда, два или три раза я позволил себе, ведя дело, немного изменить волю императора, действовать так, как будто я — рука человека, а не властелина мира. Однажды Адриан заметил это, и я получил выговор, впрочем, довольно мягкий. Но он ничего не забывает! Этого случая было, видимо, достаточно, чтобы его мнение обо мне изменилось. Думаю, он вспомнил его, когда решал мою судьбу…
Светоний наполнил кубки и сделал большой глоток. Гость нетерпеливо сказал:
— Но я слышал, что твоя опала каким-то образом связана с супругой Адриана. То же самое, впрочем, говорят об отставке Септиция Клара, начальника преторианцев…
— Не думаешь же ты, Лициний, что я был любовником императрицы Сабины, да еще вместе с Септицием Кларом! — Светоний не мог удержаться от широкой, немного даже пьяной улыбки.
— Не думаю, конечно. Но, откровенно говоря, Светоний, я считаю, что в Риме возможно все. Почему бы и нет, будь я проклят! Если бы ты мне сказал, что ты был ее любовником, я бы очень удивился. Но здесь случаются и более невероятные вещи. Однако объясни же мне, что произошло…
— Может быть, ты слышал, что Сабина — нелюбимая жена? Адриан не выносит ее суровый нрав, хотя сам он отчасти этому виной. По-моему, эта женщина достойна всяческой любви и уважения. Но тайны Венеры скрыты от людей. Философия в них не проникла и едва ли когда-нибудь проникнет. У Сабины есть и ум и вкус. Она всегда любила беседы философов, чтения поэтов, состязания певцов. По ее просьбе я читал ей «Жизнь цезарей» еще до завершения книги. Это не вызывало никакого неудовольствия Адриана, однажды он и сам присутствовал при чтении…
— Что же он сказал? — спросил Лициний, не подумав, что своим вопросом вновь отвлекает рассказчика.
— Сказал, что он облегчит труд будущим авторам и сам опишет свою жизнь. Не знаю, было это одобрением или порицанием моего труда… Но слушай дальше. Я был в это время близок с Септицием Кларом, и в его доме часто собирался наш круг. Сабина не могла появляться там, пока Адриан был в Риме. Но когда он надолго уехал в провинции, она почувствовала свободу. Вскоре я увидел ее у Септиция. Она приняла меры предосторожности: ее доставили в закрытых носилках, как частное лицо, к тому же было уже темно. Общество собралось небольшое. Из женщин была только Клодия, афинская гетера, возлюбленная молодого Луция Вара. Императрица, конечно, уступала ей молодостью и красотой, но не умом и тактом. Мы ели, пили, говорили и читали всю ночь. На рассвете Сабина так же осторожно отправилась домой под охраной двух рабов-германцев. От ее имени Септиций просил нас хранить этот визит в тайне. Видимо, ей понравилась наша встреча, и она появилась там еще два или три раза…
— Дальше все можно рассказать очень кратко, — продолжал Светоний после небольшого молчания. — Через несколько дней после своего возвращения Адриан принимал у меня отчет о делах. При этом было еще несколько приближенных. Выслушав, он вдруг сказал, глядя мне в глаза: «Светоний! Я получил донос, что моя жена тайно посещала дом Септиция Клара. Доносчик сообщает, что ты тоже бывал там в этих случаях и что вы занимались гнусными оргиями. Должен ли я этому верить?» Кровь бросилась мне в лицо. Не думая, я сказал: «Цезарь, твоя супруга действительно была несколько раз у Септиция в числе почтенных и уважаемых гостей. Все остальное в этом доносе — низкая клевета…» Я хотел говорить дальше, но Адриан остановил меня. «Довольно, — сказал он, — я верю тебе». На следующий день я получил его письменный приказ передать дела моему помощнику. Он благодарил за службу и назначал награду в двадцать тысяч сестерциев.
— Как же это понимать? — изумленно спросил Лициний, который чтобы лучше слышать негромкий голос Светония, поднес ладонь к уху: после удара по голове, полученного лет десять назад в Сирии, он иногда плохо слышал.
— Как понимать? — повторил раздумчиво Светоний. — Я думаю, вот как. Как мужчине и человеку Адриану были, вероятно, безразличны невинные вольности Сабины. Но как римский цезарь он не мог оставить донос, к тому же получивший огласку, без последствий. Он должен был объявить это ложью и наказать доносчика, либо признать, что проступок был, и опять-таки кого-то наказать. Когда я вспоминаю его лицо во время разговора, мне кажется, что он ожидал от меня отрицательного ответа. Или хотя бы уклончивого. Позже я узнал, что Луций Вар ответил на вопрос императора так: среди гостей была однажды матрона, лицо которой он не рассмотрел под покрывалом, но он не думает, что это была супруга цезаря; к тому же он был, мол, пьян. Но я не имел ни времени, ни хитрости, чтобы придумать подобное. Лициний, горестно сказал Светоний, — я запутался в этих сетях!
— Вот такой ажиотаж был вокруг этого памятного трала. Расхватали свою нечисть донную органики, остальное — на геохимический анализ. Остальное это конкреции, на вид самые обыкновенные, даже хуже иных, которые раньше доставали. Мы как раз с Владимиром Сергеевичем сидели, программу на завтрашний день обсуждали. Вбегает Саша, лаборант-спектроскопист. Он вообще-то человек неспокойный, а тут прямо сам не свой. «Владимир Сергеич, гляньте-ка!»
(Владимир Сергеевич Соколов — начальник экспедиции, я о нем много слышал, но не знаком.)
— В экспресс-анализе сообщают оценочное содержание главных компонентов и выделяют особо, если что-нибудь необычное замечено. Несколько строк было подчеркнуто красным. Владимир Сергеевич глянул и прямо на глазах стал от волнения розоветь. Взял перо, еще раз зачем-то подчеркнул те же строки и подвинул по столу листочек ко мне. Действительно, это был необыкновенный улов. Впервые в конкрециях найдены металлы платиновой группы, платина и иридий в существенных количествах. Существенных в смысле десятых долей процента. От экспресс-анализа особой точности ждать не приходится. «Будьте добры, Саша, покажите капитану», сказал Владимир Сергеевич, забирая у меня листок. Саша опрометью выскочил из каюты, а через десять минут пришел капитан. По-моему, он был доволен не меньше нас. Но это можно было понять, только зная его пятнадцать лет.
(Уж это точно: он и на суше таков. Свои чувства показывать не любит. Когда одолевает тревога — подчеркнуто спокоен, когда впору бежать сломя голову — нетороплив как в замедленном фильме.)
— Мы рассчитывали, что в этом специальном рейсе найдем что-нибудь новое в конкрециях. Элементов как-никак мы знаем за сотню, и следы редких лантаноидов или актиноидов вполне могли обнаружиться. Но тут было гораздо большее и, может быть, перспективное. Конечно, надо было проверять, закреплять, уточнять. Через полчаса в воду пошел новый трал, но тут-то и начались неприятности, и уж их хватало.
Ночь темная, хоть глаз выколи. От судовых прожекторов свет какой-то фантастический. А волнение на океане все усиливается. Прошло два часа, вытравили тысячи три метров. У лебедки стоял матрос, Сергеев Алеша. Крепыш такой, не то вятский, не то вологодский. И тут он, представьте себе, видит в качающемся таком, неверном свете, как несколько жил троса расползаются у него на глазах. Еще секунды, и это место уйдет в воду, там трос порвется, и прощай наш трал вместе с тремя километрами троса. И ведь не растерялся парень. Мгновенно остановил лебедку, но трос-то все равно тянет. Так он руками его схватил, правая по одну сторону разрыва, левая — по другую. Счастье, что он в рукавицах был. И кричит сдавленным от натуги голосом: «Ребята, стопор давайте!»
Тут, конечно, люди подбежали, трое захватили, ослабили. Когда Сергеев рукавицы снял, все ахнули: руки были совершенно синие. Ни одной царапины, а внутри кровотечения. Капитан подошел, за плечи обнял. Это у него, кажется, высший знак одобрения. Рассмотрели разрыв, еще трос потравили, а там опять подозрительное место. Пришлось вырубать и новый сплесень делать. Это, я вам скажу, ночка была. Сплетать многожильный сантиметровый трос вручную — в любых условиях не простое дело, а ночью, при изрядной качке на первый взгляд просто невозможное. Вся ночь за этой работой прошла, утром только запустили лебедку.
Капитан всю ночь и весь следующий день на вахте простоял. Владимир Сергеевич к нему несколько раз подходил: «Михал Михалыч, отдохни, поспи!» Нет: отошел только закусить, полежал полчаса и опять в рубке. И не потому, что не доверяет. Старпом Жарков Иван Петрович с ним несколько раз плавал, каждую мелочь досконально знает, друг друга они с капитаном, как говорится, с полуслова понимают. А вот: во-первых, морская традиция, а во-вторых, характер. Если положение особое, на вахте должен быть капитан.
Дошел, наконец, трал до дна, протащили его как следует, начали поднимать. Все прямо чуть богу не молятся, чтоб поднять его без происшествий. О том, какой улов был накануне, людям, конечно, известно. Что-то даст теперь царь морской? Что означали вчерашние находки: случайную шутку природы или новую важную закономерность? Все волнуются, а синоптик, кажется, больше всех. Уж и без синоптика видно, что непогода надвигается. А тросу на всех наплевать: мотается монотонно, бесконечно. Кажется, он так до скончания века мотаться будет. Капитан своей ювелирной работой занят: десять метров вперед, двадцать метров вправо. Так час за часом.
Наконец показался трал. Тут уже органики скромно держались: не их час. Владимир Сергеевич сам в лабораторию пошел. Сенсация! Содержание платиновых металлов больше, чем в самых богатых рудах. Несколько конкреций — почти что платиновые самородки. Осмий, иридий, рутений. В общем, если вы помните таблицу, вся восьмая группа, конечно, на железомарганцевой основе. Такие открытия в океане не часто случаются. Капитана позвали в лабораторию поглядеть на добычу.
Планерка — как военный совет в Филях. Дело опять к ночи, похоже, мало кому и эту ночь спать придется. Синоптик докладывает: если останемся на месте, есть шанс оказаться близко к центру циклона. По всем морским законам, надо, не медля ни минуты, уходить в сторону, пропустить ураган мимо. Если есть точные координаты, можно, конечно, уйти и вернуться снова…
— А почему не было координат? — спросил я.
— В том-то и дело! — почти закричал Николай Иванович. Он был теперь во власти своего рассказа, говорил громко и жестикулировал так, что редкие прохожие оглядывались на нас. — В том-то и дело! Надо же так случиться, что часа за два до планерки сломалась какая-то чертовщина у радистов. Они там возились как бешеные, но неизвестно было, когда исправят. Поэтому по «Лорану» не могли определиться. А звезд на небе и в помине не было, черное небо как чернила. Вот и выходило: знаем свое положение с точностью до 5 7 минут, а это, может быть, добрых 15 километров.
— И потеряли бы место?
— Конечно! Черт их знает, эти платиновые. Может, они небольшой участок дна покрывают. Искать потом этот участок заново — как иголку в стогу сена. Если бы не циклон, ясно что делать: оставаться на месте, взять еще несколько проб, попытаться очертить границы месторождения. Дилемма на редкость неприятная. Прежде всего для капитана. Он хозяин на судне. Он отвечает за государственное имущество и за жизнь людей.
Начальник геологического отряда сам не свой: открытие в руках, а может уплыть. Останется как курьез, как память о прошедшей мимо фантастической удаче. Начальнику экспедиции тяжко; он и сам геохимик, может, это и его звездный час. Но, с другой стороны, как давить на капитана?
Колесников сидит в кресле, молчит, слушает. Помполит на него поглядывает, да и все его слова ждут. Старпом твердо на своем стоит: немедленно уходить. В сущности, он прав. Мы находимся примерно в тысяче миль к востоку от Филиппин, в классической зоне тайфунов. Нет никаких оснований, что «Беттина» окажется милосерднее своих предшественниц. Люди устали, раздражены. Ветер усиливается. Пожалуй, еще несколько часов, и будет поздно уходить.
Тут наконец капитан сказал. То мрачный сидел, как туча, складки на лице залегли бороздами. А сказал и вдруг улыбнулся, борозды исчезли. И всем легко стало. Отчасти, конечно, потому, что человек за всех решение принял. Но так сказать — людей обидеть. Внутренне все такого решения хотели. Может быть, и старпом даже. Во всяком случае, расходились все веселые, точно подарки получили.
Ночь была тяжелая, а день и того хуже. Работали как черти. Но риск оправдался: «Беттина» чуть свернула еще на север и самое страшное не состоялось. А забортные работы своим ходом шли, несмотря ни на что. Один трал, правда, сорвало, но об этом уже не очень жалели. Ради такого дела можно было чем-то пожертвовать. Донного материала натаскали тонн двадцать. Утром радисты обрадовали: «Лоран» заработал, координаты с большой точностью есть. От трех-четырех бессонных ночей люди с ног валились. Иной поспит часа два и опять к лебедке. Саше-лаборанту плохо стало, так его врач силой в постель уложил. На одном капитане ничего не заметно: всегда побрит, аккуратен. Но устал он страшно. Наутро после шторма сдал вахту Жаркову и к себе пошел. Я случайно его в этот момент подсмотрел. Он уже скинул напряжение, может, думал, никто его не видит. А я вдруг понял: он же очень немолодой человек. И много переживший: война, блокада… Следующим утром встречаю его и думаю: нет, все это мне показалось, нет этому человеку износу…
Мы сидели на скамейке под деревьями. Смолисто пахли сосны, был совсем еще летний день. Странно было представить себе бурный океан в тысяче миль к востоку от Филиппин. Николай Иванович замолчал. Наверно, мы оба думали об одном. Я спросил:
— А что же платиновые металлы?
— Большое открытие. Теперь в Москве идут детальные исследования. Говорят, что надо еще одну экспедицию туда послать. А место это назвать полигоном Колесникова.
ОШИБКА СВЕТОНИЯ
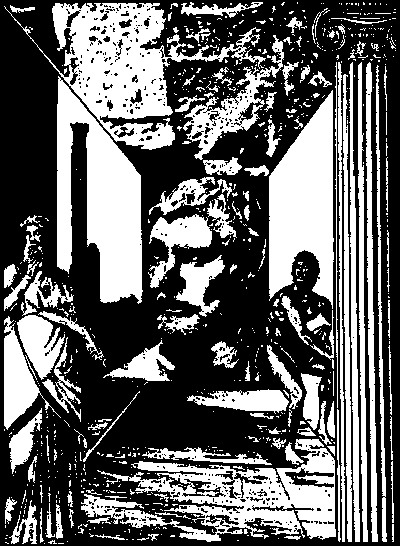
Историки говорят: биография Гая Светония Транквилла, автора «Жизни двенадцати цезарей», которой зачитывались поколения и поколения, полна неясностей. Полагают, что он родился около 70 года нашей эры, в правление Веспасиана. Дата его смерти неизвестна. Большинство сочинений Светония до нас не дошло.
Он был уже заметным ученым и писателем, когда Адриан, ставший императором в 117 году, сделал его своим доверенным лицом, дал высокий пост при дворе. Но через пять лет Светоний был неожиданно уволен в отставку.
Все, что мы знаем об этом деле, заключено в следующих строках историка Элия Спартиана, жившего два столетия спустя и описавшего жизнь Адриана:
«Он сменил префекта претория Септиция Клара и государственного секретаря Светония Транквилла, а также многих других за то, что они тогда держали себя на половине его жены Сабины более свободно, чем это было совместимо с уважением к императорскому двору. И со своей женой, как он говорил, он развелся бы из-за ее угрюмости и сварливости, если бы был частным человеком».
Светоний оказался не у дел. Возможно, он прожил после этого лет двадцать, а то и тридцать. Писал много и на разные темы. Может быть, опала была для него в конечном счете удачей?
Что же произошло около 122 года при дворе Адриана?
То, что следует ниже, представляет собой попытку «реконструкции» важнейшего эпизода жизни Светония. Это похоже на реконструкцию памятника архитектуры по его фундаменту или ископаемого животного по части скелета.
В свои пятьдесят лет Светоний начал седеть и лысеть, но и то и другое еще мало изменило его изящную голову. Когда речь зашла о годах, он сказал, что охотно предоставляет поле битвы обоим врагам: быть может, они будут сдерживать друг друга.
Гость, Марк Лициний Флакк, был товарищем детских игр Светония. Как и Светоний, он происходил из всаднического рода. После школы судьба развела их. Светоний отказался от обычной в их сословии военной карьеры и углубился в науки. Лициний отправился с легионами в Германию, а потом участвовал почти во всех походах императора Траяна. Лишь изредка встречались они, когда Лициний приезжал в Рим. Смерть Траяна остановила его восхождение. Прослужив несколько лет в далекой Дакии, он вернулся в Рим со шрамами от многих ран и с ревматизмом.
Вилла Светония была расположена в четырех-пяти часах верховой езды от города. В открытой столовой они наслаждались покоем мягкого весеннего дня.
Обед подходил к концу. Безмолвный раб вынес последние, почти не тронутые блюда, мальчик-нубиец наполнил кубки. Они остались одни.
— Как видно, жизнь твоя течет привычным порядком, несмотря на опалу? — сказал Лициний, продолжая неторопливую беседу.
— Скорее он был нарушен раньше, приближением ко двору и службой. Опала лишь восстановила этот порядок.
Нижняя губа Светония была все время слегка поджата, как будто в едва заметной иронической полуулыбке. «Совсем как тридцать пять лет назад!» подумал Лициний.
Тридцать пять лет! Это было в дни императора Домициана, последнего из цезарей, чью жизнь Светоний описал в своем сочинении. Лициний получил его список в Дакии и прочел с жгучим интересом.
— Послушай, Светоний, мы отвыкли друг от друга, — сказал Лициний. Слишком долго жили по-разному. Ты — философ, а я — солдат, в сущности, только простой и грубый солдат…
Светоний задумчиво смотрел вдаль, на зеленые холмы, озаренные солнцем. Он повернулся к собеседнику и остановил его жестом руки, вытянутой ладонью вниз.
— Думаю, ты преувеличиваешь. Правда, я книжный человек, как сказал еще Плиний. Но моя жизнь шла не только среди книг, а среди людей, в том числе и воинов. Что до тебя, то твоя рука одинаково хорошо держит и меч и перо. Я с большим удовольствием прочел твои записки о Дакии. Спасибо, что ты догадался прислать мне их… Как передовую центурию, за которой последовал весь тяжело вооруженный легион…
Он веселым взглядом окинул массивную фигуру Лициния, отяжелевшую, видимо, за самые последние годы гарнизонной службы в маленькой крепости. Туника белой шерсти открывала могучую грудь, густо поросшую седыми волосами.
— Я хотел спросить, — продолжал Светоний, — что ты думаешь о землях, лежащих дальше к северу и востоку от Дакии? Мыслимо ли и нужно ли Риму их завоевание? Правда, нынешний император миролюбив, но Рим так могуч, что стремление дальше раздвигать границы может оказаться непреодолимым. Если не у Адриана, то у его преемников.
— Решительно немыслимо и не нужно, — ответил Лициний. — Эти племена рассеяны по бескрайним просторам, и о них известно немногим больше, чем во времена Геродота…
— Ты помнишь, как мы заучивали Геродота, — прервал его Светоний, поддавшись воспоминаниям.
— Конечно, — усмехнулся Лициний. — Я получил бы тогда порку от рыжего верзилы Квинта, если бы ты не дал мне переписать проклятый греческий текст. Должен тебе сознаться, что я теперь не силен в греческом. Мне ведь пришлось служить не в Элладе, как иным счастливчикам, а в местах, где и латынь доводилось слышать не каждый день.
Они выпили довольно много вина, особенно Лициний. Его широкое лицо стало медно-бурым. Светоний был обычно так воздержан, что два кубка, которые он опорожнил, слегка опьянили его. Их беседа становилась беспорядочнее и сердечнее.
Он хлопнул в ладоши. Бесшумно вошел мальчик и по его приказанию принес еще кувшин фалернского и блюдо прошлогоднего винограда, хорошо сохранившегося в погребах виллы.
— Ты спрашиваешь меня о варварах, живущих в степях и лесах за Понтом… — Лициний, оказывается, обдумывал его вопрос. — Тебя, наверно, удивляет, что мы так мало знаем об этих сарматах и скифах. Ведь границы Рима вплотную придвинулись к их землям. Но они не допускают к себе купцов и путешественников, а когда мы попытались проникнуть туда военной силой, это кончилось для нас печально. Торгуют они так: в назначенное место приносят свои товары и оставляют для обмена. Ты должен оставить, в свою очередь, то, что считается нужным для них. Жители пограничных районов это отлично знают. Если варвары недовольны обменом, они больше не появляются. Ради чего завоевывает Рим новые провинции? Что бы ни заявляли сенаторы и их клевреты, мы с тобой это хорошо знаем: ради рабов. Но сарматы и скифы совершенно негодные рабы. Я сам видел четырех варваров — двух мужжин и женщину с ребенком, — которые перерезали себе горло, когда их привели пленниками в нашу крепость. Один из мужчин незаметно спрятал под одеждой нож, и они передавали этот нож друг другу. Женщина, прежде чем зарезать себя, убила ребенка. Уверяю тебя, я видел в жизни немало ужасов, но эта картина…
Светоний заметно побледнел. Он был мягкосерд и чувствителен. Когда ему по долгу службы и положению приходилось бывать на кровавых зрелищах в новом амфитеатре Флавиев, для него это каждый раз было тягостно.
В книге Светоний должен был много рассказывать о злодеяниях, пытках и казнях, которыми были наполнены времена недавних правителей. Он писал в надежде, что это — только прошлое, которому не позволят вернуться разум и просвещение. Казалось, нравы и порядки при Траяне и Адриане подтверждали это.
Светоний был огорчен своей незаслуженной опалой и обижен на Адриана. Но он лучше многих знал и то, что при другой власти он легко мог попасть не на свою уютную виллу, а в руки палача.
…Вечерело. Солнце спускалось к холмам, за которыми едва ощутимо дышало невидимое море. Они еще раньше договорились, что Лициний останется ночевать. Поэтому спешить было некуда. Лициний, как и хозяин, был холост. В Риме он жил пока в доме своего богатого вольноотпущенника и готовился ехать на воды для лечения…
— Твои рассказы замечательны, — сказал Светоний. — Если бы ты согласился, я посадил рядом с нами скорописца, раба-грека, чтобы он записал главное. Не сегодня, разумеется…
Лициний засмеялся.
— Ты — истинный ученый, Светоний. И как истинный ученый, слегка педант. Без этого, наверно, ты бы не мог сделать так много. Честно говоря, я не всему верил, что говорили. Правда ли, что ты сочинил том о римских состязаниях и изучал бранные слова?
Светоний улыбнулся смущенно.
— Сознаюсь, сознаюсь… После того как я купил этот клочок земли, он обвел рукой воображаемые границы своего поместья, — у меня было несколько лет досуга для моих трудов. Хозяйство здесь, как видишь, небольшое, оно только в меру развлекает меня. Мне тогда казалось, что мой долг — описать для будущих поколений быт, язык, нравы нашего народа. Этого хотел и покойный Плиний.
— Говорят, ты был с ним близок?
— Да, — с легкой гордостью подтвердил Светоний, — могу сказать, что он был мне другом. Пожалуй, больше, чем другом. Он был моим постоянным советчиком, если хочешь, покровителем…
Светоний помедлил и продолжал:
— Мой характер, видимо, создан так, что нуждается в руке друга, которая бы меня направляла и подталкивала. Кроме того, я знаю, что неопытен и непрактичен в делах повседневной жизни. Думаю, этот опыт я уже не приобрету.
— Друг мой, — сказал Лициний с неожиданным чувством и силой, — ты хорош именно таков, каков ты есть. Я бы очень не хотел, чтобы ты стал другим. Право, я люблю тебя, Светоний, и теперь больше, чем в юности. Когда я возвращался из Дакии, мне встретился в Брундизии один патриций. Он сказал, что ты не то тяжело болен, не то даже умер. Я так рад, что он солгал.
Светонию стало немного неловко. Человек сдержанный, он стеснялся выражения чувств, даже приятных ему.
— Как все же случилось, что ты поссорился с императором? — напрямик спросил Лициний. — Ведь вы, кажется, подходите друг другу: Адриан человек ученый и покровительствует наукам. К тому же, как говорят, он разумен и справедлив. Когда до меня дошла весть, что ты занял важную должность при его особе, я возблагодарил богов. Наконец-то, думал я, цезаря будут окружать люди, которые помогут ему мудро править империей.
— Мое влияние было вовсе не так велико, как тебе кажется, — сказал Светоний. — Самое большее, я ведал перепиской императора с правителями провинции и с союзниками. Я ничего не решал.
— Но ты составлял письма! Ты мог подсказать решение, мог выразить его волю по своему разумению.
— Да, это бывало, — согласился Светоний. — Но больше в частных, нерешающих вопросах. Адриан любил поручать мне дела, которые касались философов, ваятелей, художников. Я вел по этим делам всю переписку с Грецией.
Светоний знал, что собеседник ждет ответа на свой вопрос. Он помолчал, едва заметно вздохнул и продолжал:
— Видишь ли, дорогой Лициний, я сделал ошибку, недопустимую для царедворца. Именно потому и сделал, что не мог стать настоящим царедворцем. Я сказал императору правду, когда ему была скорее нужна ложь.
Лициний недоуменно поднял бровь, но промолчал.
— Позволь мне рассказать все по порядку. Но прежде пойми вот что. Адриан действительно человек ученый и справедливый. Но каким бы человеком он ни был, он прежде всего правитель. Как человек, Адриан может рассуждать подобно мне и тебе, но действовать и публично говорить он будет совсем иначе. Он будет руководствоваться вовсе не простыми и естественными человеческими чувствами, а благом государства — действительным или мнимым, долгом императора — опять-таки действительным или воображаемым. И тогда бойся тот, кто рассчитывал на его разумность и гуманность! Не скажу, что это было мне ясно с самого начала. Напротив, шесть лет назад я начинал службу, полный надежд и усердия. Я испытал немало разочарований, но служить продолжал до самого конца честно, не жалея ни сил, ни времени. Правда, два или три раза я позволил себе, ведя дело, немного изменить волю императора, действовать так, как будто я — рука человека, а не властелина мира. Однажды Адриан заметил это, и я получил выговор, впрочем, довольно мягкий. Но он ничего не забывает! Этого случая было, видимо, достаточно, чтобы его мнение обо мне изменилось. Думаю, он вспомнил его, когда решал мою судьбу…
Светоний наполнил кубки и сделал большой глоток. Гость нетерпеливо сказал:
— Но я слышал, что твоя опала каким-то образом связана с супругой Адриана. То же самое, впрочем, говорят об отставке Септиция Клара, начальника преторианцев…
— Не думаешь же ты, Лициний, что я был любовником императрицы Сабины, да еще вместе с Септицием Кларом! — Светоний не мог удержаться от широкой, немного даже пьяной улыбки.
— Не думаю, конечно. Но, откровенно говоря, Светоний, я считаю, что в Риме возможно все. Почему бы и нет, будь я проклят! Если бы ты мне сказал, что ты был ее любовником, я бы очень удивился. Но здесь случаются и более невероятные вещи. Однако объясни же мне, что произошло…
— Может быть, ты слышал, что Сабина — нелюбимая жена? Адриан не выносит ее суровый нрав, хотя сам он отчасти этому виной. По-моему, эта женщина достойна всяческой любви и уважения. Но тайны Венеры скрыты от людей. Философия в них не проникла и едва ли когда-нибудь проникнет. У Сабины есть и ум и вкус. Она всегда любила беседы философов, чтения поэтов, состязания певцов. По ее просьбе я читал ей «Жизнь цезарей» еще до завершения книги. Это не вызывало никакого неудовольствия Адриана, однажды он и сам присутствовал при чтении…
— Что же он сказал? — спросил Лициний, не подумав, что своим вопросом вновь отвлекает рассказчика.
— Сказал, что он облегчит труд будущим авторам и сам опишет свою жизнь. Не знаю, было это одобрением или порицанием моего труда… Но слушай дальше. Я был в это время близок с Септицием Кларом, и в его доме часто собирался наш круг. Сабина не могла появляться там, пока Адриан был в Риме. Но когда он надолго уехал в провинции, она почувствовала свободу. Вскоре я увидел ее у Септиция. Она приняла меры предосторожности: ее доставили в закрытых носилках, как частное лицо, к тому же было уже темно. Общество собралось небольшое. Из женщин была только Клодия, афинская гетера, возлюбленная молодого Луция Вара. Императрица, конечно, уступала ей молодостью и красотой, но не умом и тактом. Мы ели, пили, говорили и читали всю ночь. На рассвете Сабина так же осторожно отправилась домой под охраной двух рабов-германцев. От ее имени Септиций просил нас хранить этот визит в тайне. Видимо, ей понравилась наша встреча, и она появилась там еще два или три раза…
— Дальше все можно рассказать очень кратко, — продолжал Светоний после небольшого молчания. — Через несколько дней после своего возвращения Адриан принимал у меня отчет о делах. При этом было еще несколько приближенных. Выслушав, он вдруг сказал, глядя мне в глаза: «Светоний! Я получил донос, что моя жена тайно посещала дом Септиция Клара. Доносчик сообщает, что ты тоже бывал там в этих случаях и что вы занимались гнусными оргиями. Должен ли я этому верить?» Кровь бросилась мне в лицо. Не думая, я сказал: «Цезарь, твоя супруга действительно была несколько раз у Септиция в числе почтенных и уважаемых гостей. Все остальное в этом доносе — низкая клевета…» Я хотел говорить дальше, но Адриан остановил меня. «Довольно, — сказал он, — я верю тебе». На следующий день я получил его письменный приказ передать дела моему помощнику. Он благодарил за службу и назначал награду в двадцать тысяч сестерциев.
— Как же это понимать? — изумленно спросил Лициний, который чтобы лучше слышать негромкий голос Светония, поднес ладонь к уху: после удара по голове, полученного лет десять назад в Сирии, он иногда плохо слышал.
— Как понимать? — повторил раздумчиво Светоний. — Я думаю, вот как. Как мужчине и человеку Адриану были, вероятно, безразличны невинные вольности Сабины. Но как римский цезарь он не мог оставить донос, к тому же получивший огласку, без последствий. Он должен был объявить это ложью и наказать доносчика, либо признать, что проступок был, и опять-таки кого-то наказать. Когда я вспоминаю его лицо во время разговора, мне кажется, что он ожидал от меня отрицательного ответа. Или хотя бы уклончивого. Позже я узнал, что Луций Вар ответил на вопрос императора так: среди гостей была однажды матрона, лицо которой он не рассмотрел под покрывалом, но он не думает, что это была супруга цезаря; к тому же он был, мол, пьян. Но я не имел ни времени, ни хитрости, чтобы придумать подобное. Лициний, горестно сказал Светоний, — я запутался в этих сетях!
