Страница:
В-восьмых, мы имеем дело с самоорганизующимися системами. Что бы по этому поводу ни думали самые авторитарные начальники – в любой организации происходит множество вещей и событий, которых никто ни в каких должностных инструкциях, письменных распоряжениях или грозных указаниях никогда не определял. Наряду с тем, что предопределено формальными или просто явными решениями, в любой организации имеют место процессы самоорганизации – на уровне отдельных сотрудников, их групп или подразделений, отдельных производственных процессов, коллектива в целом.
Самоорганизация хуже всего работает в отношении «функциональных» подразделений, ибо никакая отдельная функция не определяет результата процесса в целом, а потому и не может себя контролировать, ориентируясь на результат. Исполнение функции ориентируется на задание (что и когда надо сделать по данной функции), то есть организующий момент находится извне. Функция сама служит мерой самой себя («Мы со своей стороны все сделали, а что результата нет – спрашивайте с других…», но у тех других тоже только «функции»…). В отличие от исполнения функций работа «под ключ» ориентирована на результат, который выступает организующим моментом для определения того, что и как надо делать, и для оценки того, что сделано. В случае функциональной организации исполнителя функции не касается, для чего это надо, – он просто должен сделать то, что от него требуется (например, «приварить к трубе уголок»). В случае организации по процессам того, кто дает задание, не касается, что и как будет делаться, – он должен определить только результат («устранить вибрацию в трубе»).
Понятно, что степень самоорганизации в любой конкретной организации зависит от того, делают ли люди дело (и каждый понимает какое) или просто исполняют свои функциональные обязанности, – тогда их должен постоянно организовывать кто-то извне. Организации с очень низким уровнем самоорганизации тоже существуют, но требуют больших ресурсов по администрированию, как правило, не способны выживать сами и обычно являются подразделениями правительственных или крупных корпоративных структур, которые так или иначе обеспечивают эффективность на макроуровне, несмотря на неэффективность «дочек».
В-девятых, организации обладают способностью самовосстанавливаться, чего не скажешь о телевизоре или автомобиле, не так ли? Очевидно, что способность к самовосстановлению подразумевает сохранение некоторого генетического кода или некоторой организационной памяти, что позволяет при утрате отдельного элемента или даже части организации отстраивать заново нарушенные структуру и функционирование, добирая элементы извне и адаптируя их по месту. Это происходит тем легче, чем в большей степени возможности организации определяются тем, что она в целом знает и может, а не тем, что знают и могут ее отдельные сотрудники. Более того, именно то, что организация знает и может, все в большей степени предопределяет успех в реализации ею своей миссии. Применяя ставшим теперь обычным деление на хард (материальные средства) и софт (информационно-логическое обеспечение), приходится делать вывод, что существование организации в большей степени зависит от второго, чем от первого. Можно заменить в течение некоторого времени все станки, компьютеры и даже сотрудников (только не всех сразу, чтобы обеспечить преемственность) – а организация при этом останется, по сути, той же самой, хоть и перерожденной.
И наконец, в-десятых, организации обладают способностью к обучению. То, что они знают и умеют, не остается постоянным. Организационные знание и умение растут, модифицируются, корректируются, адаптируются к меняющимся условиям, но при этом также иногда теряют актуальность, засоряются мусором ошибочных идей и методов или оказываются просто балластом, который некуда применить.
Способность к обучению подразумевает наращивание потенциала адекватного знания и моделей поведения, что требует способности к отбору и запоминанию положительного опыта, способности к интерпретации отрицательного опыта и способности делать соответствующие выводы, дополняя сохраняющуюся в памяти и используемую для принятия решений картину мира. Способность к обучению подразумевает также способность забывания того, что оказалось ошибкой, неадекватно в новых условиях или просто уже не нужно. Недостаточно развитая способность запоминать оставляет софт отставшим от жизни и делает функционирование организации все менее эффективным. Недостаточно развитая способность забывать также вызывает отставание софта от жизни и делает функционирование организации менее эффективным. Баланс обеспечивается только в процессе – потоке организационного знания, которое на каждый данный момент более или менее адекватно. «Остановившийся поток» означает смерть.
Условия существования организмов
Поведение организмов: от случайного поиска и стереотипов – к рациональным решениям и инновациям
Самоорганизация хуже всего работает в отношении «функциональных» подразделений, ибо никакая отдельная функция не определяет результата процесса в целом, а потому и не может себя контролировать, ориентируясь на результат. Исполнение функции ориентируется на задание (что и когда надо сделать по данной функции), то есть организующий момент находится извне. Функция сама служит мерой самой себя («Мы со своей стороны все сделали, а что результата нет – спрашивайте с других…», но у тех других тоже только «функции»…). В отличие от исполнения функций работа «под ключ» ориентирована на результат, который выступает организующим моментом для определения того, что и как надо делать, и для оценки того, что сделано. В случае функциональной организации исполнителя функции не касается, для чего это надо, – он просто должен сделать то, что от него требуется (например, «приварить к трубе уголок»). В случае организации по процессам того, кто дает задание, не касается, что и как будет делаться, – он должен определить только результат («устранить вибрацию в трубе»).
Понятно, что степень самоорганизации в любой конкретной организации зависит от того, делают ли люди дело (и каждый понимает какое) или просто исполняют свои функциональные обязанности, – тогда их должен постоянно организовывать кто-то извне. Организации с очень низким уровнем самоорганизации тоже существуют, но требуют больших ресурсов по администрированию, как правило, не способны выживать сами и обычно являются подразделениями правительственных или крупных корпоративных структур, которые так или иначе обеспечивают эффективность на макроуровне, несмотря на неэффективность «дочек».
В-девятых, организации обладают способностью самовосстанавливаться, чего не скажешь о телевизоре или автомобиле, не так ли? Очевидно, что способность к самовосстановлению подразумевает сохранение некоторого генетического кода или некоторой организационной памяти, что позволяет при утрате отдельного элемента или даже части организации отстраивать заново нарушенные структуру и функционирование, добирая элементы извне и адаптируя их по месту. Это происходит тем легче, чем в большей степени возможности организации определяются тем, что она в целом знает и может, а не тем, что знают и могут ее отдельные сотрудники. Более того, именно то, что организация знает и может, все в большей степени предопределяет успех в реализации ею своей миссии. Применяя ставшим теперь обычным деление на хард (материальные средства) и софт (информационно-логическое обеспечение), приходится делать вывод, что существование организации в большей степени зависит от второго, чем от первого. Можно заменить в течение некоторого времени все станки, компьютеры и даже сотрудников (только не всех сразу, чтобы обеспечить преемственность) – а организация при этом останется, по сути, той же самой, хоть и перерожденной.
И наконец, в-десятых, организации обладают способностью к обучению. То, что они знают и умеют, не остается постоянным. Организационные знание и умение растут, модифицируются, корректируются, адаптируются к меняющимся условиям, но при этом также иногда теряют актуальность, засоряются мусором ошибочных идей и методов или оказываются просто балластом, который некуда применить.
Способность к обучению подразумевает наращивание потенциала адекватного знания и моделей поведения, что требует способности к отбору и запоминанию положительного опыта, способности к интерпретации отрицательного опыта и способности делать соответствующие выводы, дополняя сохраняющуюся в памяти и используемую для принятия решений картину мира. Способность к обучению подразумевает также способность забывания того, что оказалось ошибкой, неадекватно в новых условиях или просто уже не нужно. Недостаточно развитая способность запоминать оставляет софт отставшим от жизни и делает функционирование организации все менее эффективным. Недостаточно развитая способность забывать также вызывает отставание софта от жизни и делает функционирование организации менее эффективным. Баланс обеспечивается только в процессе – потоке организационного знания, которое на каждый данный момент более или менее адекватно. «Остановившийся поток» означает смерть.
Условия существования организмов
Любой живой организм может продолжать быть таковым только в определенных пределах. В фазовом пространстве, которое образуют все значимые для организма внешние и внутренние параметры, эти пределы определяются сплошным множеством всех приемлемых сочетаний. Мы говорим о сочетаниях значений, ибо нельзя оценить, например, границы приемлемой температуры, не указывая влажности. Нельзя сказать, при каком уровне зарплаты, при прочих равных, наши сварщики от нас никуда не денутся, если не указать, какова ситуация на рынке труда вне организации. Нельзя указать уровень приемлемых расходов на техническое обслуживание, не зная, чем грозят простои или сколько стоит замена старого оборудования на новое. Тем не менее интуитивно понятно, что при некоторых сочетаниях параметров любой живой организм, биологический или экономический, существовать может, а при других – уже нет.
Как-то ко мне обратился за советом собственник и генеральный директор одной небольшой организации. Он сказал, что сотрудники настаивают на приобретении нового высокотехнологичного стенда, который позволил бы на порядок поднять производительность разработки и налаживания электронных устройств. Но денег на это у организации не было. Тогда директору пришла в голову идея: раз все сотрудники настаивают на том, что такое оборудование необходимо, и утверждают, что они при этом достигнут гораздо большего, почему бы им не согласиться на приобретение этого оборудования за счет их же заработной платы за три месяца? Он хорошо подготовился и провел общее собрание, изложив свое предложение и подчеркнув, что он не берет взаймы эти деньги у сотрудников – они с ними расстаются раз и навсегда, получив взамен возможность использования нового оборудования. После горячей дискуссии все сотрудники с этим предложением согласились, приняв на себя заботы о собственном выживании в течение трех месяцев. Оборудование было куплено, оно себя оправдало, организация выделилась на фоне конкурентов, была приобретена транснациональной корпорацией, и не только собственник, но и каждый сотрудник оказался в материальном выигрыше. Риск у этой затеи, конечно, был, но он оправдался. Скажите, много ли вы знаете организаций, сотрудники которых все поголовно согласились бы три месяца работать без зарплаты?
Вот еще один пример – из строительной сферы. Работники упорно не хотели оставлять свою компанию, которой очень гордились (и было чем!), в беде, возникшей из-за дефолта в России в 1998 году. Никто из ключевых сотрудников фирмы не уволился в течение года, хотя была возможность найти другую работу, а зарплату на старом месте не платили. Через год компания возродилась, реструктуризировалась, разделившись на четыре новые, но не потеряв практически никого из сотрудников. Случай нетипичный, но все равно поучительный. Многие ли компании смогли пережить подобные потрясения, полностью сохранив свой основной ресурс?
Когда литовский лит был отвязан от доллара (или наоборот?) и привязан к евро, доллар в течение нескольких месяцев упал с 4,0 до 2,7 лита. Все выгодные экспортные контракты, заключенные в долларах, вдруг оказались катастрофически убыточными. Некоторые большие предприятия при этом обанкротились. Другие, и большие и маленькие, смогли пересмотреть свои портфели заказов, переориентироваться в зону евро, перепрофилироваться, подключить резервы – и выжили. Для кого-то падение курса доллара на 20 % уже было смертельным, а для кого-то и на 30 % – еще нет.
Для кого-то падение рыночной цены продукции на 10 % губительно, а для кого-то нет. Задержка в платежах от получателей на два месяца приводит к полной остановке одного предприятия и лишь слегка щекочет нервы финансового директора на другом. Увеличение НДС с 18 до 21 % может сделать некоторые бизнесы экономически бессмысленными, но практически не повлиять на другие. И так далее. Все значимые для функционирования конкретной организации внутренние и внешние параметры имеют свои границы, внутри которых эта организация как таковая может продолжать существовать, а за их пределами – уже нет. Множество приемлемых сочетаний образуют фазовое пространство экзистентности (от английского exist – «существовать»). Это пространство для каждого организма свое, и зависит оно, как и все другие эмерджентные свойства, от того, из каких элементов состоит организм и как они взаимодействуют, то есть от структуры.
В структуре же по необходимости должен быть заложен и ответ организма на неблагоприятную динамику ситуации, когда приближается граница пространства экзистентности и надо как-то на это приближение реагировать, иначе конец. Организмы только потому и продолжают существовать, что умудряются каким-то образом не допустить приближения этой границы, возвращая ситуацию вовнутрь пространства экзистентности посредством соответствующих реакций. Реакция адекватна, если она помогает выжить. Например, адекватными реакциями на холод может быть включение нагревателя, энергичные движения или, еще лучше, стакан глинтвейна. Все эти реакции будут адекватными. Точно так же, например, адекватной реакцией на недопустимый рост потерь от брака из-за плохой работы оборудования могут стать замена оборудования, его капитальный ремонт, изменение технологии или переход на другой материал, а неадекватной – проведение общего собрания о необходимости обеспечения высокого качества и снижения потерь от брака.
Итак, организмы продолжают существовать на фоне непрерывных изменений внешних и внутренних условий благодаря своей способности своевременно и адекватно реагировать на приближение к границе пространства экзистентности. Но что значит своевременно? Давайте пойдем от обратного. Может ли быть слишком поздно – когда спохватились, что уровень запасов опустился ниже критической отметки, уже невозможно их вовремя пополнить, и остановка производства оказалась неизбежной? Или может быть слишком рано – скажем, увеличившееся число заказов на этой неделе по сравнению с предыдущей еще ни о чем не говорит, поскольку вписывается в обычные колебания спроса и не требует никакой специальной реакции типа увеличения производственных мощностей. Но если в принципе может быть слишком рано и может быть слишком поздно, значит, должно же быть где-то и в самый раз? Когда уже не рано, но еще не поздно начинать реагировать? Это и есть граница так называемой зоны комфорта, которая представляет собой некоторую часть пространства экзистентности. В пределах этой зоны изменение ситуации, характеризующейся некоторым набором параметров организма и среды, не требует от организма никакой специальной реакции. Если сегодня в отделе будут работать не пять человек, а только четыре, – ничего страшного, вчетвером справятся. То, что посетителей в салоне вчера почти не было, не означает, что его пора закрывать, – не завтра, так послезавтра посетители появятся. Уволятся три-четыре подсобника – мы этого даже не заметим. Изменение температуры в помещении в пределах 19–21º не требует особого внимания – никому от этого не холодно и не жарко. И так далее.
В пределах зоны комфорта необходимый баланс со средой поддерживается за счет механизмов так называемого гомеостатического регулирования. Нам теплее – мы больше потеем. Заканчивается бумага для принтеров – покупается новая. Недостаток платежных средств в пределах предоставленного овердрафта автоматически кредитуется банком. Не вышла на работу Машенька – в приемной посидит Леночка. Механизмы гомеостатического регулирования как бы встроены в структуру (отработанные процедуры) и до определенных пределов обеспечивают необходимое динамическое равновесие. За этими пределами состояние комфорта сменяется состоянием дискомфорта – нам холодно или жарко, или не хватает людей, или некуда девать отходы, или банк закрыл овердрафт и так далее.
Зона дискомфорта заполняет собой все остающееся от зоны комфорта пространство экзистентности. В этой зоне уже нельзя расслабиться, надо как-то реагировать на ухудшающуюся ситуацию. И реагировать адекватно, а это значит действовать таким образом, чтобы отклонение, вызывающее дискомфорт, было устранено и организм вернулся в зону комфорта. У организма появляется мотивация – внутреннее напряжение, требующее разрешения в определенных действиях. Эта мотивация никогда не бывает «вообще», она всегда очень конкретна – если мы хотим пить, то совсем не обязательно хотим при этом и есть. Мы готовы прилагать усилия, чтобы получить недостающее нам оборудование, но и палец о палец не ударим ради приобретения новых складских помещений, ибо имеющихся вполне хватит. Именно зона дискомфорта (актуального или воображаемого) является ареной, на которой разыгрывается увлекательный спектакль поведения как отдельных субъектов, так и организаций как целостных образований.
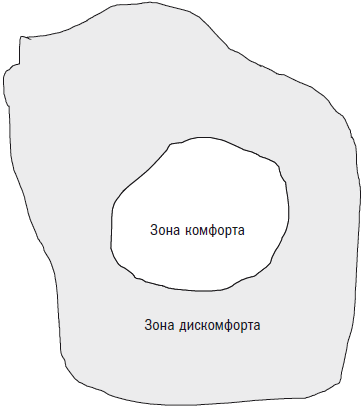
Рис. 2. Пространство экзистентности = зона комфорта + зона дискомфорта
Как-то ко мне обратился за советом собственник и генеральный директор одной небольшой организации. Он сказал, что сотрудники настаивают на приобретении нового высокотехнологичного стенда, который позволил бы на порядок поднять производительность разработки и налаживания электронных устройств. Но денег на это у организации не было. Тогда директору пришла в голову идея: раз все сотрудники настаивают на том, что такое оборудование необходимо, и утверждают, что они при этом достигнут гораздо большего, почему бы им не согласиться на приобретение этого оборудования за счет их же заработной платы за три месяца? Он хорошо подготовился и провел общее собрание, изложив свое предложение и подчеркнув, что он не берет взаймы эти деньги у сотрудников – они с ними расстаются раз и навсегда, получив взамен возможность использования нового оборудования. После горячей дискуссии все сотрудники с этим предложением согласились, приняв на себя заботы о собственном выживании в течение трех месяцев. Оборудование было куплено, оно себя оправдало, организация выделилась на фоне конкурентов, была приобретена транснациональной корпорацией, и не только собственник, но и каждый сотрудник оказался в материальном выигрыше. Риск у этой затеи, конечно, был, но он оправдался. Скажите, много ли вы знаете организаций, сотрудники которых все поголовно согласились бы три месяца работать без зарплаты?
Вот еще один пример – из строительной сферы. Работники упорно не хотели оставлять свою компанию, которой очень гордились (и было чем!), в беде, возникшей из-за дефолта в России в 1998 году. Никто из ключевых сотрудников фирмы не уволился в течение года, хотя была возможность найти другую работу, а зарплату на старом месте не платили. Через год компания возродилась, реструктуризировалась, разделившись на четыре новые, но не потеряв практически никого из сотрудников. Случай нетипичный, но все равно поучительный. Многие ли компании смогли пережить подобные потрясения, полностью сохранив свой основной ресурс?
Когда литовский лит был отвязан от доллара (или наоборот?) и привязан к евро, доллар в течение нескольких месяцев упал с 4,0 до 2,7 лита. Все выгодные экспортные контракты, заключенные в долларах, вдруг оказались катастрофически убыточными. Некоторые большие предприятия при этом обанкротились. Другие, и большие и маленькие, смогли пересмотреть свои портфели заказов, переориентироваться в зону евро, перепрофилироваться, подключить резервы – и выжили. Для кого-то падение курса доллара на 20 % уже было смертельным, а для кого-то и на 30 % – еще нет.
Для кого-то падение рыночной цены продукции на 10 % губительно, а для кого-то нет. Задержка в платежах от получателей на два месяца приводит к полной остановке одного предприятия и лишь слегка щекочет нервы финансового директора на другом. Увеличение НДС с 18 до 21 % может сделать некоторые бизнесы экономически бессмысленными, но практически не повлиять на другие. И так далее. Все значимые для функционирования конкретной организации внутренние и внешние параметры имеют свои границы, внутри которых эта организация как таковая может продолжать существовать, а за их пределами – уже нет. Множество приемлемых сочетаний образуют фазовое пространство экзистентности (от английского exist – «существовать»). Это пространство для каждого организма свое, и зависит оно, как и все другие эмерджентные свойства, от того, из каких элементов состоит организм и как они взаимодействуют, то есть от структуры.
В структуре же по необходимости должен быть заложен и ответ организма на неблагоприятную динамику ситуации, когда приближается граница пространства экзистентности и надо как-то на это приближение реагировать, иначе конец. Организмы только потому и продолжают существовать, что умудряются каким-то образом не допустить приближения этой границы, возвращая ситуацию вовнутрь пространства экзистентности посредством соответствующих реакций. Реакция адекватна, если она помогает выжить. Например, адекватными реакциями на холод может быть включение нагревателя, энергичные движения или, еще лучше, стакан глинтвейна. Все эти реакции будут адекватными. Точно так же, например, адекватной реакцией на недопустимый рост потерь от брака из-за плохой работы оборудования могут стать замена оборудования, его капитальный ремонт, изменение технологии или переход на другой материал, а неадекватной – проведение общего собрания о необходимости обеспечения высокого качества и снижения потерь от брака.
Итак, организмы продолжают существовать на фоне непрерывных изменений внешних и внутренних условий благодаря своей способности своевременно и адекватно реагировать на приближение к границе пространства экзистентности. Но что значит своевременно? Давайте пойдем от обратного. Может ли быть слишком поздно – когда спохватились, что уровень запасов опустился ниже критической отметки, уже невозможно их вовремя пополнить, и остановка производства оказалась неизбежной? Или может быть слишком рано – скажем, увеличившееся число заказов на этой неделе по сравнению с предыдущей еще ни о чем не говорит, поскольку вписывается в обычные колебания спроса и не требует никакой специальной реакции типа увеличения производственных мощностей. Но если в принципе может быть слишком рано и может быть слишком поздно, значит, должно же быть где-то и в самый раз? Когда уже не рано, но еще не поздно начинать реагировать? Это и есть граница так называемой зоны комфорта, которая представляет собой некоторую часть пространства экзистентности. В пределах этой зоны изменение ситуации, характеризующейся некоторым набором параметров организма и среды, не требует от организма никакой специальной реакции. Если сегодня в отделе будут работать не пять человек, а только четыре, – ничего страшного, вчетвером справятся. То, что посетителей в салоне вчера почти не было, не означает, что его пора закрывать, – не завтра, так послезавтра посетители появятся. Уволятся три-четыре подсобника – мы этого даже не заметим. Изменение температуры в помещении в пределах 19–21º не требует особого внимания – никому от этого не холодно и не жарко. И так далее.
В пределах зоны комфорта необходимый баланс со средой поддерживается за счет механизмов так называемого гомеостатического регулирования. Нам теплее – мы больше потеем. Заканчивается бумага для принтеров – покупается новая. Недостаток платежных средств в пределах предоставленного овердрафта автоматически кредитуется банком. Не вышла на работу Машенька – в приемной посидит Леночка. Механизмы гомеостатического регулирования как бы встроены в структуру (отработанные процедуры) и до определенных пределов обеспечивают необходимое динамическое равновесие. За этими пределами состояние комфорта сменяется состоянием дискомфорта – нам холодно или жарко, или не хватает людей, или некуда девать отходы, или банк закрыл овердрафт и так далее.
Зона дискомфорта заполняет собой все остающееся от зоны комфорта пространство экзистентности. В этой зоне уже нельзя расслабиться, надо как-то реагировать на ухудшающуюся ситуацию. И реагировать адекватно, а это значит действовать таким образом, чтобы отклонение, вызывающее дискомфорт, было устранено и организм вернулся в зону комфорта. У организма появляется мотивация – внутреннее напряжение, требующее разрешения в определенных действиях. Эта мотивация никогда не бывает «вообще», она всегда очень конкретна – если мы хотим пить, то совсем не обязательно хотим при этом и есть. Мы готовы прилагать усилия, чтобы получить недостающее нам оборудование, но и палец о палец не ударим ради приобретения новых складских помещений, ибо имеющихся вполне хватит. Именно зона дискомфорта (актуального или воображаемого) является ареной, на которой разыгрывается увлекательный спектакль поведения как отдельных субъектов, так и организаций как целостных образований.
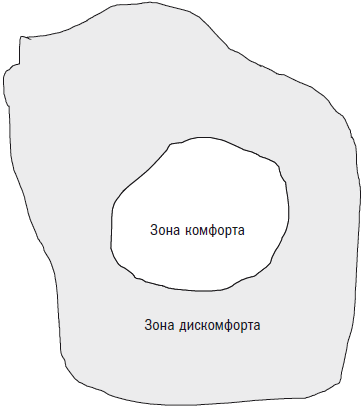
Рис. 2. Пространство экзистентности = зона комфорта + зона дискомфорта
Поведение организмов: от случайного поиска и стереотипов – к рациональным решениям и инновациям
Строго говоря, в зоне комфорта организмы себя никак не ведут – они спят или смотрят в окошко, разве что уж очень надоест там находиться или одолеет «адреналиновый голод», впрочем, это будет уже дискомфорт. Основные типы поведения в зоне дискомфорта зависят от уровня развития и содержания памяти, от знания о мире, имеющейся информации и доступных вариантов действий для возвращения в зону комфорта. Но начнем по порядку…
Предположим, что некоторый простейший организм, какая-нибудь одноклеточная инфузория, памяти вовсе не имеет, а все, что имеет, – это только способность отличить состояние комфорта от состояния дискомфорта. Если, оказавшись в зоне дискомфорта, она ничего не предпринимает, чтобы вернуться в зону комфорта, – велик риск, что те же обстоятельства, которые вывели ее из зоны комфорта, доведут и до границы пространства экзистентности – а тогда будет плохо, существование закончится и соответствующая модель безответственного поведения исчезнет вместе со своим носителем. Такое пассивное поведение явно бесперспективно. В зоне дискомфорта даже инфузория должна что-то делать. Но что делать, если нет мозгов? Когда ничегонеделание наверняка приведет к гибели, делание хоть чего-нибудь все-таки дает шанс ненароком вернуться в зону комфорта. Поэтому инфузория-туфелька, например, оказавшись без света, уже не может находиться в состоянии покоя (блаженного роста и деления), а приходит в состояние беспокойства, начинает дергаться, двигаться туда-сюда. Эти случайно выбираемые движения будут продолжаться, пока инфузория не погибнет или не обнаружит вдруг более освещенное место – тогда следующее движение уже будет в том же направлении, дискомфорт-то уменьшается, комфорт приближается, и – ура! – жизнь спасена! А как себя будет вести эта гипотетическая инфузория, оказавшись спустя некоторое время в точно такой же ситуации? Абсолютно так же. Она снова будет суетиться, осуществляя случайный поиск, направляемый ощущением комфорта. И если опять повезет, она снова окажется в зоне комфорта, но уже другим путем. Такой тип поведения называется случайно-поисковым, и осуществляют его, конечно, не только инфузории, а все организмы в ситуациях, когда дискомфорт налицо и все возможные направления движения изначально равноценны, потому что ни об одном из них нет никакой информации. Когда мы не знаем, что делать в ситуации нарастающего дискомфорта, начинаем дергаться, суетиться, искать… В ходе поиска может выясниться, какие действия более перспективны, они и повторяются.
Совсем иное дело, если организм обладает памятью и, оказавшись в той же самой ситуации, где уже находился однажды, может эту ситуацию узнать и вспомнить путь, которым в прошлый раз удалось вернуться в зону комфорта. Теперь уже не все возможные направления движения равноценны – одно из них явно имеет преимущество, поскольку точно может привести к выживанию. Неудивительно, что именно эта модель поведения, найденная случайно и при первом апробировании оказавшаяся достаточно хорошей, чтобы вернуть организм в зону комфорта, будет выбрана в следующий раз, и еще в следующий раз, и еще – до тех пор, пока она работает, и даже после того. Такое поведение мы называем стереотипным. А множество знакомых организму ситуаций в зоне дискомфорта, для которых у него есть найденный опытным путем ответ, образует зону стереотипных реакций. Чем больше опыта – тем шире эта зона.
Неоспоримым преимуществом стереотипного поведения по сравнению со случайным поиском являются увеличение шансов на выживание и экономия энергии (снова тот же принцип!) на случайные попытки, которые могут и не завершиться успехом, даже хуже того, могут довести до гибели. Зачем рисковать? Но, с другой стороны, и недостатки у этого типа поведения тоже есть. Стереотипные реакции остаются в памяти организма и упорно повторяются в аналогичных ситуациях совсем не потому, что они лучшие, а только потому, что первыми попались под руку и оказались приемлемыми. Как-то на протяжении нескольких лет мне приходилось ездить в Брюссель для работы в одном институте. Останавливался я при этом всегда в одной и той же гостинице, поскольку у нее с институтом был какой-то договор. Приехав в первый раз, я должен был решить две задачи: посмотреть центр города (минутах в тридцати пешком) и позвонить домой (мобильных тогда еще не было, а звонок из гостиницы стоил безумно дорого). Я решил найти какой-нибудь переговорный пункт по пути в центр – и нашел его примерно в километре от гостиницы. Приехав в Брюссель в следующий раз уже зимой, снова пошел звонить в знакомое место. Погода была ужасная, идти километр совсем не хотелось, но позвонить-то надо было… Так продолжалось лет пять. Уезжая из той же гостиницы в последний раз, я решил в ожидании такси прогуляться не в сторону центра города, как всегда, а в противоположную, – и обнаружил переговорный пункт в соседнем здании… Было не столько обидно, сколько смешно. Почему же я не искал лучшего решения, почему не спросил на ресепшене, где находится ближайший переговорный пункт? Потому что я знал, где находится один, и он меня, в общем-то, устраивал. Такое поведение вполне естественно. Мы смеемся над тем, кто в тривиальной ситуации не знает, что делать: «Ты что, с Луны свалился?» или «Первый раз замужем?», но массу вещей сами делаем автоматически, не задумываясь об оптимальности однажды случайно выбранного способа поведения. Работает, ну и ладно…
Беда заключается в том, что стереотипные реакции приводят к тому же, что и в прошлый раз, результату, только в том случае, если ситуация и на самом деле во всех существенных аспектах та же самая. А если нет? Ведь то, что работало раньше, в других условиях, на другом предприятии или в другой стране совсем не обязательно будет работать так же, даже если внешне все выглядит очень похожим. Строго говоря, одним и тем же ничто никогда не бывает. Поэтому в стереотипном поведении всегда скрывается опасность серьезной ошибки.
В конце 90-х руководитель и самый крупный собственник одного из приватизированных предприятий в Литве, имевший большой опыт работы директором этого же предприятия еще при социализме, все продолжал ездить в столицу в отраслевое министерство, пытаясь традиционным и хорошо проверенным способом (коньяк, сервелат, шоколад) решать вопросы рыночных цен на сырье, реализации продукции, получения нового оборудования и тому подобное. Это, конечно, не помогало, и объяснение тому было простое – «правительство совсем не работает, ну что я с этим могу сделать?». Предприятие, которое когда-то было лидером в отрасли, уверенно катилось к банкротству, и первым шагом к его спасению было отстранение от управления самого «опытного» в отрасли руководителя. Этот опыт уже не годился. А другого у него не было. Потому что он по-другому работать и не пытался. Зачем пытаться, когда и так известно, что делать? Он же двадцать лет как директор!
Опыт, конечно, может быть подспорьем и в релевантной ситуации уберечь от грубых ошибок, но когда ситуация меняется – опыт превращается в барьер, который не дает включиться даже примитивному механизму случайного поиска, не говоря уже об интеллектуальных усилиях, требующихся для инновационного поведения. Во всех культурах мира уважение к старшим заметно коррелирует с динамикой условий существования. Когда условия столетиями не меняются (в горных аулах, пустыне, тайге) – старикам почет и уважение. Но там, где условия игры меняются быстро, стариков никто не слушает, а неопытные пацаны (точнее, те из них, кто выживает) становятся олигархами. За пределами зоны стереотипного поведения, в ситуациях, для которых не выработано адекватного опыта, поведение остается случайно-поисковым, и это все же лучше, чем ничего…
Теперь допустим, что у нашего организма есть не просто память, а способность обобщать свой опыт в представлениях о том, как устроен мир. Без всяких теорий, просто из опыта можно ведь знать, что ласточки летают низко перед дождем, а гаишники тянут резину, задают всякие глупые вопросы и не спешат возвращать права, когда надеются на мзду. Представление о том, как устроен мир, или так называемая ментальная карта, позволяет в ситуации, которая не является в точности строго узнаваемой (этого гаишника мы видим в первый раз), все же предвидеть возможные последствия того или иного варианта своего поведения – и выбирать наилучший. Такое поведение называется рациональным. Строго мы его определим в разделе о решении проблем.
А пока достаточно договориться о том, что при отсутствии видимых более или менее надежных альтернативных вариантов возвращения в зону комфорта поведение может быть только случайно-поисковым, при наличии только одного видимого варианта поведения – только стереотипным, а при наличии многих видимых вариантов и способности сравнить их между собой – также и рациональным. Для этого нужна только ментальная карта (сформированная на основе собственного опыта или позаимствованная из школьных учебников, а может – мама так говорила) и информация о ситуации, если таковая на этой ментальной карте обозначена. Тогда мы рассуждаем, что хотя это и происходит впервые (мы никогда не видели, как утюг падает с седьмого этажа), но ситуация понятная (благодаря высшему образованию мы можем с достаточной степенью вероятности мысленно прочертить траекторию), и на основании этого выбрать вариант собственного поведения (отскочить в сторону). Преимущества рационального поведения очевидны – оно позволяет при наличии уже не просто памяти, а и некоторого интеллекта не наступать на грабли, даже когда они лежат не на том же самом месте или имеют несколько другую форму. Оно позволяет направлять поиск туда, где шансы на успех больше. Это очень хорошо. Но и с рациональным поведением не все так просто.
Во-первых, никакая ментальная карта никогда не бывает абсолютно полной, отражающей все закономерности этого мира. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам…» Хотя многое из того, что не снилось мудрецам во времена Шекспира, позже уже кому-нибудь да приснилось, неизвестного все еще остается гораздо больше. И никакая ментальная карта не бывает абсолютно точной. Наряду с вечными истинами наши ментальные карты нашпигованы временными заблуждениями и ошибками наших учителей или нашими собственными. При этом любая карта устаревшая, уже хотя бы потому, что формируется она прошлым, а использовать ее мы пытаемся для оценки последствий наших действий в будущем. Приходится согласиться: неполная, неточная, да еще и устаревшая ментальная карта – рискованное руководство к действию. Но лучшего у нас обычно нет.
Во-вторых, возможность выбора зависит от имеющихся ресурсов, далеко не только финансовых. Связи, технологии, оборудование, умения и даже просто личное обаяние – этим всем мы наделены по-разному, и потому у каждого есть разные, реально ему доступные варианты поведения. А выбирает человек даже не из всех доступных, а только из тех, которые ему видимы, в то время как другие варианты, быть может, просто не приходят в голову.
Кроме того, всегда есть риск, что наш субъект не заметит того, что происходит на самом деле, если это не вписывается в принятую им картину мира и не рассматривается как нечто подлежащее анализу. Ибо мы видим только то, что предположительно должно быть увидено, наличие чего наш мозг настроен анализировать. Популярна легенда об аборигенах на островах в Карибском море, которые якобы не увидели приближающиеся корабли Колумба, ибо ни с чем подобным никогда не сталкивались и потому не могли распознать не только корабли, но и неординарность ситуации. Ведь видим, как и слышим, мы не глазами или ушами, а мозгом – это мозг распознает или нет и так или иначе интерпретирует образы в зависимости от того, что с этими образами в мозгу ассоциируется, что мы по этому поводу думаем. А думаем – в зависимости от своей ментальной карты и имеющейся информации. А карта формируется и информация отбирается из того, что мы видим. Вот и получается нечто вроде замкнутого круга, который на самом деле кругом не является. Цикл формирует восходящую спираль, пока мы не теряем способности к переосмыслению того, что уже знаем, то есть продолжаем обучаться, зная все больше и видя все больше. И спираль оказывается нисходящей, если знание остается неизменным, а мир продолжает меняться и двигаться вперед – отставание все увеличивается, вчерашние вершины знаний превращаются в глубины заблуждений. Какая уж там рациональность…
Предположим, что некоторый простейший организм, какая-нибудь одноклеточная инфузория, памяти вовсе не имеет, а все, что имеет, – это только способность отличить состояние комфорта от состояния дискомфорта. Если, оказавшись в зоне дискомфорта, она ничего не предпринимает, чтобы вернуться в зону комфорта, – велик риск, что те же обстоятельства, которые вывели ее из зоны комфорта, доведут и до границы пространства экзистентности – а тогда будет плохо, существование закончится и соответствующая модель безответственного поведения исчезнет вместе со своим носителем. Такое пассивное поведение явно бесперспективно. В зоне дискомфорта даже инфузория должна что-то делать. Но что делать, если нет мозгов? Когда ничегонеделание наверняка приведет к гибели, делание хоть чего-нибудь все-таки дает шанс ненароком вернуться в зону комфорта. Поэтому инфузория-туфелька, например, оказавшись без света, уже не может находиться в состоянии покоя (блаженного роста и деления), а приходит в состояние беспокойства, начинает дергаться, двигаться туда-сюда. Эти случайно выбираемые движения будут продолжаться, пока инфузория не погибнет или не обнаружит вдруг более освещенное место – тогда следующее движение уже будет в том же направлении, дискомфорт-то уменьшается, комфорт приближается, и – ура! – жизнь спасена! А как себя будет вести эта гипотетическая инфузория, оказавшись спустя некоторое время в точно такой же ситуации? Абсолютно так же. Она снова будет суетиться, осуществляя случайный поиск, направляемый ощущением комфорта. И если опять повезет, она снова окажется в зоне комфорта, но уже другим путем. Такой тип поведения называется случайно-поисковым, и осуществляют его, конечно, не только инфузории, а все организмы в ситуациях, когда дискомфорт налицо и все возможные направления движения изначально равноценны, потому что ни об одном из них нет никакой информации. Когда мы не знаем, что делать в ситуации нарастающего дискомфорта, начинаем дергаться, суетиться, искать… В ходе поиска может выясниться, какие действия более перспективны, они и повторяются.
Совсем иное дело, если организм обладает памятью и, оказавшись в той же самой ситуации, где уже находился однажды, может эту ситуацию узнать и вспомнить путь, которым в прошлый раз удалось вернуться в зону комфорта. Теперь уже не все возможные направления движения равноценны – одно из них явно имеет преимущество, поскольку точно может привести к выживанию. Неудивительно, что именно эта модель поведения, найденная случайно и при первом апробировании оказавшаяся достаточно хорошей, чтобы вернуть организм в зону комфорта, будет выбрана в следующий раз, и еще в следующий раз, и еще – до тех пор, пока она работает, и даже после того. Такое поведение мы называем стереотипным. А множество знакомых организму ситуаций в зоне дискомфорта, для которых у него есть найденный опытным путем ответ, образует зону стереотипных реакций. Чем больше опыта – тем шире эта зона.
Неоспоримым преимуществом стереотипного поведения по сравнению со случайным поиском являются увеличение шансов на выживание и экономия энергии (снова тот же принцип!) на случайные попытки, которые могут и не завершиться успехом, даже хуже того, могут довести до гибели. Зачем рисковать? Но, с другой стороны, и недостатки у этого типа поведения тоже есть. Стереотипные реакции остаются в памяти организма и упорно повторяются в аналогичных ситуациях совсем не потому, что они лучшие, а только потому, что первыми попались под руку и оказались приемлемыми. Как-то на протяжении нескольких лет мне приходилось ездить в Брюссель для работы в одном институте. Останавливался я при этом всегда в одной и той же гостинице, поскольку у нее с институтом был какой-то договор. Приехав в первый раз, я должен был решить две задачи: посмотреть центр города (минутах в тридцати пешком) и позвонить домой (мобильных тогда еще не было, а звонок из гостиницы стоил безумно дорого). Я решил найти какой-нибудь переговорный пункт по пути в центр – и нашел его примерно в километре от гостиницы. Приехав в Брюссель в следующий раз уже зимой, снова пошел звонить в знакомое место. Погода была ужасная, идти километр совсем не хотелось, но позвонить-то надо было… Так продолжалось лет пять. Уезжая из той же гостиницы в последний раз, я решил в ожидании такси прогуляться не в сторону центра города, как всегда, а в противоположную, – и обнаружил переговорный пункт в соседнем здании… Было не столько обидно, сколько смешно. Почему же я не искал лучшего решения, почему не спросил на ресепшене, где находится ближайший переговорный пункт? Потому что я знал, где находится один, и он меня, в общем-то, устраивал. Такое поведение вполне естественно. Мы смеемся над тем, кто в тривиальной ситуации не знает, что делать: «Ты что, с Луны свалился?» или «Первый раз замужем?», но массу вещей сами делаем автоматически, не задумываясь об оптимальности однажды случайно выбранного способа поведения. Работает, ну и ладно…
Беда заключается в том, что стереотипные реакции приводят к тому же, что и в прошлый раз, результату, только в том случае, если ситуация и на самом деле во всех существенных аспектах та же самая. А если нет? Ведь то, что работало раньше, в других условиях, на другом предприятии или в другой стране совсем не обязательно будет работать так же, даже если внешне все выглядит очень похожим. Строго говоря, одним и тем же ничто никогда не бывает. Поэтому в стереотипном поведении всегда скрывается опасность серьезной ошибки.
В конце 90-х руководитель и самый крупный собственник одного из приватизированных предприятий в Литве, имевший большой опыт работы директором этого же предприятия еще при социализме, все продолжал ездить в столицу в отраслевое министерство, пытаясь традиционным и хорошо проверенным способом (коньяк, сервелат, шоколад) решать вопросы рыночных цен на сырье, реализации продукции, получения нового оборудования и тому подобное. Это, конечно, не помогало, и объяснение тому было простое – «правительство совсем не работает, ну что я с этим могу сделать?». Предприятие, которое когда-то было лидером в отрасли, уверенно катилось к банкротству, и первым шагом к его спасению было отстранение от управления самого «опытного» в отрасли руководителя. Этот опыт уже не годился. А другого у него не было. Потому что он по-другому работать и не пытался. Зачем пытаться, когда и так известно, что делать? Он же двадцать лет как директор!
Опыт, конечно, может быть подспорьем и в релевантной ситуации уберечь от грубых ошибок, но когда ситуация меняется – опыт превращается в барьер, который не дает включиться даже примитивному механизму случайного поиска, не говоря уже об интеллектуальных усилиях, требующихся для инновационного поведения. Во всех культурах мира уважение к старшим заметно коррелирует с динамикой условий существования. Когда условия столетиями не меняются (в горных аулах, пустыне, тайге) – старикам почет и уважение. Но там, где условия игры меняются быстро, стариков никто не слушает, а неопытные пацаны (точнее, те из них, кто выживает) становятся олигархами. За пределами зоны стереотипного поведения, в ситуациях, для которых не выработано адекватного опыта, поведение остается случайно-поисковым, и это все же лучше, чем ничего…
Теперь допустим, что у нашего организма есть не просто память, а способность обобщать свой опыт в представлениях о том, как устроен мир. Без всяких теорий, просто из опыта можно ведь знать, что ласточки летают низко перед дождем, а гаишники тянут резину, задают всякие глупые вопросы и не спешат возвращать права, когда надеются на мзду. Представление о том, как устроен мир, или так называемая ментальная карта, позволяет в ситуации, которая не является в точности строго узнаваемой (этого гаишника мы видим в первый раз), все же предвидеть возможные последствия того или иного варианта своего поведения – и выбирать наилучший. Такое поведение называется рациональным. Строго мы его определим в разделе о решении проблем.
А пока достаточно договориться о том, что при отсутствии видимых более или менее надежных альтернативных вариантов возвращения в зону комфорта поведение может быть только случайно-поисковым, при наличии только одного видимого варианта поведения – только стереотипным, а при наличии многих видимых вариантов и способности сравнить их между собой – также и рациональным. Для этого нужна только ментальная карта (сформированная на основе собственного опыта или позаимствованная из школьных учебников, а может – мама так говорила) и информация о ситуации, если таковая на этой ментальной карте обозначена. Тогда мы рассуждаем, что хотя это и происходит впервые (мы никогда не видели, как утюг падает с седьмого этажа), но ситуация понятная (благодаря высшему образованию мы можем с достаточной степенью вероятности мысленно прочертить траекторию), и на основании этого выбрать вариант собственного поведения (отскочить в сторону). Преимущества рационального поведения очевидны – оно позволяет при наличии уже не просто памяти, а и некоторого интеллекта не наступать на грабли, даже когда они лежат не на том же самом месте или имеют несколько другую форму. Оно позволяет направлять поиск туда, где шансы на успех больше. Это очень хорошо. Но и с рациональным поведением не все так просто.
Во-первых, никакая ментальная карта никогда не бывает абсолютно полной, отражающей все закономерности этого мира. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам…» Хотя многое из того, что не снилось мудрецам во времена Шекспира, позже уже кому-нибудь да приснилось, неизвестного все еще остается гораздо больше. И никакая ментальная карта не бывает абсолютно точной. Наряду с вечными истинами наши ментальные карты нашпигованы временными заблуждениями и ошибками наших учителей или нашими собственными. При этом любая карта устаревшая, уже хотя бы потому, что формируется она прошлым, а использовать ее мы пытаемся для оценки последствий наших действий в будущем. Приходится согласиться: неполная, неточная, да еще и устаревшая ментальная карта – рискованное руководство к действию. Но лучшего у нас обычно нет.
Во-вторых, возможность выбора зависит от имеющихся ресурсов, далеко не только финансовых. Связи, технологии, оборудование, умения и даже просто личное обаяние – этим всем мы наделены по-разному, и потому у каждого есть разные, реально ему доступные варианты поведения. А выбирает человек даже не из всех доступных, а только из тех, которые ему видимы, в то время как другие варианты, быть может, просто не приходят в голову.
Кроме того, всегда есть риск, что наш субъект не заметит того, что происходит на самом деле, если это не вписывается в принятую им картину мира и не рассматривается как нечто подлежащее анализу. Ибо мы видим только то, что предположительно должно быть увидено, наличие чего наш мозг настроен анализировать. Популярна легенда об аборигенах на островах в Карибском море, которые якобы не увидели приближающиеся корабли Колумба, ибо ни с чем подобным никогда не сталкивались и потому не могли распознать не только корабли, но и неординарность ситуации. Ведь видим, как и слышим, мы не глазами или ушами, а мозгом – это мозг распознает или нет и так или иначе интерпретирует образы в зависимости от того, что с этими образами в мозгу ассоциируется, что мы по этому поводу думаем. А думаем – в зависимости от своей ментальной карты и имеющейся информации. А карта формируется и информация отбирается из того, что мы видим. Вот и получается нечто вроде замкнутого круга, который на самом деле кругом не является. Цикл формирует восходящую спираль, пока мы не теряем способности к переосмыслению того, что уже знаем, то есть продолжаем обучаться, зная все больше и видя все больше. И спираль оказывается нисходящей, если знание остается неизменным, а мир продолжает меняться и двигаться вперед – отставание все увеличивается, вчерашние вершины знаний превращаются в глубины заблуждений. Какая уж там рациональность…
