– Надеюсь, я не ошибся, предположив в вас умного и начитанного юношу?
Его голос показался мне неприятным: будто слегка надтреснутый, как кофейная чашка, которую он нес ко рту, но замер на полдороге. А еще это слово: юноша.
Если я и кивнул, то, скорее, от растерянности.
– Значит, – он продолжил, – вы должны были задаться вопросом: почему гибнут цивилизации? – тут он снова полез в карман за платком.
Честно сказать, я не понял, с чего он завел про эти цивилизации. У меня, вообще, сложилось впечатление, что старик – городской сумасшедший. Он и выглядел соответственно.
– Дух, – он воздел крючковатый палец. – Только он способен обеспечить величие, но никогда, я подчеркиваю, никогда оно не длится вечно. Проходит время – в лучшем случае несколько столетий, – и соцветие превращается в сморщенную гроздь… – тут он откашлялся и сделал здоровенный глоток. – Города, некогда великие, занимают варвары. Но их сил хватает только на то, чтобы разрушить камни. Духовные знания им неподвластны. Вы, вероятно, спросите почему? – чокнутый старик потеребил бородавку, нависшую над верхней губой картофельным клубнем. – А я вам отвечу: миф. Вот универсальный способ передачи сокровенных знаний.
Из вежливости я кивнул.
– Никогда, – его тон стал торжественным, – духовные поиски не начинаются на пустом месте, – тут он заговорил про какие-то общие мифы, которые, насколько я его понял, переходят от цивилизации к цивилизации, пересекая историю насквозь. Помню, я еще подумал: что-то вроде печного отопления – как труба, которая начинается в подвале и доходит до крыши. – Поверьте, общих мифов великое множество: Великая мать, рождающая бога, – он загнул палец, – чудесное рождение, – загнул второй палец, – наконец, близнецы…
Тут он заговорил о каких-то близнецах, которые появились еще в Месопотамии и постепенно добрались до Библии. Здесь я отвлекся, потому что представил себе этих древних близнецов, которые карабкаются по трубе. Эта картинка показалась мне ужасно смешной, я даже поднес руку ко рту, на всякий случай, чтобы старик не заметил, если я вдруг хихикну. Но он смотрел куда-то в сторону. Во всяком случае, не на меня.
– Надеюсь, вы понимаете, – он сжал кулак, будто спрятал от меня что-то важное, – мифы не остаются неизменными, но именно они и только они объединяют человечество: мы рождаемся и умираем в разные исторические эпохи, однако в духовном смысле движемся одной дорогой. Точнее, стоим у одного окна. В древности оно было совсем пыльным, но каждая следующая цивилизация накапливала новые духовные знания и в этом смысле его немного промывала…
Тут мне захотелось спросить: а что будет в конце? Станет окно прозрачным или немножко пыли все-таки останется? Но я не решился. Подумал: вдруг этот чокнутый старик разозлится. А еще я хотел спросить: что там, за этим окном?
Но он словно бы прочел мои мысли:
– За этим окном стоят ответы на три главных вопроса, на которых зиждется каждая цивилизация: Жизнь и Смерть, Любовь и Ненависть, Добро и Зло, – тут старик обернулся, будто все эти вопросы стояли за окном кондитерской, прямо на тротуаре Среднего проспекта. Я тоже обернулся и, конечно, ничего не увидел, разве что старушку, допивавшую свой кофе. – Кстати, – он обвел меня испытующим взглядом, – вам никогда не приходило в голову задаться еще одним вопросом: кто такие волхвы?
Про волхвов я кое-что слышал: мудрецы, которые шли с Востока, сверяя свой путь по Звезде. Явились, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Но я не стал ему отвечать, потому что к этому моменту окончательно уверился: старик не в себе. Не в том дело, что я счел его рассуждения нелепыми. Что я мог знать про все эти мифы – и общие, и не общие? Конечно, я читал «Легенды и мифы Древней Греции». Но лезть с такими разговорами к первому встречному… Короче говоря, я решил валить, и чем скорее, тем лучше. Я даже отодвинул чашку с остатками кофе, но старик неожиданно нырнул под стол и, ловким жестом распустив стянутый ошейник, вынул довольно потрепанную книгу, из которой торчали клочки-закладки.
– Вот, – он прижал ее к груди так, что я не разглядел ни автора, ни названия, – дело даже не в том – кто они, эти волхвы. Главное, – его голос снова стал торжественным, – зачем они пришли, – он сделал еще один глоток и отставил пустую чашку. – Чтобы засвидетельствовать рождение истины, новой, но в то же время не порывающей с прежними победами Духа. Только при этом условии новая цивилизация может стать великой. Вы спросите: а что будет с теми народами, кто отринет прежние достижения? Их судьба – остаться на обочине, кануть в омут этнографии…
Кажется, я промычал что-то неопределенное. А еще я подумал, что эти волхвы, если верить старику, похожи на автобусных контролеров, проверяющих билеты. Только не у людей, а у цивилизаций: предъявил – поезжай дальше, нет билета – выходи и стой на обочине.
Я уже успел доесть пирожок и теперь дожидался удобного момента, чтобы благополучно смыться, но старик меня опередил: склонился к портфелю и, вложив в него свою потрепанную книгу, застегнул ремешок. Я стоял и смотрел ему вслед. Еще не догадываясь, что слова этого безумца перевернут мою жизнь. И, Господи, если бы только мою…
Теперь-то я понимаю: я должен был задуматься об этом всерьез, но кто в шестнадцать лет, окажись он на моем месте, справился бы с этой задачей?
Я отвел от лица сведенные пальцы и подумал: Инна.
Только она.
Она одна сумела что-то почувствовать, когда стояла на коленях перед проклятым телевизором, понимая, что все пропало – и ей уже никуда не скрыться… Или – я отодвинул кресло и вышел из-за стола – могла, но не захотела? В конце концов у нее было время, чтобы обдумать всё как следует и больше не обращаться к Звезде. А может, всё дело в той истории про Инанну, явившуюся на кладбище?..
Я стоял у окна, мысленно прокручивая старую пленку, пока не добрался до Светланиных слов: «Эта богиня потребовала, чтобы ее впустили в царство мертвых, да еще и пригрозила: не впустят, ворвется сама. И выпустит их всех на волю… Они испугались: у них в мифологии мертвые поедают живых». А отец ответил: «Совсем как у нас», – а Инна всё это слышала: и миф, и имя верховной богини, похожее на ее собственное. Конечно, это всего лишь совпадение, но разве оно не могло ее поразить? Особенно если потом она нашла этот древний миф и прочла его полностью: Инанна, богиня плодородия, плотской любви и распри, звезда утреннего восхода, владычица небес… Я попытался представить себе: вот она идет в библиотеку, роется в энциклопедиях, читает этот странный миф, в котором женщина, центральное божество шумерского пантеона, принимает из рук бога-отца таблички человеческих судеб, а пьяный отец посылает ей вслед демонов, и она сражается с ними, а потом превращает в кровь всю воду в источниках, так что деревья начинают сочиться кровью; о ее любви к богу-пастуху Думузи, о том, как она уходит под землю, – в этот общий миф, страну без возврата, – и понял: да. Все правильно, так оно и было. Это я читал и выдумывал знаки, а она действовала. Сама, без оглядки на своих предшественниц…
И что, – я сжал кулаки, – выходит, она сама во всем виновата? Но тогда при чем здесь Звезда? Миллионы людей, жившие и умиравшие в СССР, ничего не загадывали и ни о чем таком не задумывались. Ни о тех, чьи таблички остались в древнейших цивилизациях, ни о других, которые гибли в нашей, возомнившей себя наследницей духовного величия…
И тут я вспомнил слова старика: дело не в том, кто такие волхвы, а в том, зачем они пришли. Рано или поздно они обязательно являются, чтобы засвидетельствовать истину или опровергнуть ее подобие. И в том и в другом случае их самих выбирает история. У волхвов, идущих с Востока, выбора нет…
Все-таки старик сумел задеть меня за живое. «Ну, положим, – я шел домой по Среднему проспекту, – любовь и ненависть, добро и зло… Древние люди могли отвечать на эти вопросы по-своему. Но жизнь и смерть? В какую эпоху ни родись, разве можно относиться к ним иначе? Иметь особое мнение, совершенно отличное от нашего?..»
А еще я понял: заговорив со мной, этот старик не ошибся. Потому что я тоже думал о смерти, хотя никогда не видел мертвых, но они окружали меня с самого детства, как ватные пальто, под которыми я прятался. Именно эту мысль я надеялся разрешить, когда открывал наш семейный альбом, а потом писал слово смерть, но, сколько ни вглядывался, видел только мертвые буквы. «Потому что, – я вошел в свою парадную и оглядел стены, изрезанные надписями и рисунками, – смотрел в грязное окно. А они, те, кто умер раньше? Разве они смотрели в чистое?..»
Дома никого не было. Я зашел в свою комнату и отдернул занавеску. Стоял, пытаясь понять, как они смотрели, когда думали о смерти? И что они там видели – за своим пыльным окном?
И тут что-то сдвинулось в моей в голове, потому что я вспомнил одну тоненькую книжку, старую, еще дореволюционную. Про древних египтян. Она стояла на полке в кабинете отца. Раньше я не обращал на нее внимания, но теперь достал и прочел. Внимательно, от корки до корки. Эти древние египтяне действительно думали по-своему: для них жизнь была преддверием смерти.
«А моя жизнь – что она для меня?»
На этот вопрос я не мог ответить. А потому снова задумался о смерти. Мне казалось, смерть бывает справедливой и несправедливой. Вот, например, мой дед, погибший на войне. Я думал: на войне погибают многие. В этом смысле его смерть справедлива, ею можно гордиться. Сколько раз просил отца рассказать подробнее, но он всегда отмалчивается. А потом вспомнил о духовных поисках: старик утверждал, что они не начинаются на пустом месте. Все, кто умерли до нас, искали ответы на эти вопросы, иными словами, пытались внести свой вклад. Как близнецы, которые карабкались по трубе, стараясь добраться до крыши. Если верить старику, мы, живущие в двадцатом веке, вскарабкались выше египтян.
Эта мысль мне очень понравилась. Согласитесь, приятно почувствовать себя самым умным, умнее всех древних народов, которые лезли и лезли, да так и не добрались до истины. Я даже пожалел египтян. А потом пролистал тоненькую книжку и подумал: кое в чем эти древние египтяне правы. Мы пишем буквами, а они знаками. Любое правописание со временем засоряется, но то, что написано знаками, исправить легче. Знаки живее букв.
И потом: знак можно просто выскрести, а на его место поставить новый. С буквами это не так-то просто.
Я взял листок и попробовал: ПРАВДА, ПРУВДА, ПРИВДА.
Любому первокласснику ясно, что это никакой не новый смысл, а просто ошибка. Те, кто придет после нас, моментально ее исправят да еще будут смеяться над нашей безграмотностью. Вот и получится, что мы никуда не вскарабкались, а так и провисели на одном месте, вцепившись в трубу.
Короче говоря, я понял, что должен делать. Но окончательно решился только после того, как услышал про Эхнатона. Меня поразило это совпадение, будто там, в Древнем Египте, я нашел своего близнеца. Павел Александрович сказал, что у этого Эхнатона ничего не вышло. Но я подумал: мало ли, что у кого не вышло… Во-первых, я живу позже. А во-вторых, у кого-то же получалось. Почему не у меня?..
3
Его голос показался мне неприятным: будто слегка надтреснутый, как кофейная чашка, которую он нес ко рту, но замер на полдороге. А еще это слово: юноша.
Если я и кивнул, то, скорее, от растерянности.
– Значит, – он продолжил, – вы должны были задаться вопросом: почему гибнут цивилизации? – тут он снова полез в карман за платком.
Честно сказать, я не понял, с чего он завел про эти цивилизации. У меня, вообще, сложилось впечатление, что старик – городской сумасшедший. Он и выглядел соответственно.
– Дух, – он воздел крючковатый палец. – Только он способен обеспечить величие, но никогда, я подчеркиваю, никогда оно не длится вечно. Проходит время – в лучшем случае несколько столетий, – и соцветие превращается в сморщенную гроздь… – тут он откашлялся и сделал здоровенный глоток. – Города, некогда великие, занимают варвары. Но их сил хватает только на то, чтобы разрушить камни. Духовные знания им неподвластны. Вы, вероятно, спросите почему? – чокнутый старик потеребил бородавку, нависшую над верхней губой картофельным клубнем. – А я вам отвечу: миф. Вот универсальный способ передачи сокровенных знаний.
Из вежливости я кивнул.
– Никогда, – его тон стал торжественным, – духовные поиски не начинаются на пустом месте, – тут он заговорил про какие-то общие мифы, которые, насколько я его понял, переходят от цивилизации к цивилизации, пересекая историю насквозь. Помню, я еще подумал: что-то вроде печного отопления – как труба, которая начинается в подвале и доходит до крыши. – Поверьте, общих мифов великое множество: Великая мать, рождающая бога, – он загнул палец, – чудесное рождение, – загнул второй палец, – наконец, близнецы…
Тут он заговорил о каких-то близнецах, которые появились еще в Месопотамии и постепенно добрались до Библии. Здесь я отвлекся, потому что представил себе этих древних близнецов, которые карабкаются по трубе. Эта картинка показалась мне ужасно смешной, я даже поднес руку ко рту, на всякий случай, чтобы старик не заметил, если я вдруг хихикну. Но он смотрел куда-то в сторону. Во всяком случае, не на меня.
– Надеюсь, вы понимаете, – он сжал кулак, будто спрятал от меня что-то важное, – мифы не остаются неизменными, но именно они и только они объединяют человечество: мы рождаемся и умираем в разные исторические эпохи, однако в духовном смысле движемся одной дорогой. Точнее, стоим у одного окна. В древности оно было совсем пыльным, но каждая следующая цивилизация накапливала новые духовные знания и в этом смысле его немного промывала…
Тут мне захотелось спросить: а что будет в конце? Станет окно прозрачным или немножко пыли все-таки останется? Но я не решился. Подумал: вдруг этот чокнутый старик разозлится. А еще я хотел спросить: что там, за этим окном?
Но он словно бы прочел мои мысли:
– За этим окном стоят ответы на три главных вопроса, на которых зиждется каждая цивилизация: Жизнь и Смерть, Любовь и Ненависть, Добро и Зло, – тут старик обернулся, будто все эти вопросы стояли за окном кондитерской, прямо на тротуаре Среднего проспекта. Я тоже обернулся и, конечно, ничего не увидел, разве что старушку, допивавшую свой кофе. – Кстати, – он обвел меня испытующим взглядом, – вам никогда не приходило в голову задаться еще одним вопросом: кто такие волхвы?
Про волхвов я кое-что слышал: мудрецы, которые шли с Востока, сверяя свой путь по Звезде. Явились, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Но я не стал ему отвечать, потому что к этому моменту окончательно уверился: старик не в себе. Не в том дело, что я счел его рассуждения нелепыми. Что я мог знать про все эти мифы – и общие, и не общие? Конечно, я читал «Легенды и мифы Древней Греции». Но лезть с такими разговорами к первому встречному… Короче говоря, я решил валить, и чем скорее, тем лучше. Я даже отодвинул чашку с остатками кофе, но старик неожиданно нырнул под стол и, ловким жестом распустив стянутый ошейник, вынул довольно потрепанную книгу, из которой торчали клочки-закладки.
– Вот, – он прижал ее к груди так, что я не разглядел ни автора, ни названия, – дело даже не в том – кто они, эти волхвы. Главное, – его голос снова стал торжественным, – зачем они пришли, – он сделал еще один глоток и отставил пустую чашку. – Чтобы засвидетельствовать рождение истины, новой, но в то же время не порывающей с прежними победами Духа. Только при этом условии новая цивилизация может стать великой. Вы спросите: а что будет с теми народами, кто отринет прежние достижения? Их судьба – остаться на обочине, кануть в омут этнографии…
Кажется, я промычал что-то неопределенное. А еще я подумал, что эти волхвы, если верить старику, похожи на автобусных контролеров, проверяющих билеты. Только не у людей, а у цивилизаций: предъявил – поезжай дальше, нет билета – выходи и стой на обочине.
Я уже успел доесть пирожок и теперь дожидался удобного момента, чтобы благополучно смыться, но старик меня опередил: склонился к портфелю и, вложив в него свою потрепанную книгу, застегнул ремешок. Я стоял и смотрел ему вслед. Еще не догадываясь, что слова этого безумца перевернут мою жизнь. И, Господи, если бы только мою…
Теперь-то я понимаю: я должен был задуматься об этом всерьез, но кто в шестнадцать лет, окажись он на моем месте, справился бы с этой задачей?
Я отвел от лица сведенные пальцы и подумал: Инна.
Только она.
Она одна сумела что-то почувствовать, когда стояла на коленях перед проклятым телевизором, понимая, что все пропало – и ей уже никуда не скрыться… Или – я отодвинул кресло и вышел из-за стола – могла, но не захотела? В конце концов у нее было время, чтобы обдумать всё как следует и больше не обращаться к Звезде. А может, всё дело в той истории про Инанну, явившуюся на кладбище?..
Я стоял у окна, мысленно прокручивая старую пленку, пока не добрался до Светланиных слов: «Эта богиня потребовала, чтобы ее впустили в царство мертвых, да еще и пригрозила: не впустят, ворвется сама. И выпустит их всех на волю… Они испугались: у них в мифологии мертвые поедают живых». А отец ответил: «Совсем как у нас», – а Инна всё это слышала: и миф, и имя верховной богини, похожее на ее собственное. Конечно, это всего лишь совпадение, но разве оно не могло ее поразить? Особенно если потом она нашла этот древний миф и прочла его полностью: Инанна, богиня плодородия, плотской любви и распри, звезда утреннего восхода, владычица небес… Я попытался представить себе: вот она идет в библиотеку, роется в энциклопедиях, читает этот странный миф, в котором женщина, центральное божество шумерского пантеона, принимает из рук бога-отца таблички человеческих судеб, а пьяный отец посылает ей вслед демонов, и она сражается с ними, а потом превращает в кровь всю воду в источниках, так что деревья начинают сочиться кровью; о ее любви к богу-пастуху Думузи, о том, как она уходит под землю, – в этот общий миф, страну без возврата, – и понял: да. Все правильно, так оно и было. Это я читал и выдумывал знаки, а она действовала. Сама, без оглядки на своих предшественниц…
И что, – я сжал кулаки, – выходит, она сама во всем виновата? Но тогда при чем здесь Звезда? Миллионы людей, жившие и умиравшие в СССР, ничего не загадывали и ни о чем таком не задумывались. Ни о тех, чьи таблички остались в древнейших цивилизациях, ни о других, которые гибли в нашей, возомнившей себя наследницей духовного величия…
И тут я вспомнил слова старика: дело не в том, кто такие волхвы, а в том, зачем они пришли. Рано или поздно они обязательно являются, чтобы засвидетельствовать истину или опровергнуть ее подобие. И в том и в другом случае их самих выбирает история. У волхвов, идущих с Востока, выбора нет…
Все-таки старик сумел задеть меня за живое. «Ну, положим, – я шел домой по Среднему проспекту, – любовь и ненависть, добро и зло… Древние люди могли отвечать на эти вопросы по-своему. Но жизнь и смерть? В какую эпоху ни родись, разве можно относиться к ним иначе? Иметь особое мнение, совершенно отличное от нашего?..»
А еще я понял: заговорив со мной, этот старик не ошибся. Потому что я тоже думал о смерти, хотя никогда не видел мертвых, но они окружали меня с самого детства, как ватные пальто, под которыми я прятался. Именно эту мысль я надеялся разрешить, когда открывал наш семейный альбом, а потом писал слово смерть, но, сколько ни вглядывался, видел только мертвые буквы. «Потому что, – я вошел в свою парадную и оглядел стены, изрезанные надписями и рисунками, – смотрел в грязное окно. А они, те, кто умер раньше? Разве они смотрели в чистое?..»
Дома никого не было. Я зашел в свою комнату и отдернул занавеску. Стоял, пытаясь понять, как они смотрели, когда думали о смерти? И что они там видели – за своим пыльным окном?
И тут что-то сдвинулось в моей в голове, потому что я вспомнил одну тоненькую книжку, старую, еще дореволюционную. Про древних египтян. Она стояла на полке в кабинете отца. Раньше я не обращал на нее внимания, но теперь достал и прочел. Внимательно, от корки до корки. Эти древние египтяне действительно думали по-своему: для них жизнь была преддверием смерти.
«А моя жизнь – что она для меня?»
На этот вопрос я не мог ответить. А потому снова задумался о смерти. Мне казалось, смерть бывает справедливой и несправедливой. Вот, например, мой дед, погибший на войне. Я думал: на войне погибают многие. В этом смысле его смерть справедлива, ею можно гордиться. Сколько раз просил отца рассказать подробнее, но он всегда отмалчивается. А потом вспомнил о духовных поисках: старик утверждал, что они не начинаются на пустом месте. Все, кто умерли до нас, искали ответы на эти вопросы, иными словами, пытались внести свой вклад. Как близнецы, которые карабкались по трубе, стараясь добраться до крыши. Если верить старику, мы, живущие в двадцатом веке, вскарабкались выше египтян.
Эта мысль мне очень понравилась. Согласитесь, приятно почувствовать себя самым умным, умнее всех древних народов, которые лезли и лезли, да так и не добрались до истины. Я даже пожалел египтян. А потом пролистал тоненькую книжку и подумал: кое в чем эти древние египтяне правы. Мы пишем буквами, а они знаками. Любое правописание со временем засоряется, но то, что написано знаками, исправить легче. Знаки живее букв.
И потом: знак можно просто выскрести, а на его место поставить новый. С буквами это не так-то просто.
Я взял листок и попробовал: ПРАВДА, ПРУВДА, ПРИВДА.
Любому первокласснику ясно, что это никакой не новый смысл, а просто ошибка. Те, кто придет после нас, моментально ее исправят да еще будут смеяться над нашей безграмотностью. Вот и получится, что мы никуда не вскарабкались, а так и провисели на одном месте, вцепившись в трубу.
Короче говоря, я понял, что должен делать. Но окончательно решился только после того, как услышал про Эхнатона. Меня поразило это совпадение, будто там, в Древнем Египте, я нашел своего близнеца. Павел Александрович сказал, что у этого Эхнатона ничего не вышло. Но я подумал: мало ли, что у кого не вышло… Во-первых, я живу позже. А во-вторых, у кого-то же получалось. Почему не у меня?..
3
К старой чертежной доске, невесть от кого доставшейся по наследству – в родне чертежников не было, – Чибис прикреплял шершавый ватманский лист. Прежде чем разложиться на столе, он внимательно обошел пустые комнаты, как будто проверил караулы. Старые пальто, висевшие в прихожей, сторожили бессонно и надежно.
Завершив осмотр, сел и открыл альбом. Смотрел на фотографию деда: его дед погиб справедливой смертью – как многие другие, кто погиб на войне. Глаза, губы… И правда, как будто подпухшие. Эта женщина сказала: отец похож на Эхнатона. Выходит, дед тоже?..
Чибис поджал под себя ногу, достал маленькую коробочку и высыпал горсть серебристых кнопок. Теперь он думал о другой смерти – несправедливой и необъяснимой никакими словами – и готовился приступить к тайному делу, которое касалось области их семейного преданья, но если в других семьях эта туманная область начиналась за полями, откуда вам кивают бабушки и дедушки, в их семье всё обстояло иначе. Она начиналась совсем рядом, в больнице Отта, где умерла его мать.
Уже избавленная от предсмертной боли и ужаса прощания, одетая в праздничное платье небесно-голубого цвета, в котором тремя василеостровскими днями позже ее положили в гроб, она уходила от Чибиса, и ветер, никогда не стихающий на Васильевском острове, поднимал ее слабые косы. На фотографии, сохранившейся в альбоме, она носила короткую стрижку, а в ожидании ребенка отпустила волосы и заплела их мягкими белыми тряпочками, но Чибису, лежавшему в высокой кроватке в темном здании на Биржевой линии, они виделись не косами, поднятыми ветром, а высокими коровьими рогами. Глядя ей вслед, он чувствовал себя обузой, которую она оставила на руках мужа, – теленком, тоскующим по материнскому молоку.
Несправедливость, принявшая облик смерти, с которой началась его жизнь, усугублялась рассказами отца о том, что с тяжелой формой родильной горячки, одолевшей его мать, позже научились бороться, придумав какое-то лекарство или вакцину. Об этой двойной несправедливости он думал неотступно, как будто долгие шестнадцать лет шел, держась за подол ее небесно-голубого платья, в другие края, которые нельзя разглядеть, даже встав на цыпочки у самой кромки Финского залива.
Под Чибисовой беспокойной рукой передовой отряд копейщиков расползался по ватманской глади. Каждая из кнопок, прикрываясь круглым щитом, бесстрашно выставляла вперед острое металлическое копьецо.
Отряд располагался внизу, там, где кончался оазис зеленого сукна и начиналась каменистая пустыня, выбеленная светом настольной лампы. Отделив маленькую горстку смельчаков, Чибис выдвинул их вперед и дал задание закрепиться на ближних рубежах. Запустив руку в тупичок тумбы, извлек два пузырька с тушью – черной и красной – и коробочку с плакатными перьями.
На нижнем краю каменистой пустыни появилась тонкая, чуть-чуть неправильная окружность. Переменив перо, Чибис обмакнул его в красную склянку и пририсовал два выгнутых отростка, похожих на коровьи рога или косы, поднятые ветром. Под первой, большей, окружностью он вывел еще одну – черный шарик, тяжелую маленькую гирьку, под которой разумел себя. Теперь они были вместе, но как-то непрочно, потому что у матери не было рук, чтобы его удержать. Снова переменив перо, он добавил несколько симметричных штрихов: беря начало под большей окружностью, они крылато оперили ее с боков. На этот раз соединение получилось надежным. Шарик, уравновешивая силу материнских, вновь обретенных крыльев, не позволял ей уйти в высокое небо, где косы, поднявшиеся коровьими рогами, будут и вовсе неразличимы.
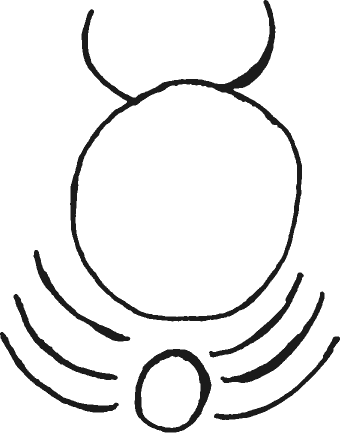
Рука Чибиса дрогнула. Он замер, прислушиваясь. Кто-то поднимался по лестнице – ему показалось, он слышит шаги. За спиной скрипнуло, как дверь больничной палаты. Чибис обернулся и увидел высокую худую старуху. По густой синей шали, расшитой мелкими золотыми звездами, которую она, подходя к кровати, накинула на железную спинку, завесив табличку с материнским именем и упоминанием о безымянном еще Чибисе, он узнал бабушку – мать отца. В прежние времена эта шаль принадлежала ей, но потом, после ее смерти, перешла к невестке.
Звездная ткань занавесила солнечное сияние, которым Чибисово воображение окружало табличку – ничтожный кусочек больничного картона, где они с матерью навсегда остались вместе. Бабка склонилась над кроватью молодым и гибким движением, как будто требовала своего места в их тайном общем знаке. Не смея ослушаться, Чибис стряхнул с пера лишнюю капельку туши и вывел правильный полукруг. Над ним, словно бабушкина шаль, занавесившая солнце, превратилась в ночное небо, взошли три сияющие звезды.
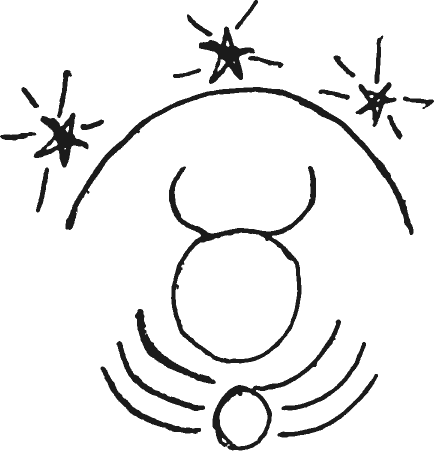
Еще не осознавая, к чему клонится дело, Чибис дал свободу руке, будто слез с навьюченной, бессловесной ослицы. Рука цокнула по столу костяшками пальцев. Перо отчертило горизонтальную линию и вывело еще один полукруг. Формой он повторял бабушкин знак, но был привязан к небу лучами – будто из-под звездной шали выбилось солнце.
Глаза дрожали, напрягаясь. Знак его прабабки, похожий на солнце, двоился и троился, уходя за новые горизонты, и Чибис понял: цепь, замкнутая тяжелым шариком, состоит из женщин, не связанных между собою прямой последовательностью родства – каждая рождала собственного сына, чтобы через него вступить с невесткой в кровную связь. Этой молодой матери ее свекровь передавала тайну рождения. Так было всегда, кроме самого последнего раза, когда бабка, занавесив их общую с матерью табличку, открыла невестке другую тайну: рождения, совпадающего со смертью.

Чибис стукнул об стол костяшками пальцев и подул на них, словно боль дымилась.
Он понял, почему отец не любит говорить о смерти деда: смерть мужчин не имеет отношения к главной тайне жизни. Он встал и зашагал по комнате, торопя новую догадку: чтобы замкнуть цепь, разорвавшуюся на его матери, нужна новая мать – живая и настоящая. Ее надо вовлечь в их семейное прошлое, привить его, как вакцину смертельной болезни, чтобы она, став неуязвимой, выступила против его бабушки, тем самым раз и навсегда разделив рождение и смерть.
Чибис смотрел, не отводя глаз, словно горизонтальные линии, выведенные его пером, стали поперечинами, по которым можно карабкаться всё выше и выше, и думал о старике. Этот старик сказал правду: тайное окно существует. Главное, научиться правильно смотреть.
«Еще немного… и всё получится…» – но потом вдруг моргнул, и оно рассыпалось. Как будто окно, в которое он заглядывал, снова покрылось пылью.
Памятью он обладал уникальной. Раз прочитанное впечатывалось в нее намертво. Всё, кроме стихов. Вечно ускользали какие-то строчки, словно извилины, скрытые под черепной коробкой, были своего рода научной библиотекой, хранящей исключительно факты. В юности Тетерятников не осознавал своих талантов, искренне полагая, что мало чем отличается от всех прочих. Глаза открылись тогда, когда, поразив экзаменаторов своими познаниями, он поступил на философский факультет Ленинградского университета. Тут-то обнаружилась еще одна странная особенность, повлекшая за собой неприятные последствия.
Выяснилось, что при всей уникальной памяти Тетерятников не мог стать отличником. Огромный корпус сведений, плескавшихся в его мозгу, не складывался в закономерности, гласившие, что история движется поступательно – от плохого к хорошему. Честно приступая к ответу, Тетерятников довольно скоро углублялся в дебри частностей, из которых уже не мог выбраться на светлые поляны советской науки. За лесом фактов ему мерещилось трагическое, чуждое университетским профессорам. Профессора, ожидавшие от него последних оптимистических выводов, пытались прийти на помощь, но талантливый студент сникал на глазах.
По окончании университета он получил распределение в среднюю мужскую школу. Этот недолгий период жизни Тетерятников вспоминал с тоской. Мальчиков, сидевших за партами, не интересовали ни факты, ни закономерности. На уроках истории ученики занимались посторонними делами – Матвей Платонович вещал в пустоту. Со временем он возможно бы и свыкся, если бы они оставили его в покое. То вынимая из-под себя очередную кнопку, то находя в портфеле разбитую чернильницу, он дивился бессмысленной жестокости малолеток, находивших радость в чужих страданиях, но объяснял это тем, что большинство росло без отцов. Однажды, войдя в класс, он обнаружил мертвую собаку – вытянувшись к передним лапам, она лежала перед учительским столом. В собачьей голове зияла глубокая рана. Матвей Платонович смотрел на кровь, свернувшуюся сгустками, представляя себе, как эти мальчики забивают ее палками. Другой учитель, окажись он на его месте, приказал бы вынести на помойку, но Тетерятников раскрыл портфель и начал урок. Он рассказывал о древних людях, приносивших своим богам человеческие жертвы, и, косясь на острую мордочку, думал: такое нельзя оставлять без последствий. На перемене он отправился к директору. Зачинщиков выявили и примерно наказали, но по некоторым репликам в его адрес, которые позволила себе школьная директриса, Матвей Платонович не то чтобы понял, скорее, почувствовал: в каком-то высшем, философском, смысле она – на их стороне.
Через неделю он подал заявление, которое директриса охотно подписала, и устроился в научно-исследовательский институт. Его обязанности сводились к подбору и брошюровке документов. Бессмысленная работа не раздражала. Смысл жизни Тетерятников находил в собирании книг. В основу библиотеки легли довоенные приобретения. В те упоительные времена редчайшие экземпляры доставались за бесценок.
До войны Матвей Платонович жил в большой коммуналке на углу 9-й линии и Среднего проспекта. Весной сорок первого он заболел туберкулезом, правда, в закрытой форме. Но все равно его не призвали. Чтобы выздороветь, туберкулезникам требуется усиленное питание. Он был уверен, что умрет очень скоро, а потому не спускался в бомбоубежище: еще неизвестно, какая смерть лучше. Мучили голод и тревога за книги: умру – пожгут. Эти разговоры соседи заводили давно: дескать, вон какое богатство, а тут дети мерзнут… Дети вскорости умерли, но тревога осталась.
Через год, когда норму выдачи немного прибавили, Тетерятников начал подсушивать сухари. Постепенно набрался маленький мешочек. Квартиру он присмотрел заранее: однокомнатную, лепившуюся под стрехой бывшего доходного дома на Среднем. Зимой сорок пятого сговорился с одним контуженным: вдвоем они и перевезли на саночках, пачку за пачкой. Контуженный получил сухари и в придачу тетерятниковскую комнату – двадцать восемь метров. Обе стороны остались довольны сделкой.
Завершив осмотр, сел и открыл альбом. Смотрел на фотографию деда: его дед погиб справедливой смертью – как многие другие, кто погиб на войне. Глаза, губы… И правда, как будто подпухшие. Эта женщина сказала: отец похож на Эхнатона. Выходит, дед тоже?..
Чибис поджал под себя ногу, достал маленькую коробочку и высыпал горсть серебристых кнопок. Теперь он думал о другой смерти – несправедливой и необъяснимой никакими словами – и готовился приступить к тайному делу, которое касалось области их семейного преданья, но если в других семьях эта туманная область начиналась за полями, откуда вам кивают бабушки и дедушки, в их семье всё обстояло иначе. Она начиналась совсем рядом, в больнице Отта, где умерла его мать.
Уже избавленная от предсмертной боли и ужаса прощания, одетая в праздничное платье небесно-голубого цвета, в котором тремя василеостровскими днями позже ее положили в гроб, она уходила от Чибиса, и ветер, никогда не стихающий на Васильевском острове, поднимал ее слабые косы. На фотографии, сохранившейся в альбоме, она носила короткую стрижку, а в ожидании ребенка отпустила волосы и заплела их мягкими белыми тряпочками, но Чибису, лежавшему в высокой кроватке в темном здании на Биржевой линии, они виделись не косами, поднятыми ветром, а высокими коровьими рогами. Глядя ей вслед, он чувствовал себя обузой, которую она оставила на руках мужа, – теленком, тоскующим по материнскому молоку.
Несправедливость, принявшая облик смерти, с которой началась его жизнь, усугублялась рассказами отца о том, что с тяжелой формой родильной горячки, одолевшей его мать, позже научились бороться, придумав какое-то лекарство или вакцину. Об этой двойной несправедливости он думал неотступно, как будто долгие шестнадцать лет шел, держась за подол ее небесно-голубого платья, в другие края, которые нельзя разглядеть, даже встав на цыпочки у самой кромки Финского залива.
Под Чибисовой беспокойной рукой передовой отряд копейщиков расползался по ватманской глади. Каждая из кнопок, прикрываясь круглым щитом, бесстрашно выставляла вперед острое металлическое копьецо.
Отряд располагался внизу, там, где кончался оазис зеленого сукна и начиналась каменистая пустыня, выбеленная светом настольной лампы. Отделив маленькую горстку смельчаков, Чибис выдвинул их вперед и дал задание закрепиться на ближних рубежах. Запустив руку в тупичок тумбы, извлек два пузырька с тушью – черной и красной – и коробочку с плакатными перьями.
На нижнем краю каменистой пустыни появилась тонкая, чуть-чуть неправильная окружность. Переменив перо, Чибис обмакнул его в красную склянку и пририсовал два выгнутых отростка, похожих на коровьи рога или косы, поднятые ветром. Под первой, большей, окружностью он вывел еще одну – черный шарик, тяжелую маленькую гирьку, под которой разумел себя. Теперь они были вместе, но как-то непрочно, потому что у матери не было рук, чтобы его удержать. Снова переменив перо, он добавил несколько симметричных штрихов: беря начало под большей окружностью, они крылато оперили ее с боков. На этот раз соединение получилось надежным. Шарик, уравновешивая силу материнских, вновь обретенных крыльев, не позволял ей уйти в высокое небо, где косы, поднявшиеся коровьими рогами, будут и вовсе неразличимы.
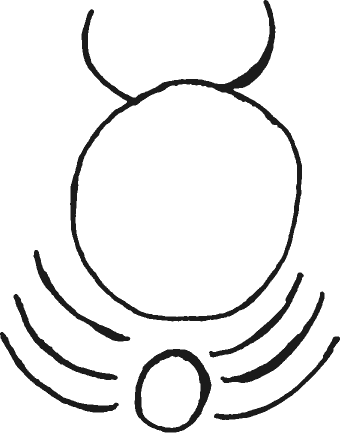
Рука Чибиса дрогнула. Он замер, прислушиваясь. Кто-то поднимался по лестнице – ему показалось, он слышит шаги. За спиной скрипнуло, как дверь больничной палаты. Чибис обернулся и увидел высокую худую старуху. По густой синей шали, расшитой мелкими золотыми звездами, которую она, подходя к кровати, накинула на железную спинку, завесив табличку с материнским именем и упоминанием о безымянном еще Чибисе, он узнал бабушку – мать отца. В прежние времена эта шаль принадлежала ей, но потом, после ее смерти, перешла к невестке.
Звездная ткань занавесила солнечное сияние, которым Чибисово воображение окружало табличку – ничтожный кусочек больничного картона, где они с матерью навсегда остались вместе. Бабка склонилась над кроватью молодым и гибким движением, как будто требовала своего места в их тайном общем знаке. Не смея ослушаться, Чибис стряхнул с пера лишнюю капельку туши и вывел правильный полукруг. Над ним, словно бабушкина шаль, занавесившая солнце, превратилась в ночное небо, взошли три сияющие звезды.
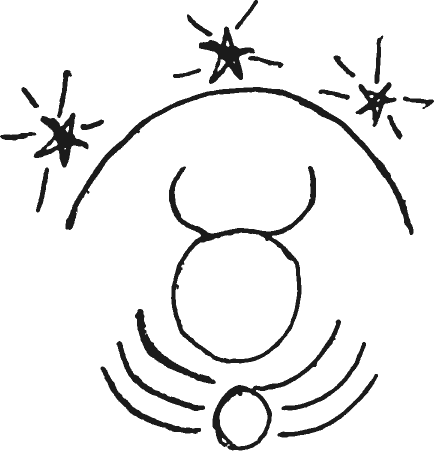
Еще не осознавая, к чему клонится дело, Чибис дал свободу руке, будто слез с навьюченной, бессловесной ослицы. Рука цокнула по столу костяшками пальцев. Перо отчертило горизонтальную линию и вывело еще один полукруг. Формой он повторял бабушкин знак, но был привязан к небу лучами – будто из-под звездной шали выбилось солнце.
Глаза дрожали, напрягаясь. Знак его прабабки, похожий на солнце, двоился и троился, уходя за новые горизонты, и Чибис понял: цепь, замкнутая тяжелым шариком, состоит из женщин, не связанных между собою прямой последовательностью родства – каждая рождала собственного сына, чтобы через него вступить с невесткой в кровную связь. Этой молодой матери ее свекровь передавала тайну рождения. Так было всегда, кроме самого последнего раза, когда бабка, занавесив их общую с матерью табличку, открыла невестке другую тайну: рождения, совпадающего со смертью.

Чибис стукнул об стол костяшками пальцев и подул на них, словно боль дымилась.
Он понял, почему отец не любит говорить о смерти деда: смерть мужчин не имеет отношения к главной тайне жизни. Он встал и зашагал по комнате, торопя новую догадку: чтобы замкнуть цепь, разорвавшуюся на его матери, нужна новая мать – живая и настоящая. Ее надо вовлечь в их семейное прошлое, привить его, как вакцину смертельной болезни, чтобы она, став неуязвимой, выступила против его бабушки, тем самым раз и навсегда разделив рождение и смерть.
Чибис смотрел, не отводя глаз, словно горизонтальные линии, выведенные его пером, стали поперечинами, по которым можно карабкаться всё выше и выше, и думал о старике. Этот старик сказал правду: тайное окно существует. Главное, научиться правильно смотреть.
«Еще немного… и всё получится…» – но потом вдруг моргнул, и оно рассыпалось. Как будто окно, в которое он заглядывал, снова покрылось пылью.
* * *
«Нам не дано предугадать… как наше слово… отзовется… И что-то как-то там дается, как нам дается…» – Матвей Платонович перехватил расползающийся портфель.Памятью он обладал уникальной. Раз прочитанное впечатывалось в нее намертво. Всё, кроме стихов. Вечно ускользали какие-то строчки, словно извилины, скрытые под черепной коробкой, были своего рода научной библиотекой, хранящей исключительно факты. В юности Тетерятников не осознавал своих талантов, искренне полагая, что мало чем отличается от всех прочих. Глаза открылись тогда, когда, поразив экзаменаторов своими познаниями, он поступил на философский факультет Ленинградского университета. Тут-то обнаружилась еще одна странная особенность, повлекшая за собой неприятные последствия.
Выяснилось, что при всей уникальной памяти Тетерятников не мог стать отличником. Огромный корпус сведений, плескавшихся в его мозгу, не складывался в закономерности, гласившие, что история движется поступательно – от плохого к хорошему. Честно приступая к ответу, Тетерятников довольно скоро углублялся в дебри частностей, из которых уже не мог выбраться на светлые поляны советской науки. За лесом фактов ему мерещилось трагическое, чуждое университетским профессорам. Профессора, ожидавшие от него последних оптимистических выводов, пытались прийти на помощь, но талантливый студент сникал на глазах.
По окончании университета он получил распределение в среднюю мужскую школу. Этот недолгий период жизни Тетерятников вспоминал с тоской. Мальчиков, сидевших за партами, не интересовали ни факты, ни закономерности. На уроках истории ученики занимались посторонними делами – Матвей Платонович вещал в пустоту. Со временем он возможно бы и свыкся, если бы они оставили его в покое. То вынимая из-под себя очередную кнопку, то находя в портфеле разбитую чернильницу, он дивился бессмысленной жестокости малолеток, находивших радость в чужих страданиях, но объяснял это тем, что большинство росло без отцов. Однажды, войдя в класс, он обнаружил мертвую собаку – вытянувшись к передним лапам, она лежала перед учительским столом. В собачьей голове зияла глубокая рана. Матвей Платонович смотрел на кровь, свернувшуюся сгустками, представляя себе, как эти мальчики забивают ее палками. Другой учитель, окажись он на его месте, приказал бы вынести на помойку, но Тетерятников раскрыл портфель и начал урок. Он рассказывал о древних людях, приносивших своим богам человеческие жертвы, и, косясь на острую мордочку, думал: такое нельзя оставлять без последствий. На перемене он отправился к директору. Зачинщиков выявили и примерно наказали, но по некоторым репликам в его адрес, которые позволила себе школьная директриса, Матвей Платонович не то чтобы понял, скорее, почувствовал: в каком-то высшем, философском, смысле она – на их стороне.
Через неделю он подал заявление, которое директриса охотно подписала, и устроился в научно-исследовательский институт. Его обязанности сводились к подбору и брошюровке документов. Бессмысленная работа не раздражала. Смысл жизни Тетерятников находил в собирании книг. В основу библиотеки легли довоенные приобретения. В те упоительные времена редчайшие экземпляры доставались за бесценок.
До войны Матвей Платонович жил в большой коммуналке на углу 9-й линии и Среднего проспекта. Весной сорок первого он заболел туберкулезом, правда, в закрытой форме. Но все равно его не призвали. Чтобы выздороветь, туберкулезникам требуется усиленное питание. Он был уверен, что умрет очень скоро, а потому не спускался в бомбоубежище: еще неизвестно, какая смерть лучше. Мучили голод и тревога за книги: умру – пожгут. Эти разговоры соседи заводили давно: дескать, вон какое богатство, а тут дети мерзнут… Дети вскорости умерли, но тревога осталась.
Через год, когда норму выдачи немного прибавили, Тетерятников начал подсушивать сухари. Постепенно набрался маленький мешочек. Квартиру он присмотрел заранее: однокомнатную, лепившуюся под стрехой бывшего доходного дома на Среднем. Зимой сорок пятого сговорился с одним контуженным: вдвоем они и перевезли на саночках, пачку за пачкой. Контуженный получил сухари и в придачу тетерятниковскую комнату – двадцать восемь метров. Обе стороны остались довольны сделкой.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
