Страница:
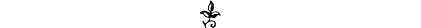
Мягкая зелень все еще не ласкает взор. Пустынно, плоско, угрюмо и неприветливо простирается перед ними необитаемый берег: песок и голые скалы, голые скалы и песок… На третий день плавания, 21 октября 1520 года, впереди наконец обрисовывается какой-то мыс; у необычайно извилистого берега высятся белые скалы, а за этим выступом, в честь великомучениц, память которых праздновалась в этот день, названным Магелланом «Cabo de las Virgines» – «Мысом Дев»,{95} взору открывается глубокая бухта с темными, мрачными водами. Суда подходят ближе. Своеобразный, суровый и величественный ландшафт! Обрывистые холмы с причудливыми, ломаными очертаниями, а вдали – уже более года невиданное зрелище! – горы с покрытыми снегом вершинами. Но как безжизненно все вокруг! Ни одного человеческого существа, кое-где редкие деревья да кусты, и только неумолчный вой и свист ветра нарушает мертвую тишину этой призрачно пустынной бухты. Угрюмо вглядываются матросы в темные глубины. Нелепостью кажется им предположение, что этот стиснутый горами, мрачный, как воды подземного царства, путь может привести к зеленому побережью или даже к Маг del Sur – к светлому, солнечному Южному морю. Кормчие в один голос утверждают, что этот глубокий выем – не что иное, как фьорд, такой же, какими изобилуют северные страны, и что исследовать эту закрытую бухту лотом или бороздить ее во всех направлениях – напрасный труд, бесцельная трата времени. И без того уж слишком много недель потрачено на исследование всех этих патагонских бухт, а ведь ни в одной из них не нашелся выход в желанный пролив. Довольно уже проволочек! Скорее вперед, а если estrecho[58] вскоре не покажется, надо воспользоваться благоприятным временем года и вернуться на родину или же обычным путем огибая мыс Доброй Надежды, проникнуть в Индийское море.
Но Магеллан, подвластный своей навязчивой идее о существовании неведомого пути, приказывает избороздить вдоль и поперек и эту страшную бухту. Без усердия выполняется его приказ: куда охотнее они направились бы дальше, ведь все они «думали и говорили, что это замкнутая со всех сторон бухта» («serrato tuto in torno»). Два судна остаются на месте – флагманское и «Виктория», чтобы обследовать прилегающую к открытому морю часть залива. Двум другим – «Сан-Антонио» и «Консепсьон» – дан приказ: как можно дальше проникнуть в глубь бухты, но возвратиться не позднее, чем через пять дней. Время теперь стало дорого, да и провиант подходит к концу. Магеллан уже не в состоянии дать две недели сроку, как раньше, возле устья Ла-Платы. Пять дней на рекогносцировку – последняя ставка, все, чем он еще может рискнуть для этой последней попытки.
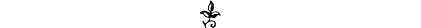
Лихорадочное, страшное, нетерпеливое ожидание заполняет эти дни, роковые дни Магеллана. В первый день – никаких вестей. Второй – они не вернулись. Третий, четвертый – их все нет. А Магеллан знает: если оба они потерпели крушение и погибли вместе с командой, тогда все потеряно. С двумя кораблями он не может продолжать путь. Его дело, его мечта разбились об эти скалы.
Наконец возглас с марса. Но – ужас! – не корабли, возвращающиеся на стоянку, увидел дозорный, а столб дыма вдали. Страшная минута! Этот сигнал может означать только одно: потерпевшие крушение моряки взывают о помощи. Значит, погибли «Сан-Антонио» и «Консепсьон» – его лучшие суда, все его дело погибло в этой еще безыменной бухте. Магеллан уже велит спускать шлюпку, чтобы двинуться в глубь залива на помощь тем людям, которых еще можно спасти. Но тут происходит перелом. Это мгновение такого же торжества, как в «Тристане», когда замирающий, скорбный, жалобный мотив смерти в пастушеском рожке внезапно взмывает кверху и перерождается в окрыленную, ликующую, кружащуюся в избытке счастья плясовую мелодию. Парус! Виден корабль! Корабль! Хвала всевышнему, хоть одно судно спасено! Нет, оба, оба! И «Сан-Антонио» и «Консепсьон», вот они возвращаются, целые и невредимые. Но что это? На бакбортах подплывающих судов вспыхивают огоньки – раз, другой, третий, и горное эхо зычно вторит грому орудий. Что случилось? Почему эти люди, обычно берегущие каждую щепотку пороха, расточают его на многократные салюты? Почему – Магеллан едва верит своим глазам – подняты все вымпелы, все флаги? Почему капитаны и матросы кричат, машут руками? Что их так волнует, о чем они кричат? На расстоянии он еще не может разобрать отдельных слов, никому еще не ясен их смысл. Но все – и прежде всех Магеллан – чувствуют: эти слова возвещают победу.
И правда, корабли несут благословенную весть. С радостно бьющимся сердцем выслушивает Магеллан донесение Серрано. Сначала обоим кораблям пришлось круто. Они зашли уже далеко в глубь бухты, когда разразился этот страшный ураган. Все паруса были тотчас убраны, но бурным течением суда несло все дальше и дальше, гнало в самую глубь залива; уже они готовились к бесславной гибели у скалистых берегов. Но вдруг, в последнюю минуту, заметили, что высящаяся перед ними скалистая гряда не замкнута наглухо, что за одним из утесов, сильно выступающим вперед, открывается узкий проток, подобие канала.
Этим протоком, где буря свирепствовала не так сильно, они прошли в другой залив, как и первый, сначала суживающийся, а затем вновь значительно расширяющийся. Трое суток плыли они, и все не видно было конца этому странному водному пути. Они не достигли выхода из него, но этот необычайный поток ни в коем случае не может быть рекой; вода в нем всюду солоноватая, у берега равномерно чередуются прилив и отлив. Этот таинственный поток не сужается, подобно Ла-Плате, по мере удаления от устья, но, напротив, расширяется. Чем дальше, тем шире стелется полноводный простор, глубина же его остается постоянной. Поэтому более чем вероятно, что этот канал ведет в вожделенное Mar del Sur, берега которого несколько лет назад открылись с Панамских высот Нуньесу де Бальбоа, первому европейцу, достигшему этих мест.
Более счастливой вести так много выстрадавший Магеллан не получал за весь последний год. Можно только предполагать, как возликовало его мрачное, ожесточенное сердце при этом обнадеживающем известии! Ведь он уже начал колебаться, уже считался с возможностью возвращения через мыс Доброй Надежды, и никто не знает, какие тайные мольбы и обеты возносил он, преклонив колена, к богу и его святым угодникам. А теперь, именно в ту минуту, когда его вера начала угасать, заветный замысел становится реальностью, мечта претворяется в жизнь! Теперь ни минуты промедления! Поднять якоря! Распустить паруса! Последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков! А затем – отважно вперед, в лабиринт! Если из этих ахеронских вод он найдет выход в другое море – он будет первым, кто нашел путь вокруг земли! И со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь праздника, совпавшего с днем его открытия, названный им проливом Todos los Santos.[59] Но грядущие поколения благодарно переименуют его в Магелланов пролив.
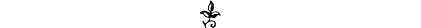
Но не только мрачно это плавание – оно и опасно. Открывшийся им путь нимало не похож на тот, воображаемый, прямой, как стрела, пролив, который наивные немецкие космографы – Шенер, а до него Бехайм, – сидя в своих уютных комнатах, наносили на карты. Вообще говоря, называть Магелланов пролив проливом можно только в порядке упрощающего дело эвфемизма. В действительности это запутаннейшее, беспорядочное сплетение излучин и поворотов, бухт, глубоких выемов, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрещивающихся протоков, и только при условии чрезвычайного умения и величайшей удачи суда могут благополучно пройти через этот лабиринт. Причудливо заостряются и снова ширятся эти бухты, неопределима их глубина, непонятно, как среди них лавировать – они усеяны островками, испещрены отмелями; поток зачастую разветвляется на три-четыре рукава, то вправо, то влево, и нельзя угадать, какой из них – западный, северный или южный – приведет к желанной цели. Все время приходится избегать мелей, огибать скалы. Встречный ветер внезапными порывами проносится по беспокойному проливу, взвихривая волны, раздирая паруса. Лишь по многочисленным описаниям позднейших путешественников можно понять, почему Магелланов пролив в продолжение столетий внушал морякам ужас. В нем «всегда со всех четырех концов света дует северный ветер», никогда не бывает тихой, солнечной погоды, благоприятствующей мореплаванию, десятками гибнут корабли последующих экспедиций в угрюмом проливе, берега которого и в наше время мало заселены. И то, что Магеллан, первым одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей, убедительнее всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения. Если к тому же учесть, что его неповоротливым кораблям, приводимым в движение только громоздкими парусами да деревянным рулем, приходилось, исследуя сотни артерий и боковых притоков, непрерывно крейсировать туда и обратно и затем снова встречаться в условленном месте, и все это в ненастное время года, с утомленной командой, то счастливое завершение его плавания по этому проливу тем более воспринимается как чудо, которое недаром прославляют все поколения мореходов. Но как во всех областях, так и в искусстве кораблевождения подлинным гением Магеллана было его терпение, его неуклонная осторожность и предусмотрительность. Целый месяц проводит он в кропотливых, напряженных поисках. Он не спешит, не стремится вперед, объятый нетерпением, хотя душа его трепетно жаждет наконец-то сыскать проход, увидеть Южное море. Но вновь и вновь, при каждом разветвлении, он делит свою флотилию на две части: каждый раз, когда два корабля исследуют северный рукав, два других стремятся найти южный путь. Словно зная, что ему, рожденному под несчастливой звездой, нельзя полагаться на удачу, этот человек ни разу не предоставляет на волю случая выбор того или другого из многократно пересекающихся протоков, не гадает, чет или нечет. Он испытывает, обследует все пути, чтобы напасть на тот единственный, верный. Итак, наряду с его гениальной фантазией здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств – героическое упорство.
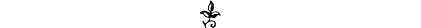
«Выслушать их имение! Что же такое случилось?» – изумленно спрашивают себя моряки. С чего вдруг этот озадачивающий демократический жест? Почему непреклонный диктатор, до того времени ни за кем из своих капитанов не признававший права предлагать вопросы или критиковать его мероприятия, именно теперь, по поводу незначительного маневра, превращает своих офицеров из подчиненных в равных себе? На самом деле этот резкий поворот как нельзя более логичен. После окончательного триумфа диктатору всегда легче дозволить гуманности вступить в свои права и легче допустить свободу слова, тогда, когда его могущество упрочено. Сейчас, поскольку paso, estrecho уже найден, Магеллану не приходится больше опасаться вопросов. Козырь в его руках – он может пойти навстречу желанию своих спутников и раскрыть перед ними карты. Действовать справедливо в удаче всегда легче, чем в несчастье. Вот почему этот суровый, угрюмый, замкнутый человек наконец-то, наконец нарушает свое упорное молчание, разжимает крепко стиснутые челюсти. Теперь, когда его тайна перестала быть тайной, когда покров с нее сорван, Магеллан может стать общительным.
Капитаны являются и рапортуют о состоянии вверенных им судов. Но сведения малоутешительны. Запасы угрожающим образом уменьшились, провианта каждому из судов хватит в лучшем случае на три месяца. Магеллан берет слово. «Теперь уже не подлежит сомнению, – твердо заявляет он, – что первая из целей достигнута, paso – проход в Южное море – уже можно считать открытым». Он просит капитанов с полной откровенностью оказать, следует ли флотилии удовольствоваться этим успехом или же стараться довершить то, что он, Магеллан, обещал императору: достичь «Островов пряностей» и отвоевать их для Испании. Разумеется, он понимает, что провианта осталось немного, а в дальнейшем им еще предстоят великие трудности. Но не менее велики слава и богатства, ожидающие их по счастливом завершении дела. Его мужество непоколебимо. Однако прежде чем принять окончательное решение – возвращаться ли на родину, или доблестно завершить задачу, он хотел бы узнать, какого мнения держатся его офицеры.
Ответы капитанов и кормчих не дошли до нас, но можно с уверенностью предположить, что они не отличались многословием. Слишком памятны им и бухта Сан-Хулиан и четвертованные трупы их товарищей-испанцев: они по-прежнему остерегаются прекословить суровому португальцу. Только один из них резко и прямо высказывает свои сомнения – кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомес, португалец и, возможно, даже родственник Магеллана. Гомес прямо заявляет, что теперь, когда paso, очевидно, уже найден, разумнее будет вернуться в Испанию, а затем уже на снаряженных заново кораблях вторично следовать по открытому ныне проливу к Молуккским островам, ибо суда флотилии, по его мнению, слишком обветшали, запасов провианта недостаточно, а никому не ведомо, как далеко простирается за открытым ныне проливом новое, неисследованное Южное море. Если они в этих неведомых водах пойдут по неверному пути и будут скитаться, не находя гавани, флотилию ожидает мучительная гибель.
Разум говорит устами Эстебана Гомеса, и Пигафетта, всегда заранее подозревавший в низменных побуждениях каждого, кто был несогласен с Магелланом, вероятно, несправедлив к бывалому моряку, приписывая его сомнения всякого рода неблаговидным мотивам. Действительно, предложение Гомеса – с честью вернуться на родину, а затем на судах новой флотилии устремиться к намеченной цели – правильно как с логической, так и с объективной точки зрения: оно спасло бы жизнь и самого Магеллана и жизнь почти двух сотен моряков. Но не бренная жизнь важна Магеллану, а бессмертный подвиг. Тот, кто мыслит героически, неизбежно должен действовать наперекор рассудку. Магеллан, не колеблясь, берет слово для возражения Гомесу. Разумеется, им предстоят великие трудности, по всей вероятности, им придется претерпевать голод и множество лишений, но – примечательные, пророческие слова! – даже если бы им пришлось глодать кожу, которой обшиты снасти, он считает себя обязанным продолжать плавание к стране, которую обещал открыть.
«Идти вперед и открыть то, что обещал!» (De pasar adelante у descubrir lo que habia prometido.) Этим призывом к смелому устремлению в неизвестность, по-видимому, закончилось психологически столь своеобразное совещание, и от корабля к кораблю немедленно передается Магелланов приказ продолжать путь. Втайне, однако, Магеллан предписывает своим капитанам тщательнейшим образом скрывать от команды, что запасы провианта на исходе. Каждый, кто позволит себе хотя бы туманный намек на это обстоятельство, подлежит смертной казни.
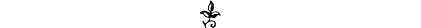
И впрямь хороший отдых выпадает на долю Магеллана и его людей в этой уже менее суровой местности. Странное явление – за последние дни, по мере того как они продвигались на запад, ландшафт становился более приветливым: вместо отвесных голых скал пролив окаймляют луга и леса. Холмы здесь не так обрывисты, покрытые снегом вершины отодвинулись вдаль. Мягче стал воздух; матросы, утолявшие жажду вонючей, затхлой водой из бочонков, наслаждаются студеной влагой родников. Они то нежатся на траве, лениво следя глазами за диковинными летучими рыбами, то с увлечением занимаются ловлей сардин, которых здесь неимоверное множество. Вдобавок тут столько вкусных плодов, что они впервые за несколько месяцев наедаются досыта. Так прекрасна, так ласкова окружающая природа, что Пигафетта восторженно восклицает: «Credo che non sia al mondo un piú bello e miglior stretto, comò é questo!».[60]
Но что значит отрада, доставляемая благоприятной местностью, отдыхом, беспечной негой, в сравнении с тем великим, огненным, окрыляющим счастьем, которое предстоит познать Магеллану! Оно уже ощутимо, уже чувствуется его приближение; и вот на третий день, послушная приказу, возвращается отправленная им шлюпка, и снова моряки уже издали машут руками, как тогда, в день Всех Святых, когда был открыт вход в пролив. Но теперь – а это в тысячу раз важнее! – они нашли наконец выход из него. Собственными глазами видели они море, в которое впадает этот пролив – Mar del Sur, – великое, неведомое море! «Thalassa! Thalassa!»[61] – древний клич восторга, которым греки, возвращаясь из бесконечных странствий, приветствовали вечные воды, он раздается здесь вновь, на ином языке, но с тем же восторгом; победоносно возносится он ввысь, никогда еще не оглашавшуюся звуками ликующего человеческого голоса.
Этот краткий миг – великая минута в жизни Магеллана, минута подлинного, высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Все сбылось. Он сдержал слово, данное императору. Он, он первый и единственный осуществил то, о чем до него мечтали тысячи людей: он нашел путь в другое, неведомое море. Это мгновение оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие.
И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом в себе человеке. Внезапно сурового воина, никогда и ни перед кем не выказывавшего своих чувств, одолевает тепло, хлынувшее из недр души. Его глаза туманятся, слезы, горячие, жгучие слезы катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек – Магеллан – плачет от радости («El capitáno generale lacrimó per allegrèzza»).
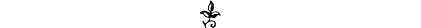
Уж не случилось ли несчастье? Не сбились ли они с пути? Магеллан слишком встревожен, чтобы праздно дожидаться в условленном месте. Он велит поставить паруса и идет к проливу, навстречу замешкавшимся судам. Но пустынен, по-прежнему пустынен горизонт, пустынны мрачные, безжизненные воды.
Наконец, на второй день поисков вдали показывается парус. Это «Консепсьон» под началом верного Серрано. Но где же второй корабль, самый крупный из всех судов флотилии, где «Сан-Антонио»? Серрано ничего не может сообщить адмиралу. В первый же день «Сан-Антонио» ушел вперед и с тех пор бесследно исчез. Вначале Магеллан не предполагает беды. Быть может, «Сан-Антонио» заблудился или же его капитан неправильно понял, где назначена встреча. Он рассылает суда флотилии в разные стороны, чтобы обшарить все закоулки главного протока, «Адмиральского Зунда». Он велит сигнализировать огнями, на высоких столбах водружает флаги, а у подножия их оставляет письма с инструкциями – на всякий случай, если пропавшее судно заблудилось. Но нигде никаких следов «Сан-Антонио». Уже очевидно, что стряслась какая-то беда. Корабль либо потерпел крушение и погиб вместе с командой и грузом, что, однако, маловероятно, так как в эти дни погода стояла на редкость безветренная, либо – предположение более верное – кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомес, требовавший на военном совете немедленного возвращения на родину, стал мятежником и осуществил свое требование: сообща с офицерами испанцами сместил преданного капитана и дезертировал, забрав с собой весь провиант.
