Страница:
Но вместе с командованием бывшему мятежнику незаметно передалась и железная воля Магеллана. Тот самый дель Кано, который ранее, будучи подчиненным, хотел принудить адмирала к отступлению, теперь, как начальник, требует от людей последнего, величайшего усилия – и ему удается подчинить их своей воле. «Ma inanti determinamo tutti morir che andar in mano dei portoghesi» (Мы решили лучше умереть, нежели предать себя в руки португальцев), – сможет он впоследствии гордо рапортовать императору. Попытка высадиться на восточном берегу Африки оказывается неудачной: в этом голом, пустынном краю они не находят ни воды, ни плодов; нимало не облегчив своих страданий, они продолжают страшное плавание. У мыса Доброй Надежды – они невольно называют его прежним именем: Cabo Tormentoso, Мыс Бурь – на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю. С величайшими усилиями измученные, едва держащиеся на ногах матросы кое-как исправляют повреждения. Медленно, с трудом, тяжко кряхтя, тащится судно вдоль побережья Африки дальше на север. Но ни в бурю, ни в безветрие, ни днем, ни ночью не оставляет их в покое жестокий мучитель; издеваясь, оскаливается серый призрак, голод, – издеваясь, ибо на этот раз он измыслил для них новую, дьявольскую пытку. Корабельные трюмы не пусты, как раньше, когда флотилия плыла по Тихому океану, – нет, на этот раз чрево корабля набито до отказа. Семьсот центнеров пряностей везет «Виктория» – семьсот центнеров, количество, достаточное, чтобы приправить роскошнейшую трапезу сотен тысяч, миллионов людей; пряностей у голодающего экипажа сколько душе угодно. Но разве можно запекшимися губами вкушать зернышки перца, разве можно вместо хлеба питаться пряным мускатным цветом или корицей? И если ужаснейшая ирония – умирать от жажды на море, посреди необъятных вод, то на борту «Виктории» люди претерпевают пытку из пыток, умирая голодной смертью посреди груд пряностей. Каждый день за борт бросают иссохшие трупы. Тридцать один испанец из сорока семи и трое из девятнадцати островитян еще живы, когда после пяти месяцев безостановочного плавания, 9 июля, обессиленный корабль наконец подходит к островам Зеленого Мыса.
Зеленый Мыс – португальская колония, и Сант-Яго{107} – португальская гавань. Стать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в двух шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на два-три дня; голод не оставляет им выбора, нужно отважиться на дерзкий обман. Дель Кано решается на смелую попытку – скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, он берет с них торжественную клятву ни словом не обмолвиться португальцам о том, что они – последняя горсть людей, уцелевшая от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плавание. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а следовательно, из сферы владычества Испании. Расщепленная мачта и плачевное состояние истрепанного судна, к счастью, делают эту небылицу правдоподобной. Без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы, в силу свойственного морякам товарищеского чувства, оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы; дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже кажется, что хитрость вполне удалась; отдых, а главное, давно не виданная пища – хлеб и мясо – подкрепили моряков, запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи. Еще один, последний раз посылает дель Кано шлюпку – взять рису и плодов, а потом в путь, к победе! К победе! Но странное дело – на этот раз шлюпка не возвращается. Дель Кано мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов сболтнул на берегу лишнее или же попытался обменять щепотку-другую пряностей на водку, которой все они так долго были лишены; по этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Дель Кано уже видит, как на берегу готовят корабль для захвата «Виктории». Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели! Только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории! И хотя на «Виктории» всего восемнадцать человек – слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании, – дель Кано велит поспешно сняться с якоря и распустить паруса. Это – бегство. Но бегство к великой, к решающей победе.
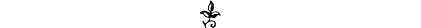 Как ни кратковременно и опасно было пребывание у Зеленого Мыса, однако именно там усердному летописцу Пигафетте удалось наконец пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь, ибо на Зеленом Мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия.
Как ни кратковременно и опасно было пребывание у Зеленого Мыса, однако именно там усердному летописцу Пигафетте удалось наконец пережить в последнюю минуту одно из тех чудес, ради которых он отправился в путь, ибо на Зеленом Мысе он первый наблюдает явление, новизна и знаменательность которого будут волновать и занимать внимание всего столетия.
Моряки, отправленные на берег для покупки съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью: на суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда.
Пигафетта чрезвычайно удивлен, ибо в течение всего длившегося без малого три года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал он понедельник, вторник, среду, и так всю неделю, все годы подряд, – неужели же он пропустил один день?
Он спрашивает кормчего Альво, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альво тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день, и рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря плаванию Магеллана: подтвердилось точным наблюдением то, что Гераклит Понтийский{108} за четыреста лет до начала христианской эры высказал как гипотезу; доказано, что земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси и что тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени.
Эта вновь познанная истина – что в различных частях света время и час не совпадают – волнует гуманистов шестнадцатого века примерно так же, как наших современников – теория относительности. Петр Ангиерский немедленно заставляет некоего «мудрого человека» объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привезших на родину одни только вороха пряностей, Пигафетта, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете, – новую истину!
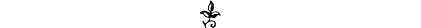 Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая «Виктория», напрягая последние силы, тяжело кряхтя, медленно, устало тащится по морю. Из всех, кто отплыл на ней с Молуккских островов, на борту осталось только восемнадцать человек, вместо ста двадцати рук работают всего тридцать шесть, а крепкие кулаки были бы нынче к месту, ибо почти у самой цели судну вновь угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все расширяющиеся щели. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы часть из семисот центнеров пряностей, тем самым уменьшив осадку, но дель Кано не хочет расточать достояние императора. День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов – это каторжный труд, а ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Люди изнемогают; подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, бредут к своим постам уже много ночей не знавшие сна матросы, «tanto debili quanto mai uomini furono» – «ослабевшие до такой степени, как никогда еще не ослабевали люди», – докладывает дель Кано императору. И несмотря на это, каждому из них приходится работать за двоих и за троих. Они работают из последних сил, уже изменяющих им, ибо все ближе, все ближе желанная цель. 13 июля они отчалили, эти восемнадцать героев, от Зеленого Мыса; наконец 4 сентября 1522 года (вскоре исполнится три года, как они расстались с родиной) с марса раздается хриплый возглас радости: дозорный увидел мыс Сан-Висенти.{109} У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед! Вперед! Еще только два дня, две ночи осталось терпеть! Еще одну ночь и один день. Еще только одну ночь, одну только ночь! И – наконец! – все они выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу – вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, – Гвадалкивир, впадающий в море здесь, у Сан-Лукар де Баррамеда! Отсюда три года назад они отплыли под предводительством Магеллана, пять судов и двести шестьдесят пять человек. А сейчас – одно-единственное невзрачное суденышко приближается к берегу, бросает якорь у той же пристани, и восемнадцать человек, пошатываясь, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, добрую, надежную землю родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в день 6 сентября 1522 года.
Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая «Виктория», напрягая последние силы, тяжело кряхтя, медленно, устало тащится по морю. Из всех, кто отплыл на ней с Молуккских островов, на борту осталось только восемнадцать человек, вместо ста двадцати рук работают всего тридцать шесть, а крепкие кулаки были бы нынче к месту, ибо почти у самой цели судну вновь угрожает авария. Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во все расширяющиеся щели. Сначала пытаются откачивать ее насосом, но этого недостаточно. Самым целесообразным было бы теперь выбросить за борт, как лишний балласт, хотя бы часть из семисот центнеров пряностей, тем самым уменьшив осадку, но дель Кано не хочет расточать достояние императора. День и ночь чередуются изнуренные моряки у двух насосов – это каторжный труд, а ведь надо еще и зарифлять паруса, и стоять у руля, и дежурить на марсе, и выполнять множество других повседневных работ. Люди изнемогают; подобно лунатикам, шатаясь из стороны в сторону, бредут к своим постам уже много ночей не знавшие сна матросы, «tanto debili quanto mai uomini furono» – «ослабевшие до такой степени, как никогда еще не ослабевали люди», – докладывает дель Кано императору. И несмотря на это, каждому из них приходится работать за двоих и за троих. Они работают из последних сил, уже изменяющих им, ибо все ближе, все ближе желанная цель. 13 июля они отчалили, эти восемнадцать героев, от Зеленого Мыса; наконец 4 сентября 1522 года (вскоре исполнится три года, как они расстались с родиной) с марса раздается хриплый возглас радости: дозорный увидел мыс Сан-Висенти.{109} У этого мыса для нас кончается материк Европы, но для них, участников кругосветного плавания, здесь начинается Европа, начинается родная земля. Медленно вырастает из волн отвесная скала, и вместе с ней растет их мужество. Вперед! Вперед! Еще только два дня, две ночи осталось терпеть! Еще одну ночь и один день. Еще только одну ночь, одну только ночь! И – наконец! – все они выбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу – вдали серебристая полоса, зажатая твердой землей, – Гвадалкивир, впадающий в море здесь, у Сан-Лукар де Баррамеда! Отсюда три года назад они отплыли под предводительством Магеллана, пять судов и двести шестьдесят пять человек. А сейчас – одно-единственное невзрачное суденышко приближается к берегу, бросает якорь у той же пристани, и восемнадцать человек, пошатываясь, сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют твердую, добрую, надежную землю родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в день 6 сентября 1522 года.
Первой обязанностью дель Кано, едва он вступил на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, сейчас только испеченный хлеб, которым их здесь щедро потчуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплому караваю, годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный, вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства теней, и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валятся на циновки и спят, спят всю ночь, спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу родины.
На следующее утро другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалкивиру, до Севильи. Совершившая кругосветное плавание «Виктория» уже не в силах идти против течения. Удивленно окликают их с встречных барж и лодок. Никто не помнит этого корабля, три года назад отплывшего за океан; давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана погибшей – и что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству! Наконец вдали блеснула хиральда – белая колокольня – Севилья! Севилья! Уже видна гавань Жерновов, откуда они отплыли. «К бомбардам!» – приказывает дель Кано; это последняя команда в этом плавании. И уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так моряки три года назад рыком чугунных жерл прощались с родиной. Так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом, так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, завидев неизвестные Филиппинские острова, так громовым ликованием возвестили, достигнув цели, поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в гибельной дали. Но никогда еще их медные голоса не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают: «Мы вернулись! Мы свершили то, чего никто не свершил до нас! Мы – первые люди, обогнувшие земной шар!»

МЕРТВЫЕ НЕПРАВЫ
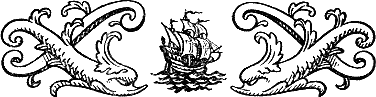
Толпами устремляется в Севилье народ на берег; все хотят, как пишет Овьедо,{110} «поглазеть на это единственное, достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как господь сотворил мир и первого человека». Потрясенные, смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт «Виктории», как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабы, измождены, истомлены, больны и обессилены эти неверной поступью идущие безыменные герои, каждый из которых за три бесконечных года плавания состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду, их приглашают в дома, обступают их, требуя, чтобы они рассказывали, без передышки, без устали рассказывали о своих приключениях и мытарствах. Но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после! Прежде всего – выполнить неотложный долг, сдержать обет, данный в час смертельной опасности: совершить искупительное паломничество в церковь Санта-Мария де ла Виктория и Санта-Мария Антигуа! В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков босиком, в белых саванах, с зажженными свечами в руках, шествуют в церковь, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить господа за то, что он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами преклонивших колена людей дароносицу, похожую на маленькое сияющее солнце. Возблагодарив всевышнего и его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих собратьев и товарищей, три года назад вместе с ними преклонявших здесь колена. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развертывал шелковое знамя, пожалованное ему королем и благословленное священником? Они утонули, погибли от рук туземцев, умерли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И восемнадцать моряков едва слышно, трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и двухсот павших из экипажа армады.
На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Пришел конец всякой неуверенности. Сомнение, этот злейший враг человеческого знания, побеждено. С тех пор как судно, отплыв из Севильской гавани, все время следовало в одном направлении и снова вернулось в Севилью, неопровержимо доказано, что Земля – вращающийся шар, а все моря – единое, нераздельное водное пространство. Бесповоротно отметена космография греков и римлян, раз навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басней о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара и тем самым наконец определены размеры той части вселенной, которая именуется Землей; другие смелые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне имеет свои границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И поколение, счастливое и опьяненное этим переворотом представления о мире, свершившимся в пределах одной человеческой жизни, бессознательно чувствует: началась новая эра – новое время.
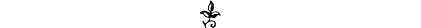 Всеобщим было восхищение великой победой человеческого духа в этом плавании. Даже снарядившие экспедицию купцы-предприниматели, Casa de Contratacion и Христофор де Аро, имеют все основания быть довольными. Они уже собирались списать в убыток восемь миллионов мараведисов, потраченных на снаряжение пяти судов, когда внезапно возвратившееся судно не только сразу окупило все расходы, но и принесло нежданный барыш. Продажа пятисот двадцати квинталов (около двадцати шести тонн) пряностей, доставленных «Викторией» с Молуккских островов, дает за покрытием всех расходов еще около пятисот золотых дукатов чистой прибыли; груз одного-единственного корабля полностью возместил утрату четырех остальных – правда, при этом подсчете ценность двухсот с лишним человеческих жизней признана равной нулю.
Всеобщим было восхищение великой победой человеческого духа в этом плавании. Даже снарядившие экспедицию купцы-предприниматели, Casa de Contratacion и Христофор де Аро, имеют все основания быть довольными. Они уже собирались списать в убыток восемь миллионов мараведисов, потраченных на снаряжение пяти судов, когда внезапно возвратившееся судно не только сразу окупило все расходы, но и принесло нежданный барыш. Продажа пятисот двадцати квинталов (около двадцати шести тонн) пряностей, доставленных «Викторией» с Молуккских островов, дает за покрытием всех расходов еще около пятисот золотых дукатов чистой прибыли; груз одного-единственного корабля полностью возместил утрату четырех остальных – правда, при этом подсчете ценность двухсот с лишним человеческих жизней признана равной нулю.
Только горсть людей во всей вселенной цепенеет от ужаса при вести, что один из кораблей Магеллановой армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на «Сан-Антонио» и год назад высадившиеся в Севилье; погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой, что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и, нимало не колеблясь, выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти («Al juicio у parecer que han venido no volverà a Castilla el dicho Magellanes»).[70] Настолько были они убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, что беззастенчиво похвалялись перед королевской следственной комиссией своим мятежом как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив был им уже найден. Они лишь вскользь упомянули о какой-то «бухте», куда вошли корабли (entraron en una bahia), и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны (inutil e sin provecho). Тем более тяжки обвинения, возводимые ими на отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы предать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы Мескиту, двоюродного брата Магеллана, украдкой взятого им на борт.
Правда, королевские судьи не придали безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный Мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана (еще не знавшей, что она вдова) было запрещено отлучаться из города. Следует выждать, решил королевский суд, покуда вернутся свидетели – остальные корабли, а с ними и адмирал. Но когда миновал целый год, затем второй и от Магеллана все не было вестей – мятежники приободрились. И вот теперь гремит орудийный салют, возвещающий о возвращении одного из судов Магеллана, и гром его убийственно отдается в их совести. Теперь они погибли; Магеллану удалось совершить свое, великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто, вопреки присяге и морским законам, трусливо его покинул и предательски заковал в цепи своего капитана.
Зато как легко стало у них на сердце, когда они услышали, что Магеллан мертв. Главный обвинитель безмолвен. И еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что «Викторию» привел на родину дель Кано. Дель Кано – ведь он был их сообщником; вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулиан. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан. Не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак, благословенна смерть Магеллана, благословенны показания дель Кано! И расчеты их оказались правильными. Правда, Мескиту отпускают на свободу и даже возмещают ему понесенные убытки. Но сами они благодаря содействию дель Кано остаются безнаказанными, и мятеж их среди всеобщего ликования предается забвению: в тяжбе с мертвыми живые всегда правы.
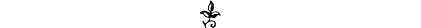 Тем временем посланный дель Кано гонец принес в Вальядолидский замок весть о благополучном возвращении «Виктории». Император Карл только что вернулся из Германии – одно за другим переживает он два великих мгновения мировой истории. На сейме в Вормсе{111} он воочию видел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви; здесь он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о вселенной и ценою жизни доказал пространственное единство морей. Желая поскорее узнать подробности славного деяния, – ибо он лично содействовал его осуществлению, и это, быть может, величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю, – император в тот же день, 13 сентября, посылает дель Кано приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее испытанными и разумными людьми из числа своих спутников (las mas cuerdas у de mejor razon) и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги.
Тем временем посланный дель Кано гонец принес в Вальядолидский замок весть о благополучном возвращении «Виктории». Император Карл только что вернулся из Германии – одно за другим переживает он два великих мгновения мировой истории. На сейме в Вормсе{111} он воочию видел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви; здесь он узнает, что одновременно другой человек перевернул представление о вселенной и ценою жизни доказал пространственное единство морей. Желая поскорее узнать подробности славного деяния, – ибо он лично содействовал его осуществлению, и это, быть может, величайшее и долговечнейшее торжество, выпавшее ему на долю, – император в тот же день, 13 сентября, посылает дель Кано приказ как можно скорее явиться ко двору с двумя наиболее испытанными и разумными людьми из числа своих спутников (las mas cuerdas у de mejor razon) и представить ему все относящиеся к плаванию бумаги.
Те двое, кого Себастьян дель Кано взял с собой в Вальядолид – Пигафетта и кормчий Альваро, – по-видимому, действительно были наиболее испытанными из всех; менее безупречным представляется поведение дель Кано при исполнении второго желания императора – относительно передачи всех касающихся плавания документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукою Магеллана, не вручил он монарху (единственный документ, написанный самим Магелланом, уцелел лишь потому, что вместе с «Тринидад» попал в руки португальцев). Вряд ли можно усомниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долга, сознававший всю важность своего дела, вел регулярный дневник; только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблаговидных действиях; вот почему каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все до единой строчки, что было написано его рукою. Не менее странно и исчезновение объемистых записок Пигафетты, им самим в подлиннике врученных императору при этой аудиенции («Fra le altre cose li detti uno libro, scritto de mia mano, de tutte le cose passate de giorno in giorno nel viaggio nostro»[71]). Эти подлинные записки никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас более поздним описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них; то, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением мантуанского посла, который сообщает 21 октября о записях Пигафетты, которые тот вел изо дня в день («Libro molto bello che de giorno in giorno li e scritto el viaggio e paese che hano ricercato»[72]), чтобы три недели спустя обещать всего лишь краткое из них извлечение («Un breve extracto о sommario del libro che hano portato quelli de le Indie»[73]), то есть именно то, что в настоящее время известно под названием путевых записок Пигафетты, лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангиерского и Максимилиана Трансильванского. Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пигафетты; очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству баскского дворянина дель Кано, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью.
Это сознательное умаление Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пигафетту. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями. Ведь мир всегда награждает лишь завершителя – того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, – и забывает всех тех, кто своим духом и кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым. Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Всю славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг, недавний предатель Магеллана – Себастьян дель Кано. Ранее совершенное им преступление (из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана) – продажа корабля иностранцу – торжественно объявляется искупленным; ему пожалована пожизненная годовая пенсия в пятьсот золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий дель Кано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и гвоздикой, заполняют внутреннее поле; их венчает шлем, над которым высится земной шар с гордой надписью: «Primus circumdedisti me» – «Ты первый совершил плавание вокруг меня». Но еще более чудовищной становится «несправедливость, когда награды удостаивается и Эстебан Гомес – тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он, Эстебан Гомес, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие, получает дворянство за ту заслугу, что он «в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив». Вся слава, весь успех Магеллана волею злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни.
Зеленый Мыс – португальская колония, и Сант-Яго{107} – португальская гавань. Стать здесь на якорь, в сущности, значит отдаться беззащитными в руки соперников, врагов, капитулировать в двух шагах от цели. Но пищи хватит самое большее еще на два-три дня; голод не оставляет им выбора, нужно отважиться на дерзкий обман. Дель Кано решается на смелую попытку – скрыть от португальцев, с кем они имеют дело. Но прежде чем отправить на берег нескольких матросов для закупки съестного, он берет с них торжественную клятву ни словом не обмолвиться португальцам о том, что они – последняя горсть людей, уцелевшая от флотилии Магеллана, и что ими совершено кругосветное плавание. Матросам велено говорить, что бури пригнали их судно из Америки, а следовательно, из сферы владычества Испании. Расщепленная мачта и плачевное состояние истрепанного судна, к счастью, делают эту небылицу правдоподобной. Без особых расспросов, не послав на борт чиновников для досмотра, португальцы, в силу свойственного морякам товарищеского чувства, оказывают шлюпке самый радушный прием. Они немедленно посылают испанцам пресную воду и съестные припасы; дважды, трижды возвращается шлюпка с берега, обильно нагруженная продовольствием. Уже кажется, что хитрость вполне удалась; отдых, а главное, давно не виданная пища – хлеб и мясо – подкрепили моряков, запасы продовольствия уже пополнены настолько, что их хватит до самой Севильи. Еще один, последний раз посылает дель Кано шлюпку – взять рису и плодов, а потом в путь, к победе! К победе! Но странное дело – на этот раз шлюпка не возвращается. Дель Кано мгновенно догадывается о том, что случилось. Кто-нибудь из матросов сболтнул на берегу лишнее или же попытался обменять щепотку-другую пряностей на водку, которой все они так долго были лишены; по этим признакам португальцы узнали корабль Магеллана, своего заклятого врага. Дель Кано уже видит, как на берегу готовят корабль для захвата «Виктории». Только отчаянная решимость может теперь спасти их. Уж лучше покинуть тех, кто на берегу, только не дать захватить себя в двух шагах от цели! Только сохранить мужество для завершения отважнейшего плавания в истории! И хотя на «Виктории» всего восемнадцать человек – слишком мало, чтобы довести ветхое судно до Испании, – дель Кано велит поспешно сняться с якоря и распустить паруса. Это – бегство. Но бегство к великой, к решающей победе.
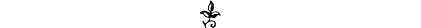
Моряки, отправленные на берег для покупки съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью: на суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда.
Пигафетта чрезвычайно удивлен, ибо в течение всего длившегося без малого три года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал он понедельник, вторник, среду, и так всю неделю, все годы подряд, – неужели же он пропустил один день?
Он спрашивает кормчего Альво, также отмечавшего каждый день в своем судовом журнале. И что же? По записям Альво тоже еще среда. Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день, и рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря плаванию Магеллана: подтвердилось точным наблюдением то, что Гераклит Понтийский{108} за четыреста лет до начала христианской эры высказал как гипотезу; доказано, что земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерным движением вращается вокруг собственной оси и что тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени.
Эта вновь познанная истина – что в различных частях света время и час не совпадают – волнует гуманистов шестнадцатого века примерно так же, как наших современников – теория относительности. Петр Ангиерский немедленно заставляет некоего «мудрого человека» объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привезших на родину одни только вороха пряностей, Пигафетта, скромный рыцарь Родосского ордена, привез из долгого плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете, – новую истину!
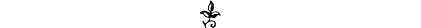
Первой обязанностью дель Кано, едва он вступил на берег, было послать императору письмо с великой вестью. А тем временем его моряки жадно поедают свежий, сейчас только испеченный хлеб, которым их здесь щедро потчуют. Годами их пальцы не прикасались к милому теплому караваю, годами не вкушали они ни вина, ни мяса, ни плодов родной земли. Потрясенный, вглядывается в их лица сбежавшийся народ, словно они возвратились из царства теней, и хочет и не может поверить чуду. А истомленные моряки, едва утолив голод и жажду, уже валятся на циновки и спят, спят всю ночь, спят впервые за все эти годы безмятежным сном, впервые опять прильнув сердцем к сердцу родины.
На следующее утро другое судно буксирует победоносный корабль вверх по Гвадалкивиру, до Севильи. Совершившая кругосветное плавание «Виктория» уже не в силах идти против течения. Удивленно окликают их с встречных барж и лодок. Никто не помнит этого корабля, три года назад отплывшего за океан; давным-давно Севилья, Испания, весь мир считали флотилию Магеллана погибшей – и что же? Вот он, победоносный корабль. С трудом, но все же гордо плывет он навстречу торжеству! Наконец вдали блеснула хиральда – белая колокольня – Севилья! Севилья! Уже видна гавань Жерновов, откуда они отплыли. «К бомбардам!» – приказывает дель Кано; это последняя команда в этом плавании. И уже грохочут над рекой орудийные залпы. Так моряки три года назад рыком чугунных жерл прощались с родиной. Так они торжественно приветствовали пролив, открытый Магелланом, так они салютовали неведомому Тихому океану. Так они провозгласили победу, завидев неизвестные Филиппинские острова, так громовым ликованием возвестили, достигнув цели, поставленной Магелланом, что долг ими выполнен. Так они отдали прощальный салют товарищам, оставшимся на Тидоре, когда пришлось покинуть братское судно в гибельной дали. Но никогда еще их медные голоса не звучали так победно, так ликующе, как ныне, когда они возвещают: «Мы вернулись! Мы свершили то, чего никто не свершил до нас! Мы – первые люди, обогнувшие земной шар!»

МЕРТВЫЕ НЕПРАВЫ
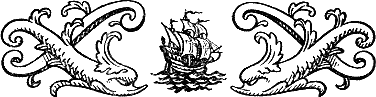
Толпами устремляется в Севилье народ на берег; все хотят, как пишет Овьедо,{110} «поглазеть на это единственное, достославное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как господь сотворил мир и первого человека». Потрясенные, смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт «Виктории», как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты, один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабы, измождены, истомлены, больны и обессилены эти неверной поступью идущие безыменные герои, каждый из которых за три бесконечных года плавания состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их. Им предлагают еду, их приглашают в дома, обступают их, требуя, чтобы они рассказывали, без передышки, без устали рассказывали о своих приключениях и мытарствах. Но моряки отвечают отказом. Потом, потом, после! Прежде всего – выполнить неотложный долг, сдержать обет, данный в час смертельной опасности: совершить искупительное паломничество в церковь Санта-Мария де ла Виктория и Санта-Мария Антигуа! В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков босиком, в белых саванах, с зажженными свечами в руках, шествуют в церковь, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить господа за то, что он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину. Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами преклонивших колена людей дароносицу, похожую на маленькое сияющее солнце. Возблагодарив всевышнего и его святых угодников за собственное избавление, моряки, быть может, еще творят молитву за упокой души своих собратьев и товарищей, три года назад вместе с ними преклонявших здесь колена. Ибо где те, что взирали тогда на Магеллана, их адмирала, в минуту, когда он развертывал шелковое знамя, пожалованное ему королем и благословленное священником? Они утонули, погибли от рук туземцев, умерли от голода и жажды, пропали без вести, остались в плену. Только на этих пал неисповедимый выбор судьбы, только их избрала она для торжества, только им даровала милость. И восемнадцать моряков едва слышно, трепетными устами читают молитву за упокой души убитого предводителя и двухсот павших из экипажа армады.
На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва возбуждая безмерное изумление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Пришел конец всякой неуверенности. Сомнение, этот злейший враг человеческого знания, побеждено. С тех пор как судно, отплыв из Севильской гавани, все время следовало в одном направлении и снова вернулось в Севилью, неопровержимо доказано, что Земля – вращающийся шар, а все моря – единое, нераздельное водное пространство. Бесповоротно отметена космография греков и римлян, раз навсегда покончено с доводами церкви и нелепой басней о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара и тем самым наконец определены размеры той части вселенной, которая именуется Землей; другие смелые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне имеет свои границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И поколение, счастливое и опьяненное этим переворотом представления о мире, свершившимся в пределах одной человеческой жизни, бессознательно чувствует: началась новая эра – новое время.
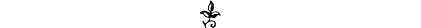
Только горсть людей во всей вселенной цепенеет от ужаса при вести, что один из кораблей Магеллановой армады, завершив кругосветное плавание, благополучно возвратился на родину. Это мятежные капитаны и их кормчий, дезертировавшие на «Сан-Антонио» и год назад высадившиеся в Севилье; погребальным звоном звучит радостная весть в их ушах. Давно уже тешили они себя надеждой, что опасный свидетель и обвинитель никогда не вернется в Испанию, и, нимало не колеблясь, выдали смелым аргонавтам в судебных протоколах свидетельство о смерти («Al juicio у parecer que han venido no volverà a Castilla el dicho Magellanes»).[70] Настолько были они убеждены, что корабли и команда гниют на дне морском, что беззастенчиво похвалялись перед королевской следственной комиссией своим мятежом как патриотическим актом, тщательно при этом умалчивая, что в ту критическую минуту, когда они покинули Магеллана, пролив был им уже найден. Они лишь вскользь упомянули о какой-то «бухте», куда вошли корабли (entraron en una bahia), и о том, что предпринятые Магелланом поиски были бесцельны и бесполезны (inutil e sin provecho). Тем более тяжки обвинения, возводимые ими на отсутствующего Магеллана. Он, мол, вероломно умертвил королевских чиновников, чтобы предать флотилию в руки португальцев, а свой корабль они сумели спасти лишь благодаря тому, что лишили свободы Мескиту, двоюродного брата Магеллана, украдкой взятого им на борт.
Правда, королевские судьи не придали безусловной веры показаниям мятежников и с похвальным беспристрастием признали подозрительными действия обеих сторон. Мятежные капитаны, равно как и верный Мескита, были заключены в тюрьму, а жене Магеллана (еще не знавшей, что она вдова) было запрещено отлучаться из города. Следует выждать, решил королевский суд, покуда вернутся свидетели – остальные корабли, а с ними и адмирал. Но когда миновал целый год, затем второй и от Магеллана все не было вестей – мятежники приободрились. И вот теперь гремит орудийный салют, возвещающий о возвращении одного из судов Магеллана, и гром его убийственно отдается в их совести. Теперь они погибли; Магеллану удалось совершить свое, великое дело, и он жестоко отомстит тем, кто, вопреки присяге и морским законам, трусливо его покинул и предательски заковал в цепи своего капитана.
Зато как легко стало у них на сердце, когда они услышали, что Магеллан мертв. Главный обвинитель безмолвен. И еще увереннее чувствуют они себя, узнав, что «Викторию» привел на родину дель Кано. Дель Кано – ведь он был их сообщником; вместе с ними поднял он той ночью мятеж в бухте Сан-Хулиан. Уж он-то не сможет, не станет обвинять их в преступлении, в котором сам был замешан. Не против них будет он свидетельствовать, а за них. Итак, благословенна смерть Магеллана, благословенны показания дель Кано! И расчеты их оказались правильными. Правда, Мескиту отпускают на свободу и даже возмещают ему понесенные убытки. Но сами они благодаря содействию дель Кано остаются безнаказанными, и мятеж их среди всеобщего ликования предается забвению: в тяжбе с мертвыми живые всегда правы.
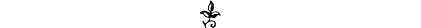
Те двое, кого Себастьян дель Кано взял с собой в Вальядолид – Пигафетта и кормчий Альваро, – по-видимому, действительно были наиболее испытанными из всех; менее безупречным представляется поведение дель Кано при исполнении второго желания императора – относительно передачи всех касающихся плавания документов. Здесь его образ действий внушает некоторые подозрения, ибо ни одной строчки, писанной рукою Магеллана, не вручил он монарху (единственный документ, написанный самим Магелланом, уцелел лишь потому, что вместе с «Тринидад» попал в руки португальцев). Вряд ли можно усомниться в том, что Магеллан, человек исключительной точности и фанатик долга, сознававший всю важность своего дела, вел регулярный дневник; только рука завистника могла тайно его уничтожить. По всей вероятности, все те, кто восстал в пути против своего начальника, сочли слишком опасным, чтобы император получил беспристрастные сведения об их неблаговидных действиях; вот почему каким-то таинственным образом после смерти Магеллана исчезает все до единой строчки, что было написано его рукою. Не менее странно и исчезновение объемистых записок Пигафетты, им самим в подлиннике врученных императору при этой аудиенции («Fra le altre cose li detti uno libro, scritto de mia mano, de tutte le cose passate de giorno in giorno nel viaggio nostro»[71]). Эти подлинные записки никоим образом нельзя отождествлять с дошедшим до нас более поздним описанием путешествия, которое, несомненно, является лишь кратким сводом извлечений из них; то, что мы здесь имеем дело с двумя различными трудами, подтверждается донесением мантуанского посла, который сообщает 21 октября о записях Пигафетты, которые тот вел изо дня в день («Libro molto bello che de giorno in giorno li e scritto el viaggio e paese che hano ricercato»[72]), чтобы три недели спустя обещать всего лишь краткое из них извлечение («Un breve extracto о sommario del libro che hano portato quelli de le Indie»[73]), то есть именно то, что в настоящее время известно под названием путевых записок Пигафетты, лишь скудно восполняемых заметками кормчих, а также сообщениями Петра Ангиерского и Максимилиана Трансильванского. Мы можем только строить догадки о причинах, вызвавших бесследное исчезновение собственноручных записей Пигафетты; очевидно, задним числом, с целью придать больший блеск торжеству баскского дворянина дель Кано, было сочтено за благо как можно меньше распространяться о противодействии, оказанном испанскими офицерами португальцу Магеллану. Здесь, как это часто бывает в истории, национальное тщеславие взяло верх над справедливостью.
Это сознательное умаление Магеллана, видимо, сильно огорчало верного Пигафетту. Он чувствует, что заслуги взвешиваются здесь фальшивыми гирями. Ведь мир всегда награждает лишь завершителя – того, кому выпало счастье довести великое дело до конца, – и забывает всех тех, кто своим духом и кровью сделал этот подвиг возможным, мыслимым. Но на сей раз присуждение наград особенно несправедливо и возмутительно. Всю славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг, недавний предатель Магеллана – Себастьян дель Кано. Ранее совершенное им преступление (из-за которого он, в сущности говоря, и решил укрыться во флотилии Магеллана) – продажа корабля иностранцу – торжественно объявляется искупленным; ему пожалована пожизненная годовая пенсия в пятьсот золотых дукатов. Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, символически увековечивающий дель Кано как свершителя бессмертного подвига. Две скрещенные палочки корицы, обрамленные мускатными орехами и гвоздикой, заполняют внутреннее поле; их венчает шлем, над которым высится земной шар с гордой надписью: «Primus circumdedisti me» – «Ты первый совершил плавание вокруг меня». Но еще более чудовищной становится «несправедливость, когда награды удостаивается и Эстебан Гомес – тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе, кто на суде в Севилье показал, будто найден был не пролив, а всего лишь открытая бухта. Да, именно он, Эстебан Гомес, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие, получает дворянство за ту заслугу, что он «в качестве начальника и старшего кормчего открыл пролив». Вся слава, весь успех Магеллана волею злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни.
