Страница:
– Главное – то, что вы здесь, доктор, и моей признательности нет дела до вашего способа передвижения. Спасибо, добрый доктор, спасибо!
И Эусеб хотел с благодарностью пожать доктору руку.
– Осторожнее! – быстро отдернув руку, остановил его доктор. – Берегитесь моих когтей!
– Что вы хотите этим сказать? – спросил молодой человек.
– Вероятно, вы единственный человек в славном городе Батавии, которому ничего не известно о моей дружбе с сатаной, о том, что князь тьмы каждый день приходит ко мне пить кофе: утром – со сливками, вечером – на одной воде, и в трех или четырех случаях я, благодаря его советам, выглядел меньшим ослом, чем мои коллеги.
– Напротив, доктор, я слышал об этом, но как можно в наше время верить подобным нелепостям?
– Эх, мой юный друг, чем черт не шутит. Впрочем, признательность – груз до того тяжелый, что многие с радостью от него избавились бы даже благодаря подобной нелепости.
– Поверьте, доктор, я не из их числа и всю свою жизнь буду помнить об отзывчивости, поспешности и бескорыстии, с которыми вы откликнулись на мою просьбу.
– Ну-ну! – воскликнул доктор, которого охватил такой неудержимый смех, что он в конце концов закашлялся. – Этот молодой человек меня забавляет, он чрезвычайно смешон. Продолжайте, дружок, я люблю видеть, как сердце исходит потоками слов; это выдает возвышенную душу тех, кто предается подобным излияниям, а я обожаю возвышенные души. Так о чем мы говорили?
– О том, что в обмен на услугу, которую вы собираетесь мне оказать, вылечив мою Эстер, вы, доктор, можете располагать мной, как вам будет угодно; назначайте любую цену, я с благодарностью отдам вам даже собственную жизнь, потому что вы спасете более драгоценное существование – жизнь женщины, любимой мною.
– Myn God![1] Да ведь вы мне сделку предлагаете, молодой человек. Так и есть, вы явно поняли буквально то, что добрые люди рассказывают обо мне. Признательность завела вас слишком далеко. Признательность… Черт возьми, берегитесь ее, следует остерегаться подобных чувств.
– Доктор, доктор, – произнес несчастный Эусеб, до того оскорбленный шутками, которыми Базилиус отвечал на изъявления благодарности, что слезы брызнули из его глаз. – Доктор, вы смеетесь надо мной?
– О, я не стал бы этого делать! – воскликнул доктор. – Разве я хоть в чем-нибудь усомнился? Я верю всем обещаниям, их всегда дают от чистого сердца. Но вот выполнять их – другое дело; честные люди – это те, кто держит слово, сожалея о том, что дал его.
– Доктор, клянусь вам…
– Я думаю о вас то же самое, мой юный друг, что о других людях: так же искренне, как дали обещание, вы о нем забудете.
– Доктор, я клянусь…
– Постойте, – перебил Эусеба доктор, – вот перед вашими глазами, справа от ящика, что служит вам комодом, осколок зеркала.
– И что же?
– Приблизьте к нему свое лицо.
– Я это сделал, доктор.
– Что вы видите?
– Свое отражение.
– Так вот, обещать, что через двадцать лет вы будете помнить о своей клятве, столь же бессмысленно, сколько надеяться через двадцать лет увидеть себя в зеркале таким, как сейчас. Но это не имеет значения, продолжайте, мой юный друг. Мне в десять раз приятнее слушать, как люди говорят о своей признательности, чем видеть ее проявления. Так что продолжайте, не стесняйтесь.
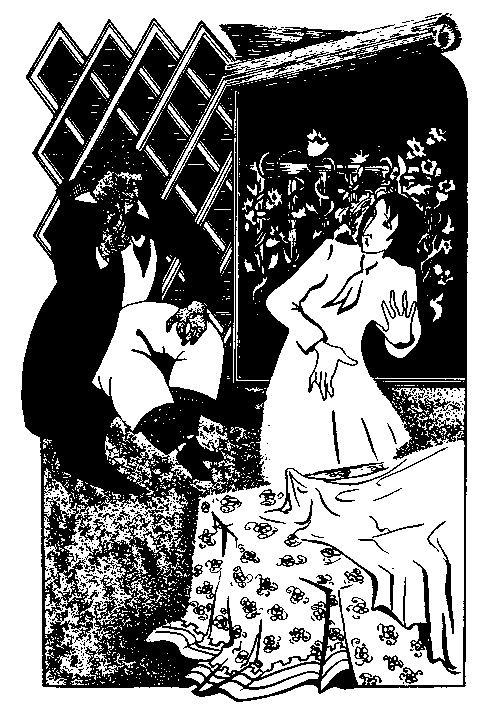 – Словом, доктор, – сказал бедняга Эусеб, упорно старавшийся убедить своего странного собеседника в том, что он не такой неблагодарный, как большинство людей, – я надеюсь, что мне выпадет счастье доказать вам ошибочность вашего дурного мнения о роде человеческом. А теперь мне кажется, что мы потеряли много времени. Хотите ли вы, чтобы я разбудил больную?
– Словом, доктор, – сказал бедняга Эусеб, упорно старавшийся убедить своего странного собеседника в том, что он не такой неблагодарный, как большинство людей, – я надеюсь, что мне выпадет счастье доказать вам ошибочность вашего дурного мнения о роде человеческом. А теперь мне кажется, что мы потеряли много времени. Хотите ли вы, чтобы я разбудил больную?
– Для чего?
– Доктор, для того, чтобы вы оказали ей необходимую в ее состоянии помощь.
– Что ж, – доктор издал свой пронзительный смешок, – в данный момент ей в ее состоянии ничего не требуется: она спит, как никогда прежде не спала. Прислушайтесь, и вы даже не услышите ее дыхания.
– Это правда, – встревожился молодой человек и шагнул к постели.
Но доктор удержал его за полу сюртука.
– Оставьте ее, – сказал он. – Именно во сне силы восстанавливаются. Кто вам говорил, что сама смерть, которой все так боятся, не есть долгий отдых перед новой жизнью? Смотрите-ка! Право же, кажется, я только что создал систему, и, может быть, она не так уж бессмысленна.
– Не хотите ли, по крайней мере, доктор, чтобы не терять больше времени попусту, выслушать мой рассказ о болезни Эстер – о проявлениях ее первого периода?
– Прежде всего поймите, мой мальчик, что мы вовсе не теряем времени напрасно. Напротив, мы философствуем, а это наилучшее использование часов своей жизни, какое может найти человек. Что касается рассказа о болезни вашей жены, о симптомах первого периода – мне все известно не хуже, чем вам. Существуют законы рождения, точно так же существуют законы смерти; из этого следует, что всякое знание дается легко, стоит только научиться читать эту великую книгу для слепых, называемую природой. Так что дадим спать вашей жене и поговорим о других вещах.
Эусеб вздохнул, но, решив, что должен подчиняться капризам доктора, спросил:
– О чем вам хотелось бы поговорить, доктор?
– О чем угодно, мой юный друг. Мне безразлично, что пить: арак или наш превосходный ехидам, констанс или пальмовое вино. Я провел долгие часы за беседой с почтенным брамином, служившим Джаггернауту, а на следующий день, после того как полностью исчерпал тему таинства тридцати шести воплощений Брахмы, с не меньшим интересом прислушивался к болтовне ласкаров на джонке, в которой мы спускались по священной реке.
– Ну, а теперь, доктор, – начал Эусеб (несмотря на то что сердце молодого человека все сильнее сжимала безотчетная тоска, он старался казаться веселым и доверчивым), – скажите мне, отчего вы так скоро и бескорыстно откликнулись на мою просьбу, вы, кто…
Эусеб, заметив, что неудачно начал фразу, не решался ее закончить.
– Кто?.. – спросил доктор.
Затем, видя, что Эусеб продолжает молчать, договорил:
– … кто продает на вес золота те небольшие знания, которые у меня есть или которые мне приписывают? Вот что вы хотели сказать вот что, по крайней мере, вы думали.
– О, доктор!
– Вы меня этим не оскорбили. Черт возьми! Священника обогащает религия, а врача – смерть. Неужели вы считаете, что я, если бы захотел, не смог бы ясно и неопровержимо доказать вам: не только врач, но человек любой профессии наживается на несчастье ближнего? Только зло, причиненное другому, возвращается к человеку, лишь за добро не платят добром. Но эта тема заведет нас чересчур далеко, вернемся к вашему вопросу. Есть одна вещь, которую я предпочитаю золоту, может быть, оттого, что золота у меня слишком много.
Эусеб в изумлении воззрился на доктора.
– Ах да!.. Вот еще одно доказательство того, какого прекрасного мнения о человеческом роде держатся люди. Вас удивляет то, что я говорю о своем богатстве? В таких вещах не признаются по двум причинам: во-первых, богатый человек всегда боится, как бы его не обокрали; но это причина не главная, еще больше он боится – и это вторая причина, о которой я должен был бы сказать с самого начала, – еще больше он боится, что кто-то может доискаться источников его богатства. А этими источниками, юный мой друг, чаще всего оказываются подкуп, лихоимство, мошенничество, воровство и даже убийство; сами понимаете, какого презрения удостоилась бы большая часть наших миллионеров, если бы кто-нибудь добрался до истоков их обогащения. Путешественники, достигнув верховьев Нила на четвертом градусе широты, обнаружили там лишь грязное болото со смертоносными испарениями. Большинство крупных состояний, дружок, происходят из куда более нечистых болот, чем те, в которых берет свое начало Нил. Не подходите к ним слишком близко: вы рискуете вдохнуть больше углекислого газа, чем азота или кислорода. Я – другое дело, я бесстыжий плут и говорю вслух, каким путем разбогател. Подобно доктору Фаусту, я продался сатане, и он дал мне испить из чаши знания. Я могу бороться против Бога и исцелять людей, но забочусь о том, чтобы получить плату прежде выздоровления больного: оставив это на потом, я ходил бы в протертых штанах и с дыркой на локте, как вы.
– Именно поэтому я и обратился к вам с вопросом, на который вы, доктор, так и не ответили.
– Так вот, я отвечаю на него, мой юный друг. Есть нечто, предпочитаемое мною золоту, – это мои прихоти. Выказанное мною расположение, в котором вы чуть ли не упрекаете меня, – мой каприз, только и всего. Вот потому я так недорого ценю вашу благодарность… Курите ли вы опиум, меестер ван ден Беек?
– Нет, доктор.
– Напрасно, опиум – превосходная вещь; говорят, от него худеют, – но взгляните на мой стан; говорят, от опиума тускнеют глаза, – но взгляните на мои.
С этими словами доктор похлопал себя по круглому животу, отозвавшемуся звуком, каким мог бы гордиться большой барабан, и сверкнул глазами так, что ослепил Эусеба.
– Говорят еще, что он укорачивает жизнь, – продолжал доктор, – это заблуждение, ложь, клевета! Он удваивает ее продолжительность, поскольку во сне мы проживаем вторую жизнь.
– Доктор, – с беспокойством перебил его Эусеб, – раз уж вы заговорили о сне, не находите ли вы, что моя жена спит слишком долго и это внушает беспокойство?
– Знаете ли вы, что народы Востока – турки, арабы и даже китайцы, которых мы считаем черновым наброском человека или подделкой под него, – воспринимают жизнь гораздо логичнее, чем мы, жители Запада? Что такое наше тупое или буйное опьянение от вина или пива, это материальное поглощение, от которого человек становится хуже скотины, по сравнению с вдыханием благоуханного дыма, который, непрестанно поднимаясь, обволакивает мозг, а не падает в желудок; по сравнению с волшебным оцепенением, что освобождает душу от ее земной оболочки и позволяет ей путешествовать из одного рая в другой?
– Доктор, милый доктор, умоляю вас, поговорим об Эстер.
– Ну что ж, давайте, раз вы непременно этого хотите, – ответил Базилиус, не пытаясь скрыть своего недовольства.
– Так вот, доктор, вы должны знать, что еще до того, как мы покинули Харлем, у нее начался кашель, длительные и непрерывные припадки которого меня тревожили.
– Ах, вы из Харлема? – прервал его доктор Базилиус, казалось не замечавший, как нетерпеливо Эусеб ждет конца этого вмешательства. – Право, это прелестный городок.
– Да, доктор, очаровательный; но позвольте мне…
– Но, – продолжал доктор, – если вы действительно из Харлема, я думаю, вы знаете знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта, который теперь находится в кабинете господина ван Дамма?
– Да, доктор, но я хотел сказать вам…
– Милый мой, то, что я хочу сказать вам, гораздо интереснее того, о чем вы собираетесь сообщить мне; я рассказываю вам о человеческом творении, которое проживет века – столько, сколько просуществуют холст и положенные на него краски, в то время как человек, этот венец творения Господа, созданный из костей и плоти, живет тридцать, сорок, пятьдесят или шестьдесят лет, после чего рассыпается в прах… Фу, как говорил Гамлет.
– Доктор, – невольно вздрогнув, произнес Эусеб, – честное слово, вы пугаете меня.
– Представьте, – продолжал Базилиус, словно и не слышал слов, только что сказанных Эусебом, – это знаменитое полотно всего лишь копия, дорогой господин ван ден Беек. А если вам хочется увидеть оригинал, достаточно прийти ко мне; вы увидите не только «Ночной дозор», но всю мою коллекцию; вам следует знать, что у меня прекрасная картинная галерея здесь, в Батавии, в жалкой хижине на набережной; как я только что собирался сказать вам, благодаря моему богатству я смог окружить себя подлинными восточными наслаждениями и духовными радостями европейцев. Вы найдете у меня все: шедевры искусства и природы, картины Рембрандта, Тициана и Рубенса, лучшие вина Венгрии, Франции и Испании, наконец, прекраснейшие образцы трех населяющих землю рас: черной, белой и желтой.
– Боже мой! Боже мой! – бормотал вполголоса молодой человек, беспокойно перебегая через комнату, чтобы взглянуть на юную женщину, по-прежнему неподвижную и безмолвную. – Господи! Неужели вот этот немилосердный болтун и есть тот самый доктор Базилиус, об искусстве которого мне рассказывали такие чудеса?
Наконец он остановился с решительным видом и потребовал:
– Сударь, прежде всего осмотрите мою жену, очень прошу вас, а потом… Ах, Боже мой, потом мы будем с вами говорить сколько пожелаете.
– Хорошо, – согласился доктор, – но прежде еще несколько слов.
– Покороче.
– Ваше имя Эусеб ван ден Беек?
– Да, сударь.
– Вы родом из Харлема?
– Я только что вам это сообщил.
– Вы сын Якобуса ван ден Беека?
– Сын Якобуса ван ден Беека.
– Супруг Эстер Мениус, дочери Вильгельма Мениуса, нотариуса, и Жанны Катрин Мортье, его жены?
– Совершенно верно, сударь, вы как будто метрическую книгу читаете.
– … сестры, – продолжал доктор, – некоего Базиля Мортье, который в двадцать лет сел на корабль, покинул Харлем и больше туда не возвращался?
– Нет, сударь, никогда больше. Вы знали этого дядю моей жены, с которым сама она едва знакома?
– Я слышал о нем и даже знал его лично. Он был контрабандистом, морским разбойником, пиратом. Не знаю, в каком уголке земного шара он был повешен.
– Ах, Боже мой!
– О, не жалейте его, это был отъявленный негодяй.
– Доктор, он был дядей моей бедной Эстер. Простите меня, но я попрошу вас не говорить дурно о столь близком нашем родственнике. Мы, голландцы старого закала, воспитаны в уважении к семье.
– В самом деле, вы удивительный молодой человек. Так не станем больше говорить о вашем дяде.
– Нет, доктор, нет. Но, Бога ради, поговорим о его племяннице.
– Странно, – произнес Базилиус, говоривший будто бы сам с собой, но достаточно громко для того, чтобы Эусеб его слышал, – поразительно, с какой настойчивостью человек устремляется навстречу своему несчастью.
– Так я говорил вам… – снова начал Эусеб, не обращая внимания на эту своего рода реплику a parte.[2]
Но доктор нетерпеливо перебил его:
– Ох, Господи! Да, вы сказали мне, что перед вашим отъездом из Харлема у вашей жены начался кашель, продолжительность припадков которого вас тревожила.
Эусеб хотел продолжать, но доктор не дал ему говорить.
– О, дайте мне рассказать вам дальнейшее, – продолжил он, – и вы увидите, что незачем надоедать мне, сообщая вещи, известные мне лучше, чем вам.
– Лучше, чем мне? – воскликнул удивленный Эусеб.
– Ей-Богу, вы сами в этом убедитесь. Остановите меня, если я ошибусь, но, черт возьми, не прерывайте меня ни в каком другом случае.
– Я слушаю вас, – ответил Эусеб, удивляясь еще больше.
– Так вот, первые дни плавания крайне утомили ее. Она вынуждена была оставаться в постели: кашель не прекращался, появилась обильная мокрота…
– Да, доктор, так оно и было.
– Тогда дайте мне продолжить. На пятый день после отплытия у вашей жены началось сильное кровохарканье, иначе говоря, настоящая гемоптизия; ее остановили с помощью сиропа Фаулера, но ваша жена продолжала жаловаться на жестокую боль в груди; кашель сделался слабее, но пищеварение прекратилось. В таком состоянии ваша жена находилась четыре или пять дней, после чего, почувствовав себя лучше, решила, что она уже здорова. Неделей позже, поскольку погода была ясной, а море – спокойным, больная достаточно окрепла для того, чтобы подняться на палубу и прогуливаться, опираясь на вашу руку. Боли в груди и в животе утихли, появился аппетит, к вашей жене вместе с ним частично вернулись силы и полностью – ее молодость и веселость. Когда после пяти месяцев плавания вы высадились на берег в Батавии, ни вы, ни она больше не думали о туберкулезе легких, словно эта болезнь никогда не существовала на земле, оставшись в ладони Господа, которому мы обязаны всеми дарами, как надежда осталась на дне сосуда Пандоры.
– Да, да, совершенно верно, доктор! – воскликнул Эусеб, куда более напуганный знаниями доктора, чем богохульством, которое тот только что проронил, сопроводив его тем сатанинским смехом, какой мы уже замечали у него.
– Дождитесь финала, чтобы начать аплодировать, черт возьми! Как все великие артисты, я приберег свой эффект. Через два дня после вашего прибытия вы возвращались от негоцианта, которому вас рекомендовали и у которого вы должны были начать служить с ближайшего понедельника; ваша жена стала жаловаться на боль в пояснице и на усталость в руках и ногах. В тот же вечер возобновился кашель, на следующий день появилась мокрота; туберкулы продолжали свое разрушительное дело, углубляя каверны под воздействием влажной жары. При выслушивании было обнаружено, что у вашей жены уже нет или почти нет правого легкого и задето левое; у нее открылась, как мы говорим, скоротечная чахотка. Дыхание делалось все более затрудненным и свистящим, кровообращение – ускоренным и неровным; пульс доходил до девяноста пяти или ста ударов в минуту, а по ночам поднимался даже до ста десяти и ста пятнадцати; утром грудь, лицо и руки покрывал холодный липкий пот; силы убывали, разум угасал, чувства притуплялись. Любовь – даже любовь, то проявление жизни, которое, казалось, должно было пережить вашу жену, – покинула ее; в течение нескольких дней эта еще недавно такая веселая и любящая юная женщина превратилась в старуху, безразличную даже к проявлению вашей нежности, равнодушную ко всему, вплоть до самой смерти. Все происходило именно так?
– Да, доктор, в точности; но как вы могли узнать?..
– Ну-ну, – ответил доктор. – Правду сказать, мне бывает смешно, когда в ваших прелестных европейских романах легочных больных изображают розовыми и слащавыми, словно те ужасные пастели, которые у французов считаются живописью. Очаровательные больные дамы, в розовом атласном пеньюаре и чепчике с оборками, вдыхающие воздух Ниццы или пьющие целебные воды, изящно кашляют и благородно падают в обморок. Скажите, скажите же, метр ван ден Беек, в последние дни похожа была ваша Эстер на этих хорошеньких чахоточных?
– Увы! Нет, доктор; но, несмотря на изменения, происшедшие в ней из-за болезни, я не стал меньше любить ее; помогите ей, вылечите, спасите ее!
– Дорогой друг, – произнес доктор со своим пугающим смехом, – я и сам бы рад был сделать это, но мы немного опоздали.
– Как немного опоздали? – воскликнул Эусеб, растерянно и в страхе глядя на врача. – Вы сказали, что уже поздно?
– Без всякого сомнения; ваша жена испустила последний вздох в половине девятого вечера, как раз в ту минуту, когда вы в первый раз постучали в дверь моего дома.
Эусеб страшно закричал и бросился к постели.
Тело Эстер уже было сковано ледяным холодом и той отверделостью, которая на языке науки называется трупным окоченением.
– О, это невозможно, это невозможно! – вопил несчастный молодой человек; упав на постель, он сжимал жену в объятиях и прильнул к ее уже застывшим губам. – Ах, Боже мой, Боже мой! Доктор, помогите же мне! Она не мертва, она не может умереть вот так, не простившись со мной! А я так спокойно слушал все, что говорил этот человек. Эстер! Эстер! О доктор, умоляю вас; я оставил ее спокойной, улыбающейся, она сказала мне, что с самого начала своей болезни не чувствовала себя так хорошо!
– Это всегда так бывает, бедный мальчик, – объяснил врач. – Жизнь должна улыбнуться тем, кому приходится с ней расстаться.
III. Сделка
И Эусеб хотел с благодарностью пожать доктору руку.
– Осторожнее! – быстро отдернув руку, остановил его доктор. – Берегитесь моих когтей!
– Что вы хотите этим сказать? – спросил молодой человек.
– Вероятно, вы единственный человек в славном городе Батавии, которому ничего не известно о моей дружбе с сатаной, о том, что князь тьмы каждый день приходит ко мне пить кофе: утром – со сливками, вечером – на одной воде, и в трех или четырех случаях я, благодаря его советам, выглядел меньшим ослом, чем мои коллеги.
– Напротив, доктор, я слышал об этом, но как можно в наше время верить подобным нелепостям?
– Эх, мой юный друг, чем черт не шутит. Впрочем, признательность – груз до того тяжелый, что многие с радостью от него избавились бы даже благодаря подобной нелепости.
– Поверьте, доктор, я не из их числа и всю свою жизнь буду помнить об отзывчивости, поспешности и бескорыстии, с которыми вы откликнулись на мою просьбу.
– Ну-ну! – воскликнул доктор, которого охватил такой неудержимый смех, что он в конце концов закашлялся. – Этот молодой человек меня забавляет, он чрезвычайно смешон. Продолжайте, дружок, я люблю видеть, как сердце исходит потоками слов; это выдает возвышенную душу тех, кто предается подобным излияниям, а я обожаю возвышенные души. Так о чем мы говорили?
– О том, что в обмен на услугу, которую вы собираетесь мне оказать, вылечив мою Эстер, вы, доктор, можете располагать мной, как вам будет угодно; назначайте любую цену, я с благодарностью отдам вам даже собственную жизнь, потому что вы спасете более драгоценное существование – жизнь женщины, любимой мною.
– Myn God![1] Да ведь вы мне сделку предлагаете, молодой человек. Так и есть, вы явно поняли буквально то, что добрые люди рассказывают обо мне. Признательность завела вас слишком далеко. Признательность… Черт возьми, берегитесь ее, следует остерегаться подобных чувств.
– Доктор, доктор, – произнес несчастный Эусеб, до того оскорбленный шутками, которыми Базилиус отвечал на изъявления благодарности, что слезы брызнули из его глаз. – Доктор, вы смеетесь надо мной?
– О, я не стал бы этого делать! – воскликнул доктор. – Разве я хоть в чем-нибудь усомнился? Я верю всем обещаниям, их всегда дают от чистого сердца. Но вот выполнять их – другое дело; честные люди – это те, кто держит слово, сожалея о том, что дал его.
– Доктор, клянусь вам…
– Я думаю о вас то же самое, мой юный друг, что о других людях: так же искренне, как дали обещание, вы о нем забудете.
– Доктор, я клянусь…
– Постойте, – перебил Эусеба доктор, – вот перед вашими глазами, справа от ящика, что служит вам комодом, осколок зеркала.
– И что же?
– Приблизьте к нему свое лицо.
– Я это сделал, доктор.
– Что вы видите?
– Свое отражение.
– Так вот, обещать, что через двадцать лет вы будете помнить о своей клятве, столь же бессмысленно, сколько надеяться через двадцать лет увидеть себя в зеркале таким, как сейчас. Но это не имеет значения, продолжайте, мой юный друг. Мне в десять раз приятнее слушать, как люди говорят о своей признательности, чем видеть ее проявления. Так что продолжайте, не стесняйтесь.
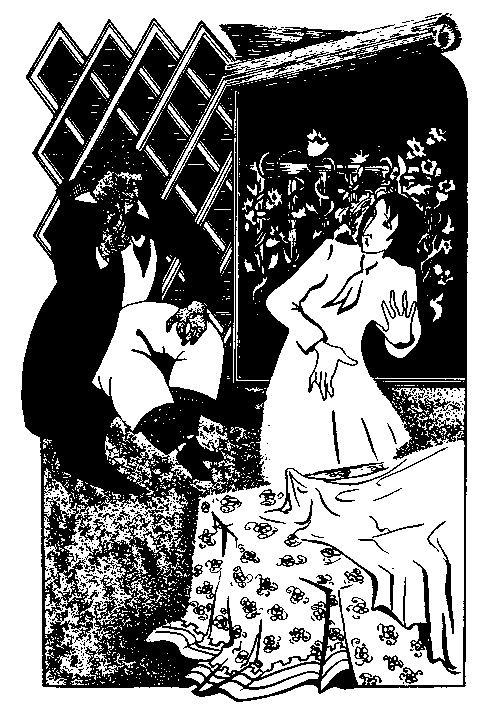
– Для чего?
– Доктор, для того, чтобы вы оказали ей необходимую в ее состоянии помощь.
– Что ж, – доктор издал свой пронзительный смешок, – в данный момент ей в ее состоянии ничего не требуется: она спит, как никогда прежде не спала. Прислушайтесь, и вы даже не услышите ее дыхания.
– Это правда, – встревожился молодой человек и шагнул к постели.
Но доктор удержал его за полу сюртука.
– Оставьте ее, – сказал он. – Именно во сне силы восстанавливаются. Кто вам говорил, что сама смерть, которой все так боятся, не есть долгий отдых перед новой жизнью? Смотрите-ка! Право же, кажется, я только что создал систему, и, может быть, она не так уж бессмысленна.
– Не хотите ли, по крайней мере, доктор, чтобы не терять больше времени попусту, выслушать мой рассказ о болезни Эстер – о проявлениях ее первого периода?
– Прежде всего поймите, мой мальчик, что мы вовсе не теряем времени напрасно. Напротив, мы философствуем, а это наилучшее использование часов своей жизни, какое может найти человек. Что касается рассказа о болезни вашей жены, о симптомах первого периода – мне все известно не хуже, чем вам. Существуют законы рождения, точно так же существуют законы смерти; из этого следует, что всякое знание дается легко, стоит только научиться читать эту великую книгу для слепых, называемую природой. Так что дадим спать вашей жене и поговорим о других вещах.
Эусеб вздохнул, но, решив, что должен подчиняться капризам доктора, спросил:
– О чем вам хотелось бы поговорить, доктор?
– О чем угодно, мой юный друг. Мне безразлично, что пить: арак или наш превосходный ехидам, констанс или пальмовое вино. Я провел долгие часы за беседой с почтенным брамином, служившим Джаггернауту, а на следующий день, после того как полностью исчерпал тему таинства тридцати шести воплощений Брахмы, с не меньшим интересом прислушивался к болтовне ласкаров на джонке, в которой мы спускались по священной реке.
– Ну, а теперь, доктор, – начал Эусеб (несмотря на то что сердце молодого человека все сильнее сжимала безотчетная тоска, он старался казаться веселым и доверчивым), – скажите мне, отчего вы так скоро и бескорыстно откликнулись на мою просьбу, вы, кто…
Эусеб, заметив, что неудачно начал фразу, не решался ее закончить.
– Кто?.. – спросил доктор.
Затем, видя, что Эусеб продолжает молчать, договорил:
– … кто продает на вес золота те небольшие знания, которые у меня есть или которые мне приписывают? Вот что вы хотели сказать вот что, по крайней мере, вы думали.
– О, доктор!
– Вы меня этим не оскорбили. Черт возьми! Священника обогащает религия, а врача – смерть. Неужели вы считаете, что я, если бы захотел, не смог бы ясно и неопровержимо доказать вам: не только врач, но человек любой профессии наживается на несчастье ближнего? Только зло, причиненное другому, возвращается к человеку, лишь за добро не платят добром. Но эта тема заведет нас чересчур далеко, вернемся к вашему вопросу. Есть одна вещь, которую я предпочитаю золоту, может быть, оттого, что золота у меня слишком много.
Эусеб в изумлении воззрился на доктора.
– Ах да!.. Вот еще одно доказательство того, какого прекрасного мнения о человеческом роде держатся люди. Вас удивляет то, что я говорю о своем богатстве? В таких вещах не признаются по двум причинам: во-первых, богатый человек всегда боится, как бы его не обокрали; но это причина не главная, еще больше он боится – и это вторая причина, о которой я должен был бы сказать с самого начала, – еще больше он боится, что кто-то может доискаться источников его богатства. А этими источниками, юный мой друг, чаще всего оказываются подкуп, лихоимство, мошенничество, воровство и даже убийство; сами понимаете, какого презрения удостоилась бы большая часть наших миллионеров, если бы кто-нибудь добрался до истоков их обогащения. Путешественники, достигнув верховьев Нила на четвертом градусе широты, обнаружили там лишь грязное болото со смертоносными испарениями. Большинство крупных состояний, дружок, происходят из куда более нечистых болот, чем те, в которых берет свое начало Нил. Не подходите к ним слишком близко: вы рискуете вдохнуть больше углекислого газа, чем азота или кислорода. Я – другое дело, я бесстыжий плут и говорю вслух, каким путем разбогател. Подобно доктору Фаусту, я продался сатане, и он дал мне испить из чаши знания. Я могу бороться против Бога и исцелять людей, но забочусь о том, чтобы получить плату прежде выздоровления больного: оставив это на потом, я ходил бы в протертых штанах и с дыркой на локте, как вы.
– Именно поэтому я и обратился к вам с вопросом, на который вы, доктор, так и не ответили.
– Так вот, я отвечаю на него, мой юный друг. Есть нечто, предпочитаемое мною золоту, – это мои прихоти. Выказанное мною расположение, в котором вы чуть ли не упрекаете меня, – мой каприз, только и всего. Вот потому я так недорого ценю вашу благодарность… Курите ли вы опиум, меестер ван ден Беек?
– Нет, доктор.
– Напрасно, опиум – превосходная вещь; говорят, от него худеют, – но взгляните на мой стан; говорят, от опиума тускнеют глаза, – но взгляните на мои.
С этими словами доктор похлопал себя по круглому животу, отозвавшемуся звуком, каким мог бы гордиться большой барабан, и сверкнул глазами так, что ослепил Эусеба.
– Говорят еще, что он укорачивает жизнь, – продолжал доктор, – это заблуждение, ложь, клевета! Он удваивает ее продолжительность, поскольку во сне мы проживаем вторую жизнь.
– Доктор, – с беспокойством перебил его Эусеб, – раз уж вы заговорили о сне, не находите ли вы, что моя жена спит слишком долго и это внушает беспокойство?
– Знаете ли вы, что народы Востока – турки, арабы и даже китайцы, которых мы считаем черновым наброском человека или подделкой под него, – воспринимают жизнь гораздо логичнее, чем мы, жители Запада? Что такое наше тупое или буйное опьянение от вина или пива, это материальное поглощение, от которого человек становится хуже скотины, по сравнению с вдыханием благоуханного дыма, который, непрестанно поднимаясь, обволакивает мозг, а не падает в желудок; по сравнению с волшебным оцепенением, что освобождает душу от ее земной оболочки и позволяет ей путешествовать из одного рая в другой?
– Доктор, милый доктор, умоляю вас, поговорим об Эстер.
– Ну что ж, давайте, раз вы непременно этого хотите, – ответил Базилиус, не пытаясь скрыть своего недовольства.
– Так вот, доктор, вы должны знать, что еще до того, как мы покинули Харлем, у нее начался кашель, длительные и непрерывные припадки которого меня тревожили.
– Ах, вы из Харлема? – прервал его доктор Базилиус, казалось не замечавший, как нетерпеливо Эусеб ждет конца этого вмешательства. – Право, это прелестный городок.
– Да, доктор, очаровательный; но позвольте мне…
– Но, – продолжал доктор, – если вы действительно из Харлема, я думаю, вы знаете знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта, который теперь находится в кабинете господина ван Дамма?
– Да, доктор, но я хотел сказать вам…
– Милый мой, то, что я хочу сказать вам, гораздо интереснее того, о чем вы собираетесь сообщить мне; я рассказываю вам о человеческом творении, которое проживет века – столько, сколько просуществуют холст и положенные на него краски, в то время как человек, этот венец творения Господа, созданный из костей и плоти, живет тридцать, сорок, пятьдесят или шестьдесят лет, после чего рассыпается в прах… Фу, как говорил Гамлет.
– Доктор, – невольно вздрогнув, произнес Эусеб, – честное слово, вы пугаете меня.
– Представьте, – продолжал Базилиус, словно и не слышал слов, только что сказанных Эусебом, – это знаменитое полотно всего лишь копия, дорогой господин ван ден Беек. А если вам хочется увидеть оригинал, достаточно прийти ко мне; вы увидите не только «Ночной дозор», но всю мою коллекцию; вам следует знать, что у меня прекрасная картинная галерея здесь, в Батавии, в жалкой хижине на набережной; как я только что собирался сказать вам, благодаря моему богатству я смог окружить себя подлинными восточными наслаждениями и духовными радостями европейцев. Вы найдете у меня все: шедевры искусства и природы, картины Рембрандта, Тициана и Рубенса, лучшие вина Венгрии, Франции и Испании, наконец, прекраснейшие образцы трех населяющих землю рас: черной, белой и желтой.
– Боже мой! Боже мой! – бормотал вполголоса молодой человек, беспокойно перебегая через комнату, чтобы взглянуть на юную женщину, по-прежнему неподвижную и безмолвную. – Господи! Неужели вот этот немилосердный болтун и есть тот самый доктор Базилиус, об искусстве которого мне рассказывали такие чудеса?
Наконец он остановился с решительным видом и потребовал:
– Сударь, прежде всего осмотрите мою жену, очень прошу вас, а потом… Ах, Боже мой, потом мы будем с вами говорить сколько пожелаете.
– Хорошо, – согласился доктор, – но прежде еще несколько слов.
– Покороче.
– Ваше имя Эусеб ван ден Беек?
– Да, сударь.
– Вы родом из Харлема?
– Я только что вам это сообщил.
– Вы сын Якобуса ван ден Беека?
– Сын Якобуса ван ден Беека.
– Супруг Эстер Мениус, дочери Вильгельма Мениуса, нотариуса, и Жанны Катрин Мортье, его жены?
– Совершенно верно, сударь, вы как будто метрическую книгу читаете.
– … сестры, – продолжал доктор, – некоего Базиля Мортье, который в двадцать лет сел на корабль, покинул Харлем и больше туда не возвращался?
– Нет, сударь, никогда больше. Вы знали этого дядю моей жены, с которым сама она едва знакома?
– Я слышал о нем и даже знал его лично. Он был контрабандистом, морским разбойником, пиратом. Не знаю, в каком уголке земного шара он был повешен.
– Ах, Боже мой!
– О, не жалейте его, это был отъявленный негодяй.
– Доктор, он был дядей моей бедной Эстер. Простите меня, но я попрошу вас не говорить дурно о столь близком нашем родственнике. Мы, голландцы старого закала, воспитаны в уважении к семье.
– В самом деле, вы удивительный молодой человек. Так не станем больше говорить о вашем дяде.
– Нет, доктор, нет. Но, Бога ради, поговорим о его племяннице.
– Странно, – произнес Базилиус, говоривший будто бы сам с собой, но достаточно громко для того, чтобы Эусеб его слышал, – поразительно, с какой настойчивостью человек устремляется навстречу своему несчастью.
– Так я говорил вам… – снова начал Эусеб, не обращая внимания на эту своего рода реплику a parte.[2]
Но доктор нетерпеливо перебил его:
– Ох, Господи! Да, вы сказали мне, что перед вашим отъездом из Харлема у вашей жены начался кашель, продолжительность припадков которого вас тревожила.
Эусеб хотел продолжать, но доктор не дал ему говорить.
– О, дайте мне рассказать вам дальнейшее, – продолжил он, – и вы увидите, что незачем надоедать мне, сообщая вещи, известные мне лучше, чем вам.
– Лучше, чем мне? – воскликнул удивленный Эусеб.
– Ей-Богу, вы сами в этом убедитесь. Остановите меня, если я ошибусь, но, черт возьми, не прерывайте меня ни в каком другом случае.
– Я слушаю вас, – ответил Эусеб, удивляясь еще больше.
– Так вот, первые дни плавания крайне утомили ее. Она вынуждена была оставаться в постели: кашель не прекращался, появилась обильная мокрота…
– Да, доктор, так оно и было.
– Тогда дайте мне продолжить. На пятый день после отплытия у вашей жены началось сильное кровохарканье, иначе говоря, настоящая гемоптизия; ее остановили с помощью сиропа Фаулера, но ваша жена продолжала жаловаться на жестокую боль в груди; кашель сделался слабее, но пищеварение прекратилось. В таком состоянии ваша жена находилась четыре или пять дней, после чего, почувствовав себя лучше, решила, что она уже здорова. Неделей позже, поскольку погода была ясной, а море – спокойным, больная достаточно окрепла для того, чтобы подняться на палубу и прогуливаться, опираясь на вашу руку. Боли в груди и в животе утихли, появился аппетит, к вашей жене вместе с ним частично вернулись силы и полностью – ее молодость и веселость. Когда после пяти месяцев плавания вы высадились на берег в Батавии, ни вы, ни она больше не думали о туберкулезе легких, словно эта болезнь никогда не существовала на земле, оставшись в ладони Господа, которому мы обязаны всеми дарами, как надежда осталась на дне сосуда Пандоры.
– Да, да, совершенно верно, доктор! – воскликнул Эусеб, куда более напуганный знаниями доктора, чем богохульством, которое тот только что проронил, сопроводив его тем сатанинским смехом, какой мы уже замечали у него.
– Дождитесь финала, чтобы начать аплодировать, черт возьми! Как все великие артисты, я приберег свой эффект. Через два дня после вашего прибытия вы возвращались от негоцианта, которому вас рекомендовали и у которого вы должны были начать служить с ближайшего понедельника; ваша жена стала жаловаться на боль в пояснице и на усталость в руках и ногах. В тот же вечер возобновился кашель, на следующий день появилась мокрота; туберкулы продолжали свое разрушительное дело, углубляя каверны под воздействием влажной жары. При выслушивании было обнаружено, что у вашей жены уже нет или почти нет правого легкого и задето левое; у нее открылась, как мы говорим, скоротечная чахотка. Дыхание делалось все более затрудненным и свистящим, кровообращение – ускоренным и неровным; пульс доходил до девяноста пяти или ста ударов в минуту, а по ночам поднимался даже до ста десяти и ста пятнадцати; утром грудь, лицо и руки покрывал холодный липкий пот; силы убывали, разум угасал, чувства притуплялись. Любовь – даже любовь, то проявление жизни, которое, казалось, должно было пережить вашу жену, – покинула ее; в течение нескольких дней эта еще недавно такая веселая и любящая юная женщина превратилась в старуху, безразличную даже к проявлению вашей нежности, равнодушную ко всему, вплоть до самой смерти. Все происходило именно так?
– Да, доктор, в точности; но как вы могли узнать?..
– Ну-ну, – ответил доктор. – Правду сказать, мне бывает смешно, когда в ваших прелестных европейских романах легочных больных изображают розовыми и слащавыми, словно те ужасные пастели, которые у французов считаются живописью. Очаровательные больные дамы, в розовом атласном пеньюаре и чепчике с оборками, вдыхающие воздух Ниццы или пьющие целебные воды, изящно кашляют и благородно падают в обморок. Скажите, скажите же, метр ван ден Беек, в последние дни похожа была ваша Эстер на этих хорошеньких чахоточных?
– Увы! Нет, доктор; но, несмотря на изменения, происшедшие в ней из-за болезни, я не стал меньше любить ее; помогите ей, вылечите, спасите ее!
– Дорогой друг, – произнес доктор со своим пугающим смехом, – я и сам бы рад был сделать это, но мы немного опоздали.
– Как немного опоздали? – воскликнул Эусеб, растерянно и в страхе глядя на врача. – Вы сказали, что уже поздно?
– Без всякого сомнения; ваша жена испустила последний вздох в половине девятого вечера, как раз в ту минуту, когда вы в первый раз постучали в дверь моего дома.
Эусеб страшно закричал и бросился к постели.
Тело Эстер уже было сковано ледяным холодом и той отверделостью, которая на языке науки называется трупным окоченением.
– О, это невозможно, это невозможно! – вопил несчастный молодой человек; упав на постель, он сжимал жену в объятиях и прильнул к ее уже застывшим губам. – Ах, Боже мой, Боже мой! Доктор, помогите же мне! Она не мертва, она не может умереть вот так, не простившись со мной! А я так спокойно слушал все, что говорил этот человек. Эстер! Эстер! О доктор, умоляю вас; я оставил ее спокойной, улыбающейся, она сказала мне, что с самого начала своей болезни не чувствовала себя так хорошо!
– Это всегда так бывает, бедный мальчик, – объяснил врач. – Жизнь должна улыбнуться тем, кому приходится с ней расстаться.
III. Сделка
Убедившись, что его жена мертва, Эусеб впал в страшное отчаяние: он кричал так, что мог разорвать самое бесчувственное сердце, падал на безжизненное тело, стараясь его согреть, рвал на себе волосы и ломал руки, поднимая их к небу.
Доктор, сидя все на том же табурете, совершенно спокойно набивал и раскуривал свою трубку; он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения, чтобы остановить этот взрыв горя.
Понемногу боль Эусеба утихла или, вернее, погасла, словно слишком сильное пламя, поглотившее всю свою пищу.
После особенно сильного нервного припадка глаза молодого человека, до сих пор сухие и горящие, увлажнились; он заплакал, и слезы облегчили ему душу.
Он сел на край кровати, откинул несколько волосков, упавших от его беспорядочных движений на лицо умершей, заботливо уложил ее светлые косы, взял ее руку в свою и, повернувшись к доктору, произнес:
– Ах, сударь, вы не можете знать, что я потерял! Представьте себе, что мы росли вместе, жили по соседству; я делил с ней все ее игры, как позже она разделила со мной все мои невзгоды. Она была до того хорошенькая в десять лет и уже тогда звала меня своим муженьком; у нее было так много светлых локонов, что их никогда не удавалось спрятать под маленький миткалевый чепчик, и до того прекрасные голубые глаза, что незабудки, сорванные нами на берегу ручья, когда я плел из них венки, казались бледными на ее головке. О, кто мог сказать, что так скоро я увижу ее бледной, холодной, мертвой! О Господи, Господи! Моя Эстер! – воскликнул Эусеб и снова разрыдался.
– Это всеобщий закон, мой мальчик, – сказал доктор, с наслаждением втягивая опиумный дым. – Мы расцветаем, чтобы увянуть, и растем, чтобы попасть под косу; счастливы те, кого смерть скосила в расцвете красоты, молодости, пока они еще наполняли воздух вокруг себя благоуханием, а не тогда, когда осенний ветер засушил их на корню и зима засыпала снегом. Вы видите, каким я стал, но ведь и я был хорошеньким мальчиком, прелестным розовым и белокурым ребенком. Сейчас трудно это представить себе, не правда ли?
И он разразился своим резким смехом, так странно прозвучавшим у одра смерти.
Содрогнувшись, Эусеб встал, но почти сразу сел снова, почти упал, словно ноги подкашивались и не держали его.
– Боже мой, Боже мой, – в изнеможении проговорил он, – какая страшная судьба уготована мне!
– В добрый час, – пожелал доктор. – Поплачьте над собственной участью, дружок; дайте в вашей скорби свободно излиться человеческому эгоизму, признайте, что не о жене своей горюете, но жалеете себя самого, и вы будете правы.
– Эгоизм, сударь! Вы называете мои страдания эгоизмом! Но этот эгоизм убьет меня; я чувствую, что не смогу пережить ту, которую так любил!
– Тем лучше для вас, мой юный друг, тем лучше, – ответил доктор. – И если вы сдержите слово, я не стану вас жалеть, как не жаль мне молодой женщины, только что расставшейся с жизнью, успев узнать лишь прекрасные ее стороны и не изведав горя, низостей и разочарований, ожидающих в этом мире каждого; уснув, она продолжает грезить, если только в потустороннем мире грезы все-таки существуют.
Эусеб ван ден Беек молча закрыл лицо руками. Время от времени слышались его рыдания, которым вторил смешок доктора.
Неожиданно Эусеб вскочил на ноги: этот смех терзал его сердце, он не мог его больше слышать.
– Сударь, – обратился он к врачу, – мне крайне неприятно делать выговор человеку вашего возраста и вашей профессии, но, право же, все то время, пока вы были здесь, вы непрестанно выказывали неуважение к моему горю.
– В моем возрасте, дружок, – спокойно сказал Базили-ус, – люди не меняют своих привычек, а я привык уважать лишь то, что мне понятно.
– Что ж, я отвечу тем же, сударь, – глаза Эусеба были сухи, голос сделался пронзительным, – и не стану терять времени на то, чтобы отыскивать причины вашего удивительного скептицизма. Извольте выйти отсюда: у меня есть только эта комната для того, чтобы молиться, а ваше присутствие иссушает мои слезы, оно ненавистно и нестерпимо для меня.
Доктор хладнокровно достал висевшие на шее на тяжелой серебряной цепи большие часы и откинул двойную крышку.
– Благодарность, о которой вы недавно говорили и которой я удостоился за то, что бескорыстно побеспокоил себя ради особы мне незнакомой, просуществовала ровно один час сорок семь минут. Эх-хе-хе, молодой человек, это немало, я встречал и менее продолжительную признательность.
Подобрав брошенную им в угол шляпу из вощеной кожи, доктор подтянул просмоленные штаны и направился к двери.
Возражение доктора показалось Эусебу резким, но не лишенным справедливости, и он невольно сделал движение, словно хотел удержать Базилиуса.
Доктор, заметив жест Эусеба, остановился у порога и сказал:
– Только что я слышал, как вы клялись не пережить вашей жены. В тех случаях, когда речь идет не о признательности, слову честного человека можно верить, а вы считаете себя честным человеком. Действительно ли вы готовы, раз ваша жена мертва, уйти вслед за ней?
– Да, – мрачно подтвердил Эусеб.
– Тогда я докажу вам, молодой человек, что мое расположение к вам, каким бы необъяснимым оно вам ни казалось, – не пустой звук. Возьмите этот кинжал; это малайский крис, отравленный знаменитым американским ядом, о котором вы несомненно слышали; он называется кураре. Простого укола, нанесенного в любой части тела так, чтобы пролилась кровь, достаточно для мгновенной и безболезненной смерти. Бери кинжал, Эусеб ван ден Беек, бери, и на этот раз я снова избавляю тебя от необходимости благодарить.
– Спасибо, – ответил Эусеб, схватившись за лезвие кинжала.
Доктор, сидя все на том же табурете, совершенно спокойно набивал и раскуривал свою трубку; он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения, чтобы остановить этот взрыв горя.
Понемногу боль Эусеба утихла или, вернее, погасла, словно слишком сильное пламя, поглотившее всю свою пищу.
После особенно сильного нервного припадка глаза молодого человека, до сих пор сухие и горящие, увлажнились; он заплакал, и слезы облегчили ему душу.
Он сел на край кровати, откинул несколько волосков, упавших от его беспорядочных движений на лицо умершей, заботливо уложил ее светлые косы, взял ее руку в свою и, повернувшись к доктору, произнес:
– Ах, сударь, вы не можете знать, что я потерял! Представьте себе, что мы росли вместе, жили по соседству; я делил с ней все ее игры, как позже она разделила со мной все мои невзгоды. Она была до того хорошенькая в десять лет и уже тогда звала меня своим муженьком; у нее было так много светлых локонов, что их никогда не удавалось спрятать под маленький миткалевый чепчик, и до того прекрасные голубые глаза, что незабудки, сорванные нами на берегу ручья, когда я плел из них венки, казались бледными на ее головке. О, кто мог сказать, что так скоро я увижу ее бледной, холодной, мертвой! О Господи, Господи! Моя Эстер! – воскликнул Эусеб и снова разрыдался.
– Это всеобщий закон, мой мальчик, – сказал доктор, с наслаждением втягивая опиумный дым. – Мы расцветаем, чтобы увянуть, и растем, чтобы попасть под косу; счастливы те, кого смерть скосила в расцвете красоты, молодости, пока они еще наполняли воздух вокруг себя благоуханием, а не тогда, когда осенний ветер засушил их на корню и зима засыпала снегом. Вы видите, каким я стал, но ведь и я был хорошеньким мальчиком, прелестным розовым и белокурым ребенком. Сейчас трудно это представить себе, не правда ли?
И он разразился своим резким смехом, так странно прозвучавшим у одра смерти.
Содрогнувшись, Эусеб встал, но почти сразу сел снова, почти упал, словно ноги подкашивались и не держали его.
– Боже мой, Боже мой, – в изнеможении проговорил он, – какая страшная судьба уготована мне!
– В добрый час, – пожелал доктор. – Поплачьте над собственной участью, дружок; дайте в вашей скорби свободно излиться человеческому эгоизму, признайте, что не о жене своей горюете, но жалеете себя самого, и вы будете правы.
– Эгоизм, сударь! Вы называете мои страдания эгоизмом! Но этот эгоизм убьет меня; я чувствую, что не смогу пережить ту, которую так любил!
– Тем лучше для вас, мой юный друг, тем лучше, – ответил доктор. – И если вы сдержите слово, я не стану вас жалеть, как не жаль мне молодой женщины, только что расставшейся с жизнью, успев узнать лишь прекрасные ее стороны и не изведав горя, низостей и разочарований, ожидающих в этом мире каждого; уснув, она продолжает грезить, если только в потустороннем мире грезы все-таки существуют.
Эусеб ван ден Беек молча закрыл лицо руками. Время от времени слышались его рыдания, которым вторил смешок доктора.
Неожиданно Эусеб вскочил на ноги: этот смех терзал его сердце, он не мог его больше слышать.
– Сударь, – обратился он к врачу, – мне крайне неприятно делать выговор человеку вашего возраста и вашей профессии, но, право же, все то время, пока вы были здесь, вы непрестанно выказывали неуважение к моему горю.
– В моем возрасте, дружок, – спокойно сказал Базили-ус, – люди не меняют своих привычек, а я привык уважать лишь то, что мне понятно.
– Что ж, я отвечу тем же, сударь, – глаза Эусеба были сухи, голос сделался пронзительным, – и не стану терять времени на то, чтобы отыскивать причины вашего удивительного скептицизма. Извольте выйти отсюда: у меня есть только эта комната для того, чтобы молиться, а ваше присутствие иссушает мои слезы, оно ненавистно и нестерпимо для меня.
Доктор хладнокровно достал висевшие на шее на тяжелой серебряной цепи большие часы и откинул двойную крышку.
– Благодарность, о которой вы недавно говорили и которой я удостоился за то, что бескорыстно побеспокоил себя ради особы мне незнакомой, просуществовала ровно один час сорок семь минут. Эх-хе-хе, молодой человек, это немало, я встречал и менее продолжительную признательность.
Подобрав брошенную им в угол шляпу из вощеной кожи, доктор подтянул просмоленные штаны и направился к двери.
Возражение доктора показалось Эусебу резким, но не лишенным справедливости, и он невольно сделал движение, словно хотел удержать Базилиуса.
Доктор, заметив жест Эусеба, остановился у порога и сказал:
– Только что я слышал, как вы клялись не пережить вашей жены. В тех случаях, когда речь идет не о признательности, слову честного человека можно верить, а вы считаете себя честным человеком. Действительно ли вы готовы, раз ваша жена мертва, уйти вслед за ней?
– Да, – мрачно подтвердил Эусеб.
– Тогда я докажу вам, молодой человек, что мое расположение к вам, каким бы необъяснимым оно вам ни казалось, – не пустой звук. Возьмите этот кинжал; это малайский крис, отравленный знаменитым американским ядом, о котором вы несомненно слышали; он называется кураре. Простого укола, нанесенного в любой части тела так, чтобы пролилась кровь, достаточно для мгновенной и безболезненной смерти. Бери кинжал, Эусеб ван ден Беек, бери, и на этот раз я снова избавляю тебя от необходимости благодарить.
– Спасибо, – ответил Эусеб, схватившись за лезвие кинжала.
