Страница:
На средних галерах по каждому борту располагались от двадцати пяти до тридцати гребцов. Длина и тяжесть весла были такими, что сил одного человека не хватало. Поэтому каждое весло обслуживалось тремя-четырьмя гребцами. При маневрировании во время нападения или при уходе от погони, когда шансы на успех могла иметь лишь быстрейшая галера, необходимо было обеспечить одповременный толчок и протягивание весел. Вальки были настолько толстыми, что рука не могла обхватить их. Поэтому на них имелись специальные рукоятки.
Один человек был не в состоянии долго выдерживать невероятно тяжелую работу с веслом. Поэтому одновременно в действии находилась лишь треть всех гребцов. На тесных, переполненных солдатами галерах не хватало места для резервной команды гребцов.
Иной раз в морском бою – во время преследования или при уходе от погони – приходилось грести во всю мочь. В этом случае, чтобы заставить команду выдержать непомерное напряжение, надсмотрщики действовали попеременно «то кнутом, то пряником». Гребцам прямо в рот засовывали смоченные в вине ломти хлеба. Тех, кто сдавал, пороли плетью.
И все же без какого-то людского резерва на галере было не обойтись: следовало считаться с убылью гребцов. А заменить обессилевшего или мертвого галерника солдатом сразу было невозможно, так как для работы с веслом требовалась не только физическая сила, но и умение, и чувство ритма, достигаемые лишь с помощью постоянных упражнений.
К литературным сведениям, утверждающим, что за отказ грести человека хладнокровно выбрасывали на съедение рыбам, следует относиться с осторожностью. В плавании это было совершенно непозволительно. Где в море найти замену? Людям, которых не могла взбодрить даже плеть, необходимо было давать хотя бы крошечную передышку для восстановления сил.
К гребцам был приставлен специальный полицейский офицер, которого называли «аргузин». Ему подчинялись муситы, заковывавшие гребцов в кандалы, и комит, который с помощью гонга, медных тарелок или горна, а чаще просто своим зычным голосом задавал темп гребле. Кроме того, были еще и субкомиты с плетьми в руках, располагавшиеся в проходе между банками.
Но и галерные рабы тоже делились на ранги. Самую низкую категорию составляли арестанты. Они были острижены наголо, на правом плече имели клеймо и все время оставались прикованными. Затем следовали военнопленные, которым для отличия от низшей группы на затылке оставляли клочок волос. Третью группу составляли купленные у Порты турки. На голове у них оставалась длинная прядь волос. Считаясь лучшими гребцами, они получали то же содержание, что и вольнонаемные. До сих пор в немецком языке сохранилось выражение «силен, как турок».
Высшую категорию гребцов составляли вольнонаемные, впрочем, эта группа была и самой малочисленной. Действительно, надо было обладать юмором висельника, чтобы по доброй воле наняться на галеры! Чаще всего это были галерные каторжники, отбывшие свой срок, но после многих лет унижений не умевшие воспользоваться свободой для какого-нибудь ремесла. Они оставались арестантами, которым возврат в общество был закрыт.
К этой категории относились также неудачники и бродяги, мечтавшие о постоянном куске хлеба, или преступники, чувствовавшие себя на галерах в надежном укрытии от полицейских ищеек. Да и права вольнонаемных гребцов для них кое-что значили: угодив на галеры для отбытия наказания, они лишились бы даже этого. Привилегии вольнонаемных состояли еще и в том, что их сажали на цепь только во время боевых действий, и они имели право по истечении некоторого времени уволиться. Кроме того, они пользовались лучшим обхождением и даже могли дослужиться до должности надсмотрщика, так сказать, сделать карьеру.
В качестве внешнего отличия, отмечавшего их более высокое положение, вольнонаемные имели право носить бороду и вначале сохраняли даже волосы на голове. Позже из гигиенических соображений и на их головах безжалостно хозяйничали ножницы. Тогда же и возникло выражение «Лысый, как череп галерного каторжника».
Вольнонаемные вовсе не относились к числу лучших гребцов, но в военно-морском флоте из чисто психологических соображений придерживались взгляда, что на каждой галере следует иметь таких людей. Съевшие собаку в искусстве управления людьми командиры знали, как использовать ту человеческую слабость, о которой Б. Травен писал: «Остановит на ком из них благосклонный взор надсмотрщик, прогуливающийся с плетью мимо гребных банок, и счастливец млеет от восторга, будто сам император навесил ему орден на грудь». Так что создавать ранговые различия и образцы для подражания стоило даже у самого входа в преисподнюю. И при продвижении по службе тоже руководствовались испытанным принципом: нет лучшего, то есть наиболее жестокого, надсмотрщика за рабами, чем вышедший из их же среды. Что касается одежды, то обычно во время гребли галерники сидели на скамьях голыми. Все равно и штаны, и рубаха, и куртка вскоре развалились бы, разъеденные потом. В баньо и на парадах они носили ярко-красные куртки и шапки. С того времени и сохранилась красная шапка французского каторжника. Пожизненно осужденных можно было отличить по зеленым шапкам.
Отнюдь не случайно галерный корпус, подобно кавалерии, рассматривался как арена деятельности, приличествующая званию и благородному происхождению офицеров.
Именно такие портовые города, как Марсель и Тулон, на которые базировались галерные эскадры, считались во Франции XVII и XVIII веков центрами изящества и снобизма, хотя аромат в этих гаванях был отнюдь не самым приятным. Однако для юных грандсеньоров в сказочно великолепных мундирах это ничего не значило, к тому же от каждого настоящего поместного дворянина и должно было пахнуть конюшней. Известно, впрочем, что галерные офицеры сверх всякой меры пользовались табаками и духами. Не иначе как для притупления обоняния.
И все же офицеры с других кораблей смотрели на своих коллег, в жилах которых текла голубая кровь, несколько свысока. Они не считали их моряками. Действительно, на галерах для судовождения не требовалось никаких особенных мореходных знаний. Эти суда плавали лишь у берегов и при плохой погоде быстро скрывались в ближайшей гавани. От их командиров требовалось только умение быть лихими рубаками.
Галерники, а вместе с ними и низший разряд моряков исчезли со сцены после четырех тысяч лет существования по причинам, не имеющим ничего общего с гуманностью. Сам папа владел несколькими галерами, не видя в том ничего предосудительного. Если его что и заботило, так это обращение галерных рабов-иноверцев в христианство.
Эпоха высокого искусства гребли ушла в прошлое потому, что появились более быстрые парусные корабли, которые к тому же могли нести и большее количество пушек. На новых кораблях гребля оказалась просто ненужной. Ведь на галерах, посади на их гребные банки хоть атлетов, скорость более четырех узлов выжать было невозможно.
Низкие галеры уступали высокобортным линейным кораблям и в ближнем бою. Тактика абордажа и продолжения боя на палубе вражеского корабля сказала здесь решающее слово. Однако и после исчезновения галерного рабства для моряка не наступил золотой век. Злой дух галер вовсе не умер с уходом этого типа судов. Напротив, в измененной форме, он прочно обосновался на парусных кораблях, и не только в образе недоброй памяти девяти-хвостой плетки, которая без особых размышлений была принята и здесь на вооружение как средство наказания.
Естественно, на парусниках матросы не могли выполнять свою работу закованными в цепи. Однако режим оставался жестоким до крайности. Даже такой прогрессивный мореплаватель, как капитан Джеймс Кук, которому моряки многим обязаны, во время своего второго кругосветного плавания четырнадцать дней продержал одного из матросов закованным в кандалы.
По-прежнему очень трудно было комплектовать команды кораблей. Только наивные романтики, отчаянные подростки да парни, у которых земля горела под ногами, добровольно нанимались на морские парусники. Большую же часть команды набирали из авантюристов и всякого сброда, главным образом из людей, вынуждаемых обстоятельствами либо завербованных обманом – «зашанхаенных» [07].
Венецианцы пробовали решить эту проблему, потворствуя низменным инстинктам матросов. Их капитаны в чужеземных гаванях на многое смотрели сквозь пальцы. Участники крестовых походов, матросы с нефов крестоносцев, без зазрения совести грабили «землю обетованную». Еще более гнусно вели себя «дети моря», или «трюмная челядь», как называли простых матросов на ганзейских кораблях. Скандинавские порты, например, подвергались разграблению. Налагая контрибуцию, ганзейцы не останавливались перед угрозой сжечь город дотла. Кроме того, в ожидании попутного ветра мореходы неделями болтались в порту без дела. Время они убивали в попойках, драках, скандальных историях с женщинами. Поэтому моряк пользовался у населения весьма недоброй репутацией.
Чтобы привлечь матросов на свои корабли, ганзейцы даже обещали им участие в прибылях. В соответствии с Любекским морским правом 1299 года судовладелец должен был авансировать матросам некоторую сумму для покупки товаров. В Амальфи с XII века существовала так называемая колонна, устанавливавшая долю участия простого морского люда в выручке от состоявшегося рейса. В Каталонском собрании узаконений XIII века говорится о «Морских правилах», где закреплено следующее положение: фрахт есть мать заработка. В соответствии с этим положением жалованье команды поднималось или снижалось вместе с изменением стоимости погруженных товаров. В ганзейском судоходстве вначале также существовали аналогичные правила.
Однако отношения партнерства, установившиеся было на судах между начальством и командой, вскоре уступили место жесткому авторитарному режиму. Слишком уж часто на ганзейских кораблях команда распутничала и выходила из повиновения. Из-за угрозы пиратских нападений у каждого моряка имелось оружие. Один из указов того времени гласил: «Тот, кто злоупотребит оружием или уснет на вахте, должен быть протянут под килем».
С окончанием участия команды в прибылях на судах началась социальная дифференциация. Противоречия между интересами судовладельца и купца, представителями которых на борту были капитан и офицеры, и простого корабельного люда очень обострились.
В отчетах о ганзейских сделках с конца XIV века очень часто говорится о трениях и спорах на кораблях, а также о случаях дезертирства. В качестве контрмеры и был введен тот жестокий режим, который сохранялся в течение всей эпохи парусного флота: притеснения, драконовские штрафы, тяжелая работа, муки и растущее сопротивление наемного рабочего на судах. О галерах напоминают прежде всего приемы, с помощью которых набирались команды кораблей начала трансокеанских парусных плаваний. Своего рода лейтмотивом этой эпохи стали следующие слова из одного испанского указа 1492 года: «Настоящим мы гарантируем безопасность всем и каждому в отдельности из тех, кто плавает совместно с вышеозначенным лицом. Ни их телу, ни их имуществу не может быть нанесен ущерб, также они не могут быть подвергнуты штрафу за преступление, которое они совершили до сего дня, каким бы оно ни было тяжким».
Вновь распахнулись ворота тюрем, чтобы дать кораблям матросов. Теперь это были уже не галеры, а чистые парусники – первые корабли первооткрывателей. Но даже трехмесячный аванс самого высокого жалованья и перспектива озолотиться за океаном не могли заманить на борт достаточное количество добровольцев. Страх был сильнее.
Он имел основания, ибо дорога Великих гедграфических открытий выстлана костями моряков. И не случайно народная молва назвала «берегом слез» место на реке Тахо, откуда отправлялись в трансокеанские экспедиции португальские парусники и куда они возвращались через несколько лет с поломанными мачтами и изорванными в клочья парусами, если только им вообще удавалось вернуться.
Еще несколько сот лет тюрьмы оставались вербовочными пунктами для корабельных команд. Во Франции и Англии тот, кто записывался на морскую службу, полностью освобождался от отбывания наказания. Примечательно, что далеко не все каторжники выбирали эту возможность. Головорезы и висельники на палубе! Георг Форстер [08], три года проплававший с Куком вокруг света, в одном месте своего отчета об этом путешествии говорит о «безалаберности и легкомыслии, которые с полным основанием можно поставить в вину морякам». В другом месте этих же заметок говорится о толпе неотесанных матросов, первобытные нравы которых способны вызвать отвращение и омерзение: «Их тяга к чувственности вырождается в грязный порок, а легкомыслие нередко ведет к преступлениям».
К мало лестным прозвищам, которыми народ наделял представителей этой профессии, в XVII веке добавилось еще одно – «янхагель». Оно произошло от имени Ян Хагель, как в то время в Нидерландах называли любого матроса из-за излюбленного матросского ругательства «алле хагель!», что приблизительно означает «разрази меня гром!». В современном немецком языке «янхагель» означает «чернь».
Известна старая немецкая поговорка: «Кто ни к чему не пригоден на суше, может еще стать моряком».
Полагая, что с бродягами можно обращаться по своему усмотрению, военно-морские власти во Франции и Англии долгое время пополняли за их счет личный состав флота.
В первой половине XVII века Ришелье предпринял попытку создать французский атлантический флот. Для укомплектования кораблей личным составом он приказал войскам закрыть выходы из портовых городов и гаваней, обыскать притоны и бордели и всех задержанных мужчин отправить служить на флот. О том, какой режим царил на этих кораблях, можно судить по одному из специальных указов, изданных Ришелье. В соответствии с этим указом стоило лишь ближайшему начальнику пожаловаться офицеру на плохое поведение матроса, как тому грозила веревка. В Англии положение было таким же. Молодой Джеймс Уатт, находившийся в обучении у одного лондонского часовщика, чудом ускользнул из лап команды, проводившей насильственный рекрутский набор. Флот был пугалом, которым многие отцы грозили своим строптивым сыновьям.
Правда, принудительное комплектование имело один недостаток: при первой же возможности вся команда дезертировала с корабля. Чтобы положить этому конец, во Франции во второй половине XVII века Кольбер ввел в действие особый список личного состава военно-морского флота. В соответствии с этим списком всех матросов и рыбаков, чей год рождения подошел, хватали и посылали на службу к королю. Каждые пять лет, до достижения определенного возраста, их призывали на один год для прохождения военно-морской службы. В качестве компенсации между призывами выплачивалось половинное жалованье. Допускалась также добровольная служба в торговом флоте. Здесь и заработок был выше, и служба разнообразнее.
В конце концов дошло до того, что на флот стали посылать подростков, почти детей, используя при этом неосведомленность и легковозбудимый интерес молодежи. Корабельный юнга и морской кадет появились на свет по тем же причинам, по которым позже в фабричной преисподней эпохи раннего капитализма был введен детский труд как средство разрешения проблемы недостатка рабочей силы. Начало этому положила Португалия в конце XV столетия. Васко да Гаме было всего одиннадцать лет, когда он поднялся на борт каравеллы! Некоторое время спустя в Англии появились двенадцатилетние морские кадеты. В гаванях Северной Америки, Голландии и Германии точно так же мальчики мужали очень рано.
На смену галере пришли неф, когг, каравелла, фрегат и, наконец, океанский пароход. А моряков все так, же, как и прежде, не хватает. В эпоху клиперов капитаны пытались набирать экипажи, спаивая матросов и уводя их на корабль силой – «зашанхаивая». Из-за чрезвычайно развитого парусного вооружения клиперы требовали большого количества людей. И в наше время, чтобы укомплектовать команды, судовладельцы сулят морякам сущий рай. И это действительно рай по сравнению с теми условиями, которые были на судах всего полтора столетия назад.
Однако даже при возросшем комфорте и высокой заработной плате обеспечить кадрами корабельный состав мирового коммерческого флота довольно трудно. Уже давно команды не комплектуются из рабов, висельников, каторжников, пиратов и легкомысленных подростков. И все же от старой проблемы кое-что осталось. И это «кое-что» требует дальнейшей механизации судовых работ. Этот процесс начался одновременно с превращением управляющегося с веслом и парусом матроса в техника и машиниста.
Наступит день, когда обслуживание корабельных механизмов полностью возьмут на себя машины. Но еще долго человечество будет помнить о делах и страданиях тех людей, которые когда-то побеждали ураганы, терпели жажду и голод во время томительных безветрии и вверяли свою судьбу плавающим деревянным клеткам, – людей, о которых Б. Травен сказал:
Глава вторая
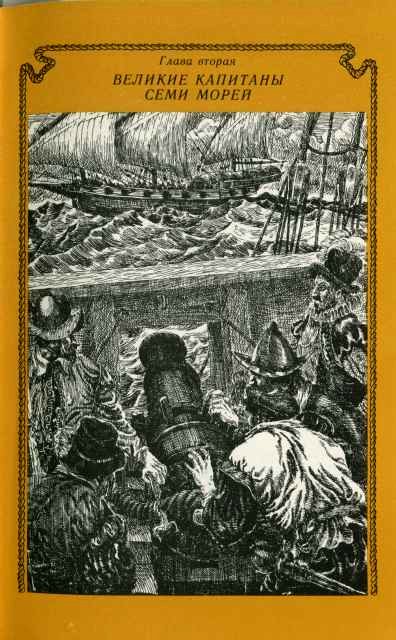

Из древности пришли к нам имена первых капитанов (слово «капитан» происходит от латинского «сарut» , что означает «глава, начальник») – египтянина Кнемхотепа и грека Гиппалоса. Кнемхотеп был кормчим на службе у царицы Хатшепсут во 2-м тысячелетии до н. э. Одиннадцать раз, как говорит об этом надпись на могильном камне, выкопанном из песка в пустыне возле Элефантины, пересекал он Красное море. Что касается греческого мореплавателя, то ему приписывается заслуга создания древнейшей муссонной лоции для Индийского океана.
Здесь речь идет о мореплавателях начального периода торгового судоходства.
В древние времена вся власть на корабле принадлежала кормчему. Он не только задавал курс кораблю и назначал темп гребли, команда должна была подчиняться также и прочим его указаниям.
Только торговое судоходство положило конец объединению командира и штурмана в одном лице кормчего, выдвинув при этом фигуру капитана как первого человека на судне. Кроме того, на судне мог находиться и его владелец, который хоть и редко, но все же выходил в море на своем корабле.
У древнегреческих мореплавателей, пересекавших Понт Эвксинский, чтобы на черноморских берегах грузить зерно для Афин, был даже адмирал, которого называли триархом. Само слово «адмирал» происходит от арабских слов «амир-аль-бахр»: «амир» – повелитель, владыка, «бахр» – море. Он командовал отрядом судов, эскадрой кораблей. Для защиты от морских разбойников суда в дальних рейсах объединялись в караваны. О триархе Аполлодоре мы знаем из материалов судебного разбирательства, которому он был подвергнут в 362 году до н. э. в Геллеспонте [01], где должен был принять под свое начало отряд судов, груженных зерном.
Из описания этого плавания видно, что и в античные времена адмирал не был всемогущим. Возле фракийского побережья несколько судов из состава каравана должны были отделиться и следовать в Стирну. Для защиты, а также для буксировки в случае штилевой погоды Аполлодор придал им несколько гребных кораблей. Однако непогода вынудила этот отряд стать на якорь близ одного острова. Прошло несколько недель. Воспользовавшись создавшимся положением, матросы самовольно покинули корабли, ибо не было удовлетворено их требование о выплате жалованья. Не исключено, что при этом они как-то компенсировали свои убытки за счет перевозимых товаров.
В древнегреческой литературе упоминаются также эмпорос и науклерос. Эмпоросом назывался купец, которому принадлежал только груз, судно не было его собственностью, в то время как науклеросу принадлежало и то и другое, и сам он большей частью находился на судне. Начиная с V века до н. э. под науклеросом чаще всего понимали капитана, который сам был владельцем судна и перевозил грузы как за свой собственный, так и за чужой счет.
Хотя сведения о корабельных начальниках, сохранившиеся с античных времен, весьма скудны (например, о финикийских капитанах мы не знаем почти ничего), из того немногого, чем мы располагаем, совершенно ясно, что профессия капитана относилась к наиболее авантюрным из всех известных в то время профессий. Нигде не существовало большего риска и большей ответственности. Ему вменялось в обязанность доставить судно и груз к месту назначения целым и невредимым. А меж тем в море нетрудно было и заблудиться: навигационные средства у античных моряков были не так уж совершенны. Кроме непогоды капитана подстерегали пиратские нападения и мятежи. Недаром в одной старинной рукописи говорится: «Ни один человек не попадает чаще в трудные положения, чем моряк».
Капитан единолично должен был принимать решение о том, что надо делать в той или иной обстановке. В открытом море он не мог позволить себе, как некоторые сухопутные начальники, прикрыться решением вышестоящего начальства или из страха перед ответственностью вообще уклониться от решения. На море судьбы корабля и людей часто зависят от быстроты и правильности решений, принятых капитаном. Слабовольным людям не место на капитанском мостике. Если же такие капитаны и появлялись, то вскоре они сами оставляли свое место.
Так море стало жестоким полигоном для испытания мужского характера, школой для отсева и отбора лидеров. Поэтому опытных капитанов высоко ценили и за пределами морской службы, нередко приглашая на посты, где для принятия ответственных решений требовалось мужество.
Среди великих мужей этой профессии было немало людей деспотичных и жестоких. Возможно, это объяснялось не только избытком власти, но и социальным происхождением многих моряков. Большинство известных мореплавателей с начала эпохи Великих географических открытий и до конца трансатлантических парусных плаваний происходило из низших слоев населения. Это связано с дурной репутацией, которой пользовалась морская служба в Западной Европе, и отсутствием школ для подготовки морских офицеров. Такого рода училища появились лишь позднее, когда государства, расположенные на Атлантическом побережье, приступили к снаряжению исследовательских экспедиций и созданию торгового и военного флотов. До этого необходимость часто заставляла судовладельцев нанимать капитанами итальянцев-рыбаков или даже пиратов. Другого выбора не было. Голубых кровей галерное офицерство не имело ни малейших способностей к морскому делу и, главное, абсолютно не обладало мореходными знаниями.
Впрочем, эту практику использовали еще римляне. Недостаток собственных квалифицированных моряков заставил императора Августа нанимать для римского флота финикийцев, греков, египтян. Заметьте: нанимать – это были уже не рабы!
Во времена раннего средневековья города-республики Венеция, Генуя и Пиза владели в Европе монополией морской торговли с Востоком. К этому добавлялся и огромный объем перевозок, связанный с крестовыми походами и паломничеством пилигримов в «святые места». О размерах морских транспортов того времени можно судить по ответу венецианского дожа на французский запрос по поводу четвертого крестового похода в начале XIII века: «Мы дадим вам перевозочные суда для доставки 4500 лошадей, 9000 оруженосцев, 4500 рыцарей и 20 000 пехотинцев; и люди, и лошади обеспечиваются съестными припасами на 9 месяцев. Все это будет сделано на том условии, чтобы нам заплатили за каждую лошадь по 4 марки и за каждого человека по 2 марки. Все эти условия мы исполним в течение одного года, считая со дня отплытия из Венеции отправившихся на службу Богу и христианской церкви. Вышесказанное составляет сумму в 85 000 марок. И сверх того мы поставим от себя 50 вооруженных галер из любви к Богу с тем условием, что в течение всего похода от всех завоеваний, которые мы сообща сделаем на море и на суше, – половина нам, а половина вам». В этой связи невольно вспоминаются непомерные требования, которые генуэзец Колумб предъявил испанскому королевскому двору в качестве вознаграждения за руководство первой трансатлантической экспедицией.
Один человек был не в состоянии долго выдерживать невероятно тяжелую работу с веслом. Поэтому одновременно в действии находилась лишь треть всех гребцов. На тесных, переполненных солдатами галерах не хватало места для резервной команды гребцов.
Иной раз в морском бою – во время преследования или при уходе от погони – приходилось грести во всю мочь. В этом случае, чтобы заставить команду выдержать непомерное напряжение, надсмотрщики действовали попеременно «то кнутом, то пряником». Гребцам прямо в рот засовывали смоченные в вине ломти хлеба. Тех, кто сдавал, пороли плетью.
И все же без какого-то людского резерва на галере было не обойтись: следовало считаться с убылью гребцов. А заменить обессилевшего или мертвого галерника солдатом сразу было невозможно, так как для работы с веслом требовалась не только физическая сила, но и умение, и чувство ритма, достигаемые лишь с помощью постоянных упражнений.
К литературным сведениям, утверждающим, что за отказ грести человека хладнокровно выбрасывали на съедение рыбам, следует относиться с осторожностью. В плавании это было совершенно непозволительно. Где в море найти замену? Людям, которых не могла взбодрить даже плеть, необходимо было давать хотя бы крошечную передышку для восстановления сил.
К гребцам был приставлен специальный полицейский офицер, которого называли «аргузин». Ему подчинялись муситы, заковывавшие гребцов в кандалы, и комит, который с помощью гонга, медных тарелок или горна, а чаще просто своим зычным голосом задавал темп гребле. Кроме того, были еще и субкомиты с плетьми в руках, располагавшиеся в проходе между банками.
Но и галерные рабы тоже делились на ранги. Самую низкую категорию составляли арестанты. Они были острижены наголо, на правом плече имели клеймо и все время оставались прикованными. Затем следовали военнопленные, которым для отличия от низшей группы на затылке оставляли клочок волос. Третью группу составляли купленные у Порты турки. На голове у них оставалась длинная прядь волос. Считаясь лучшими гребцами, они получали то же содержание, что и вольнонаемные. До сих пор в немецком языке сохранилось выражение «силен, как турок».
Высшую категорию гребцов составляли вольнонаемные, впрочем, эта группа была и самой малочисленной. Действительно, надо было обладать юмором висельника, чтобы по доброй воле наняться на галеры! Чаще всего это были галерные каторжники, отбывшие свой срок, но после многих лет унижений не умевшие воспользоваться свободой для какого-нибудь ремесла. Они оставались арестантами, которым возврат в общество был закрыт.
К этой категории относились также неудачники и бродяги, мечтавшие о постоянном куске хлеба, или преступники, чувствовавшие себя на галерах в надежном укрытии от полицейских ищеек. Да и права вольнонаемных гребцов для них кое-что значили: угодив на галеры для отбытия наказания, они лишились бы даже этого. Привилегии вольнонаемных состояли еще и в том, что их сажали на цепь только во время боевых действий, и они имели право по истечении некоторого времени уволиться. Кроме того, они пользовались лучшим обхождением и даже могли дослужиться до должности надсмотрщика, так сказать, сделать карьеру.
В качестве внешнего отличия, отмечавшего их более высокое положение, вольнонаемные имели право носить бороду и вначале сохраняли даже волосы на голове. Позже из гигиенических соображений и на их головах безжалостно хозяйничали ножницы. Тогда же и возникло выражение «Лысый, как череп галерного каторжника».
Вольнонаемные вовсе не относились к числу лучших гребцов, но в военно-морском флоте из чисто психологических соображений придерживались взгляда, что на каждой галере следует иметь таких людей. Съевшие собаку в искусстве управления людьми командиры знали, как использовать ту человеческую слабость, о которой Б. Травен писал: «Остановит на ком из них благосклонный взор надсмотрщик, прогуливающийся с плетью мимо гребных банок, и счастливец млеет от восторга, будто сам император навесил ему орден на грудь». Так что создавать ранговые различия и образцы для подражания стоило даже у самого входа в преисподнюю. И при продвижении по службе тоже руководствовались испытанным принципом: нет лучшего, то есть наиболее жестокого, надсмотрщика за рабами, чем вышедший из их же среды. Что касается одежды, то обычно во время гребли галерники сидели на скамьях голыми. Все равно и штаны, и рубаха, и куртка вскоре развалились бы, разъеденные потом. В баньо и на парадах они носили ярко-красные куртки и шапки. С того времени и сохранилась красная шапка французского каторжника. Пожизненно осужденных можно было отличить по зеленым шапкам.
Отнюдь не случайно галерный корпус, подобно кавалерии, рассматривался как арена деятельности, приличествующая званию и благородному происхождению офицеров.
Именно такие портовые города, как Марсель и Тулон, на которые базировались галерные эскадры, считались во Франции XVII и XVIII веков центрами изящества и снобизма, хотя аромат в этих гаванях был отнюдь не самым приятным. Однако для юных грандсеньоров в сказочно великолепных мундирах это ничего не значило, к тому же от каждого настоящего поместного дворянина и должно было пахнуть конюшней. Известно, впрочем, что галерные офицеры сверх всякой меры пользовались табаками и духами. Не иначе как для притупления обоняния.
И все же офицеры с других кораблей смотрели на своих коллег, в жилах которых текла голубая кровь, несколько свысока. Они не считали их моряками. Действительно, на галерах для судовождения не требовалось никаких особенных мореходных знаний. Эти суда плавали лишь у берегов и при плохой погоде быстро скрывались в ближайшей гавани. От их командиров требовалось только умение быть лихими рубаками.
Галерники, а вместе с ними и низший разряд моряков исчезли со сцены после четырех тысяч лет существования по причинам, не имеющим ничего общего с гуманностью. Сам папа владел несколькими галерами, не видя в том ничего предосудительного. Если его что и заботило, так это обращение галерных рабов-иноверцев в христианство.
Эпоха высокого искусства гребли ушла в прошлое потому, что появились более быстрые парусные корабли, которые к тому же могли нести и большее количество пушек. На новых кораблях гребля оказалась просто ненужной. Ведь на галерах, посади на их гребные банки хоть атлетов, скорость более четырех узлов выжать было невозможно.
Низкие галеры уступали высокобортным линейным кораблям и в ближнем бою. Тактика абордажа и продолжения боя на палубе вражеского корабля сказала здесь решающее слово. Однако и после исчезновения галерного рабства для моряка не наступил золотой век. Злой дух галер вовсе не умер с уходом этого типа судов. Напротив, в измененной форме, он прочно обосновался на парусных кораблях, и не только в образе недоброй памяти девяти-хвостой плетки, которая без особых размышлений была принята и здесь на вооружение как средство наказания.
Естественно, на парусниках матросы не могли выполнять свою работу закованными в цепи. Однако режим оставался жестоким до крайности. Даже такой прогрессивный мореплаватель, как капитан Джеймс Кук, которому моряки многим обязаны, во время своего второго кругосветного плавания четырнадцать дней продержал одного из матросов закованным в кандалы.
По-прежнему очень трудно было комплектовать команды кораблей. Только наивные романтики, отчаянные подростки да парни, у которых земля горела под ногами, добровольно нанимались на морские парусники. Большую же часть команды набирали из авантюристов и всякого сброда, главным образом из людей, вынуждаемых обстоятельствами либо завербованных обманом – «зашанхаенных» [07].
Венецианцы пробовали решить эту проблему, потворствуя низменным инстинктам матросов. Их капитаны в чужеземных гаванях на многое смотрели сквозь пальцы. Участники крестовых походов, матросы с нефов крестоносцев, без зазрения совести грабили «землю обетованную». Еще более гнусно вели себя «дети моря», или «трюмная челядь», как называли простых матросов на ганзейских кораблях. Скандинавские порты, например, подвергались разграблению. Налагая контрибуцию, ганзейцы не останавливались перед угрозой сжечь город дотла. Кроме того, в ожидании попутного ветра мореходы неделями болтались в порту без дела. Время они убивали в попойках, драках, скандальных историях с женщинами. Поэтому моряк пользовался у населения весьма недоброй репутацией.
Чтобы привлечь матросов на свои корабли, ганзейцы даже обещали им участие в прибылях. В соответствии с Любекским морским правом 1299 года судовладелец должен был авансировать матросам некоторую сумму для покупки товаров. В Амальфи с XII века существовала так называемая колонна, устанавливавшая долю участия простого морского люда в выручке от состоявшегося рейса. В Каталонском собрании узаконений XIII века говорится о «Морских правилах», где закреплено следующее положение: фрахт есть мать заработка. В соответствии с этим положением жалованье команды поднималось или снижалось вместе с изменением стоимости погруженных товаров. В ганзейском судоходстве вначале также существовали аналогичные правила.
Однако отношения партнерства, установившиеся было на судах между начальством и командой, вскоре уступили место жесткому авторитарному режиму. Слишком уж часто на ганзейских кораблях команда распутничала и выходила из повиновения. Из-за угрозы пиратских нападений у каждого моряка имелось оружие. Один из указов того времени гласил: «Тот, кто злоупотребит оружием или уснет на вахте, должен быть протянут под килем».
С окончанием участия команды в прибылях на судах началась социальная дифференциация. Противоречия между интересами судовладельца и купца, представителями которых на борту были капитан и офицеры, и простого корабельного люда очень обострились.
В отчетах о ганзейских сделках с конца XIV века очень часто говорится о трениях и спорах на кораблях, а также о случаях дезертирства. В качестве контрмеры и был введен тот жестокий режим, который сохранялся в течение всей эпохи парусного флота: притеснения, драконовские штрафы, тяжелая работа, муки и растущее сопротивление наемного рабочего на судах. О галерах напоминают прежде всего приемы, с помощью которых набирались команды кораблей начала трансокеанских парусных плаваний. Своего рода лейтмотивом этой эпохи стали следующие слова из одного испанского указа 1492 года: «Настоящим мы гарантируем безопасность всем и каждому в отдельности из тех, кто плавает совместно с вышеозначенным лицом. Ни их телу, ни их имуществу не может быть нанесен ущерб, также они не могут быть подвергнуты штрафу за преступление, которое они совершили до сего дня, каким бы оно ни было тяжким».
Вновь распахнулись ворота тюрем, чтобы дать кораблям матросов. Теперь это были уже не галеры, а чистые парусники – первые корабли первооткрывателей. Но даже трехмесячный аванс самого высокого жалованья и перспектива озолотиться за океаном не могли заманить на борт достаточное количество добровольцев. Страх был сильнее.
Он имел основания, ибо дорога Великих гедграфических открытий выстлана костями моряков. И не случайно народная молва назвала «берегом слез» место на реке Тахо, откуда отправлялись в трансокеанские экспедиции португальские парусники и куда они возвращались через несколько лет с поломанными мачтами и изорванными в клочья парусами, если только им вообще удавалось вернуться.
Еще несколько сот лет тюрьмы оставались вербовочными пунктами для корабельных команд. Во Франции и Англии тот, кто записывался на морскую службу, полностью освобождался от отбывания наказания. Примечательно, что далеко не все каторжники выбирали эту возможность. Головорезы и висельники на палубе! Георг Форстер [08], три года проплававший с Куком вокруг света, в одном месте своего отчета об этом путешествии говорит о «безалаберности и легкомыслии, которые с полным основанием можно поставить в вину морякам». В другом месте этих же заметок говорится о толпе неотесанных матросов, первобытные нравы которых способны вызвать отвращение и омерзение: «Их тяга к чувственности вырождается в грязный порок, а легкомыслие нередко ведет к преступлениям».
К мало лестным прозвищам, которыми народ наделял представителей этой профессии, в XVII веке добавилось еще одно – «янхагель». Оно произошло от имени Ян Хагель, как в то время в Нидерландах называли любого матроса из-за излюбленного матросского ругательства «алле хагель!», что приблизительно означает «разрази меня гром!». В современном немецком языке «янхагель» означает «чернь».
Известна старая немецкая поговорка: «Кто ни к чему не пригоден на суше, может еще стать моряком».
Полагая, что с бродягами можно обращаться по своему усмотрению, военно-морские власти во Франции и Англии долгое время пополняли за их счет личный состав флота.
В первой половине XVII века Ришелье предпринял попытку создать французский атлантический флот. Для укомплектования кораблей личным составом он приказал войскам закрыть выходы из портовых городов и гаваней, обыскать притоны и бордели и всех задержанных мужчин отправить служить на флот. О том, какой режим царил на этих кораблях, можно судить по одному из специальных указов, изданных Ришелье. В соответствии с этим указом стоило лишь ближайшему начальнику пожаловаться офицеру на плохое поведение матроса, как тому грозила веревка. В Англии положение было таким же. Молодой Джеймс Уатт, находившийся в обучении у одного лондонского часовщика, чудом ускользнул из лап команды, проводившей насильственный рекрутский набор. Флот был пугалом, которым многие отцы грозили своим строптивым сыновьям.
Правда, принудительное комплектование имело один недостаток: при первой же возможности вся команда дезертировала с корабля. Чтобы положить этому конец, во Франции во второй половине XVII века Кольбер ввел в действие особый список личного состава военно-морского флота. В соответствии с этим списком всех матросов и рыбаков, чей год рождения подошел, хватали и посылали на службу к королю. Каждые пять лет, до достижения определенного возраста, их призывали на один год для прохождения военно-морской службы. В качестве компенсации между призывами выплачивалось половинное жалованье. Допускалась также добровольная служба в торговом флоте. Здесь и заработок был выше, и служба разнообразнее.
В конце концов дошло до того, что на флот стали посылать подростков, почти детей, используя при этом неосведомленность и легковозбудимый интерес молодежи. Корабельный юнга и морской кадет появились на свет по тем же причинам, по которым позже в фабричной преисподней эпохи раннего капитализма был введен детский труд как средство разрешения проблемы недостатка рабочей силы. Начало этому положила Португалия в конце XV столетия. Васко да Гаме было всего одиннадцать лет, когда он поднялся на борт каравеллы! Некоторое время спустя в Англии появились двенадцатилетние морские кадеты. В гаванях Северной Америки, Голландии и Германии точно так же мальчики мужали очень рано.
На смену галере пришли неф, когг, каравелла, фрегат и, наконец, океанский пароход. А моряков все так, же, как и прежде, не хватает. В эпоху клиперов капитаны пытались набирать экипажи, спаивая матросов и уводя их на корабль силой – «зашанхаивая». Из-за чрезвычайно развитого парусного вооружения клиперы требовали большого количества людей. И в наше время, чтобы укомплектовать команды, судовладельцы сулят морякам сущий рай. И это действительно рай по сравнению с теми условиями, которые были на судах всего полтора столетия назад.
Однако даже при возросшем комфорте и высокой заработной плате обеспечить кадрами корабельный состав мирового коммерческого флота довольно трудно. Уже давно команды не комплектуются из рабов, висельников, каторжников, пиратов и легкомысленных подростков. И все же от старой проблемы кое-что осталось. И это «кое-что» требует дальнейшей механизации судовых работ. Этот процесс начался одновременно с превращением управляющегося с веслом и парусом матроса в техника и машиниста.
Наступит день, когда обслуживание корабельных механизмов полностью возьмут на себя машины. Но еще долго человечество будет помнить о делах и страданиях тех людей, которые когда-то побеждали ураганы, терпели жажду и голод во время томительных безветрии и вверяли свою судьбу плавающим деревянным клеткам, – людей, о которых Б. Травен сказал:
Давно уж стерлись в памяти их имена.
Как пыль, развеяны над морем.
И не пылинки не осталось.
Глава вторая
ВЕЛИКИЕ КАПИТАНЫ СЕМИ МОРЕЙ
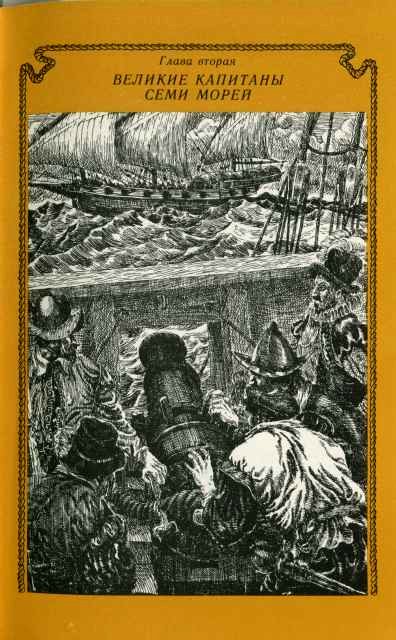
Мореплаватели,
которые писали историю
килями своих кораблей
Могучее море у вас под килем,
Небо и звезды над вами.
Идете в легкий ветер и в шторм
Полными парусами.
Порой задираете вы судьбу,
Как мотыльки хмельные,
Но с морем на равных ведете борьбу
И нервы у вас стальные.
Лежите ли в дрейфе, иль ветер крут —
Звенят упругие снасти, —
Это искусство и адский труд
Приносят победу и счастье.
Пьянит, как свобода. Зовет на простор.
Стремительный парусник мчится
Волнам и ветру наперекор.
И чайка над ним кружится.
П. Рингельнатц

Из древности пришли к нам имена первых капитанов (слово «капитан» происходит от латинского «сарut» , что означает «глава, начальник») – египтянина Кнемхотепа и грека Гиппалоса. Кнемхотеп был кормчим на службе у царицы Хатшепсут во 2-м тысячелетии до н. э. Одиннадцать раз, как говорит об этом надпись на могильном камне, выкопанном из песка в пустыне возле Элефантины, пересекал он Красное море. Что касается греческого мореплавателя, то ему приписывается заслуга создания древнейшей муссонной лоции для Индийского океана.
Здесь речь идет о мореплавателях начального периода торгового судоходства.
В древние времена вся власть на корабле принадлежала кормчему. Он не только задавал курс кораблю и назначал темп гребли, команда должна была подчиняться также и прочим его указаниям.
Только торговое судоходство положило конец объединению командира и штурмана в одном лице кормчего, выдвинув при этом фигуру капитана как первого человека на судне. Кроме того, на судне мог находиться и его владелец, который хоть и редко, но все же выходил в море на своем корабле.
У древнегреческих мореплавателей, пересекавших Понт Эвксинский, чтобы на черноморских берегах грузить зерно для Афин, был даже адмирал, которого называли триархом. Само слово «адмирал» происходит от арабских слов «амир-аль-бахр»: «амир» – повелитель, владыка, «бахр» – море. Он командовал отрядом судов, эскадрой кораблей. Для защиты от морских разбойников суда в дальних рейсах объединялись в караваны. О триархе Аполлодоре мы знаем из материалов судебного разбирательства, которому он был подвергнут в 362 году до н. э. в Геллеспонте [01], где должен был принять под свое начало отряд судов, груженных зерном.
Из описания этого плавания видно, что и в античные времена адмирал не был всемогущим. Возле фракийского побережья несколько судов из состава каравана должны были отделиться и следовать в Стирну. Для защиты, а также для буксировки в случае штилевой погоды Аполлодор придал им несколько гребных кораблей. Однако непогода вынудила этот отряд стать на якорь близ одного острова. Прошло несколько недель. Воспользовавшись создавшимся положением, матросы самовольно покинули корабли, ибо не было удовлетворено их требование о выплате жалованья. Не исключено, что при этом они как-то компенсировали свои убытки за счет перевозимых товаров.
В древнегреческой литературе упоминаются также эмпорос и науклерос. Эмпоросом назывался купец, которому принадлежал только груз, судно не было его собственностью, в то время как науклеросу принадлежало и то и другое, и сам он большей частью находился на судне. Начиная с V века до н. э. под науклеросом чаще всего понимали капитана, который сам был владельцем судна и перевозил грузы как за свой собственный, так и за чужой счет.
Хотя сведения о корабельных начальниках, сохранившиеся с античных времен, весьма скудны (например, о финикийских капитанах мы не знаем почти ничего), из того немногого, чем мы располагаем, совершенно ясно, что профессия капитана относилась к наиболее авантюрным из всех известных в то время профессий. Нигде не существовало большего риска и большей ответственности. Ему вменялось в обязанность доставить судно и груз к месту назначения целым и невредимым. А меж тем в море нетрудно было и заблудиться: навигационные средства у античных моряков были не так уж совершенны. Кроме непогоды капитана подстерегали пиратские нападения и мятежи. Недаром в одной старинной рукописи говорится: «Ни один человек не попадает чаще в трудные положения, чем моряк».
Капитан единолично должен был принимать решение о том, что надо делать в той или иной обстановке. В открытом море он не мог позволить себе, как некоторые сухопутные начальники, прикрыться решением вышестоящего начальства или из страха перед ответственностью вообще уклониться от решения. На море судьбы корабля и людей часто зависят от быстроты и правильности решений, принятых капитаном. Слабовольным людям не место на капитанском мостике. Если же такие капитаны и появлялись, то вскоре они сами оставляли свое место.
Так море стало жестоким полигоном для испытания мужского характера, школой для отсева и отбора лидеров. Поэтому опытных капитанов высоко ценили и за пределами морской службы, нередко приглашая на посты, где для принятия ответственных решений требовалось мужество.
Среди великих мужей этой профессии было немало людей деспотичных и жестоких. Возможно, это объяснялось не только избытком власти, но и социальным происхождением многих моряков. Большинство известных мореплавателей с начала эпохи Великих географических открытий и до конца трансатлантических парусных плаваний происходило из низших слоев населения. Это связано с дурной репутацией, которой пользовалась морская служба в Западной Европе, и отсутствием школ для подготовки морских офицеров. Такого рода училища появились лишь позднее, когда государства, расположенные на Атлантическом побережье, приступили к снаряжению исследовательских экспедиций и созданию торгового и военного флотов. До этого необходимость часто заставляла судовладельцев нанимать капитанами итальянцев-рыбаков или даже пиратов. Другого выбора не было. Голубых кровей галерное офицерство не имело ни малейших способностей к морскому делу и, главное, абсолютно не обладало мореходными знаниями.
Впрочем, эту практику использовали еще римляне. Недостаток собственных квалифицированных моряков заставил императора Августа нанимать для римского флота финикийцев, греков, египтян. Заметьте: нанимать – это были уже не рабы!
Во времена раннего средневековья города-республики Венеция, Генуя и Пиза владели в Европе монополией морской торговли с Востоком. К этому добавлялся и огромный объем перевозок, связанный с крестовыми походами и паломничеством пилигримов в «святые места». О размерах морских транспортов того времени можно судить по ответу венецианского дожа на французский запрос по поводу четвертого крестового похода в начале XIII века: «Мы дадим вам перевозочные суда для доставки 4500 лошадей, 9000 оруженосцев, 4500 рыцарей и 20 000 пехотинцев; и люди, и лошади обеспечиваются съестными припасами на 9 месяцев. Все это будет сделано на том условии, чтобы нам заплатили за каждую лошадь по 4 марки и за каждого человека по 2 марки. Все эти условия мы исполним в течение одного года, считая со дня отплытия из Венеции отправившихся на службу Богу и христианской церкви. Вышесказанное составляет сумму в 85 000 марок. И сверх того мы поставим от себя 50 вооруженных галер из любви к Богу с тем условием, что в течение всего похода от всех завоеваний, которые мы сообща сделаем на море и на суше, – половина нам, а половина вам». В этой связи невольно вспоминаются непомерные требования, которые генуэзец Колумб предъявил испанскому королевскому двору в качестве вознаграждения за руководство первой трансатлантической экспедицией.
