Аркадий Ипполитов
Только Венеция. Образы Италии XXI
Продюсер: Сергей Николаевич
Дизайн: Ирина Борисова
Фото: Роберто Базиле (www.robertobasilephoto.eu)
Фото на обложке: Серж Лидо (Serge Lido). Serge Golovine, danseur-etoile du «Grand Ballet du Marquis de Cuevas» a la place San-Marco a Venise, pendant le Festival Musical en septembre 1950.
Автор и издательство благодарят Центральную научную библиотеку Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийского театрального общества) за возможность публикации снимка Сержа Лидо из фондов библиотеки.
Издательство приносит благодарность Юрию Кацману за деятельную помощь в подготовке проекта.
Издательство благодарит за поддержку сайт «Особая буква» (www.specletter.com) и его главного редактора Сергея Тимофеева.
© Некоммерческое партнерство «Открытый Фестиваль Искусств «Черешневый Лес», текст, илл., 2014
© Юрий Кацман, оригинал-макет, 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Дизайн: Ирина Борисова
Фото: Роберто Базиле (www.robertobasilephoto.eu)
Фото на обложке: Серж Лидо (Serge Lido). Serge Golovine, danseur-etoile du «Grand Ballet du Marquis de Cuevas» a la place San-Marco a Venise, pendant le Festival Musical en septembre 1950.
Автор и издательство благодарят Центральную научную библиотеку Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийского театрального общества) за возможность публикации снимка Сержа Лидо из фондов библиотеки.
Издательство приносит благодарность Юрию Кацману за деятельную помощь в подготовке проекта.
Издательство благодарит за поддержку сайт «Особая буква» (www.specletter.com) и его главного редактора Сергея Тимофеева.
© Некоммерческое партнерство «Открытый Фестиваль Искусств «Черешневый Лес», текст, илл., 2014
© Юрий Кацман, оригинал-макет, 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Интродукция
Глава первая
Звук Венеции
Кинотеатр «Знание». – Юноши в лодке. – Про реальность «Плотов» и «Неисцелимых». – Карпаччо и affluence. – «Невидимые города» и «Имена стран». – Канале Гранде. – Кампо Санто Стефано. – Дворец Сальвиати. – Роман «Сомнамбулы». – Самая прекрасная в мире юбка. – Встреча с юношами в лодке. – Two Wheeler, звук обманчивый. – Подлинный звук. – Удар в лоб и карта Якопо Барбари
Песенка. Какая-то песенка, пропетая какой-то эстрадной певичкой на каких-то ступенях. Чего это были ступени? Собора Сан Марко? Какого-то мостика? Ступени Сан Джорджо Маджоре? Хоть убей, не помню, помню, что певица была рыжа, что она по ступеням, поя-заливаяся, спускалась и что – кажется, опять же кажется – она спускалась в какую-то открывающуюся панораму, и в панораме были и ширь, и воздух, и вздох. Где такое в Венеции? Я ничего не помню, ну ничегошеньки, – впору завыть, как старуха-мать в фильме Бергмана «Земляничная поляна», живой труп над ворохом старых фотографий: это я вспоминаю мою первую встречу с Венецией. Состоялась она 31 декабря 1970 года, когда мне было двенадцать лет, – точную дату я вычислил с помощью свидетелей. Встреча произошла в «Знании», старом ленинградском кинотеатре на Невском проспекте в доме № 72, первом звуковом в России, теперь переделанном в «Кристалл Палас». Тогда, 31 декабря 1970 года, в «Знании» крутился документальный – кажется, немецкий – фильм про Венецию, и я, в первый раз приведённый на него мамой, потом бегал смотреть его раз – не помню сколько точно – пять, шесть, семь, девять? – по-моему, ни один другой фильм я не пересмотрел столько раз, разве что Le charme discret de la bourgeoisie. Не помню ни названия, ни режиссёра, но помню холодный и практически пустой зал и моё безграничное счастье, когда на экране появлялось… что появлялось, я тоже не очень хорошо помню: певичка, которая вроде, как мне теперь кажется, Моникой Витти была, стеклодувы, го́ндолы, конечно же, гондольеры с сине-белым полосатым верхом, дворец Дожей и площадь Сан Марко – обычный чепуховый набор. Мне кажется, что затем в моей жизни я где-то на этот фильм наткнулся, но он лишь мелькнул и показался мне совершенно бездарным. Я, снова его повстречав, не обратил внимания ни на режиссёра, ни на страну, потому что он был мне совсем не нужен в жизни, только детское воспоминание портил. Как и полагается, «в мире новом друг друга они не узнали», но теперь, как раз когда я решился написать эту книгу, я начал фильм специально разыскивать, в розысках никак не преуспев, потому что, честно говоря, слишком настырен и не был – зачем тьмой низких истин подменять нас возвышающий обман? Пусть останется счастье в холоде декабрьского «Знания», ведь если я теперь снова увижу эти кадры, стеклодувов и гондольеров и всё про фильм узнаю, то моё знание раскавычится, а это будет совсем другая история. Пусть также рыжая певичка останется Моникой Витти, похожей, правда, не на антониониевскую Монику из «Ночи», а на Монику из «Не промахнись, Ассунта!».
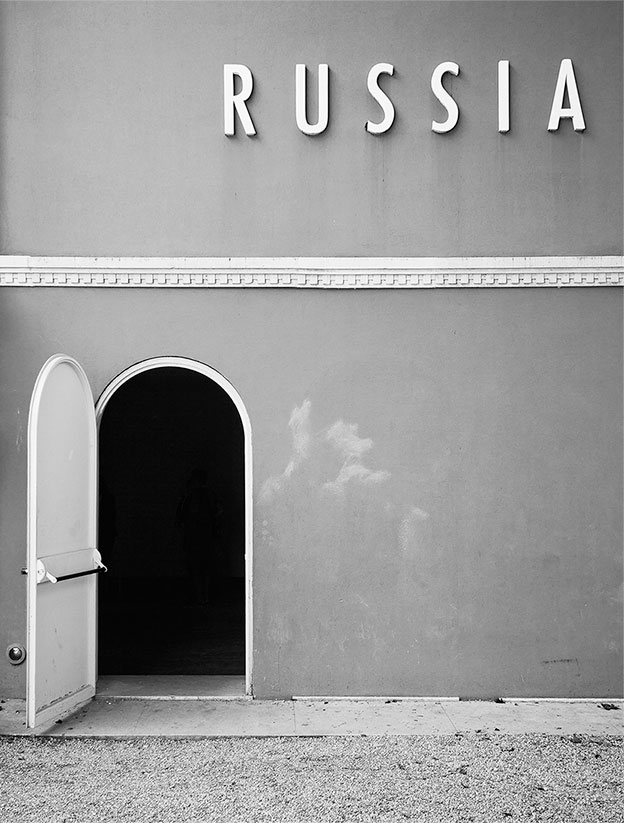 Русский павильон на Венецианской биеннале
Русский павильон на Венецианской биеннале
Ленинград, холод, декабрь – моя Венеция родилась там и так. Конечно же, о Венеции я знал и раньше – кто ж про неё не знает, знал, что там дома в воду понатыканы и очень красиво, но благодаря фильму, воспоминания о котором ненадежны, как свидетельства детей, Венеция во мне приобрела очертания, превратилась в образ. До того это была чистая абстракция – а как же могло быть ещё в декабре, холоде и Ленинграде? Тогда и альбомов-то про Венецию никаких не было, вряд ли я даже фотографии города видел: это теперь дворец Дожей рекламирует кафельную плитку на каждом шагу. В образ, во мне сформировавшийся, я влюбился страстно, и, если признаться честно, в мою соседку по парте, я был влюблен гораздо меньше, хотя её и обожал так пылко, что даже о самоубийстве подумывал, как многие в тринадцать лет.
Было ещё одно обстоятельство, для моей Венеции очень важное. Открытка с фрагментом из «Истории святой Урсулы» Карпаччо: вид в просвет колонн лоджии из «Прибытия английских послов» с водой, домиками, церковкой и чёрной лодочкой с двумя юношами. Юноши повёрнуты спиной к зрителю, и их кудрявые белокурые волосы столь пышны, что кокетливые чёрные береты, довольно большие, с трудом натянуты на шевелюры – кудрей много, и головы кажутся перевернутыми горшками с какой-то благоуханной и буйной растительностью, кустами лаванды. Один юноша сидит, непринуждённо облокотившись на лодочную перекладину, нам видна только его половина, а второй показан во весь рост, он лодкой управляет стоя, с помощью длинного весла, как и положено в го́ндоле – вроде бы слово «го́ндола» я уже знал, но говорил, конечно, гондо́ла, по-русски. Красивое слово и с русским ударением немного неприличное, мне всегда так в детстве казалось.
Красоты этот фрагмент преисполнен божественной, и таинственности, и ничего лучше судьба не могла мне послать, обозначая Венецию моей жизни, чем эту открытку, которую я купил в Доме книги и которая стала основой моей коллекции открыток с картин. Теперь их у меня тысяч пятнадцать, я уж и не помню, что есть, чего нет, иногда покупаю двойные экземпляры, а тогда каждая открытка была драгоценностью. Открытки были ужасающего качества, их издательство «Изобразительное искусство» печатало, даже «Авроры» тогда на свете не было, – купил я двух юношей года за два до встречи с песенкой в «Знании», то есть когда мне было десять лет. Открытки собирать я начал именно в десять, поэтому сейчас могу утверждать, что фильм и Карпаччо появились в моей жизни почти одновременно, хотя тогда я их не связывал. Юноши были куплены за три копейки, тогда так открытка стоила, и зеленовато-сизый Карпаччо был самым ценным из первых моих приобретений, я до сих пор его храню.
Моя трёхкопеечная Венеция прекрасна, невозможно прекрасна. Как прекрасны и оба юноши – именно что «не возможно», так как никогда они не обернутся, нет никакой возможности увидеть их лица, никогда и ни для кого, но ни у кого, надеюсь, нет ни малейших сомнений, что черты их лиц упоительны. В конце концов, об этом можно судить и по задницам. Разве можно предположить, что у стоящего юноши, чьи узкие красные штаны натянуты на бёдра столь низко, как это сейчас модно, будет заурядное лицо? Конечно же, нет, не может быть такого предположения, и скрытое лицо юноши манит как блаженная страна за далью непогоды. Ведь на его белом исподнем, столь энигматично выбивающемся в зазор, образовавшийся между поясом и коротенькой, лихо задравшейся вверх курточкой, любому, кто умеет видеть, внятна невидимая надпись, нечто среднее между пророческим откровением и божественным лейблом, между [мене, мене, текел, упарсин], и Calvin Klein или Dolce & Gabbana: модный посланец царства вечности.
Безусловно, этот Карпаччо – лучший знак Венеции. В реальности Венеция и такая, и не такая, и лучше, чем в этом фрагменте Карпаччо, и намного хуже. Впрочем, существует ли реальность в Венеции? Многие это подвергали сомнению, и я, хоть и считаю, что реальность в Венеции существует, так что данная книга в некотором роде мыслится мною как изложение доводов в пользу именно подобного утверждения, всё же допускаю определённую долю вероятности правоты тех, кто считает иначе. Пробегая умом всю цепь моих отношений с Венецией, я вижу, что моя решающая встреча с ней – «знание» в кавычках. Закавыченность знания доказывает, что Венеция – «вещь в себе», cosa in sè, рождённая лишь моими субъективными свойствами, и, как и полагается по Канту, той Венеции, что столь чувственно и наглядно представлена в моём сознании, в действительности не существует, да и не может существовать, так как её вид определён лишь моими субъективными свойствами, и ничем другим. Кавычки маркируют относительность моего знания и моей Венеции, но – что делать? – Венеция мучает меня, и, будучи, как всё, что порождено знанием, умозрительной, она предстает во мне вполне ощутимо, так, как это произошло, когда я грохнулся, поскользнувшись на ещё сырых от только схлынувшей ноябрьской aqua alta, «высокой воды», камнях около Понте деи Инкурабили, Ponte dei Incurabili, Моста Неисцелимых, прямо напротив Оспедале деи Инкурабили, Ospedale dei Incurabili, Госпиталя Неисцелимых. Грохнулся и телесно ощутил реальность Венеции, мокрую, склизкую и довольно-таки твёрдую. Существующую вне пределов моего разума. Грохнулся очень внятно, переживания моих ягодиц были объективны, как марксистско-ленинская материя, но где это произошло? Вроде как на Фондамента делле Дзаттере, Fondamenta delle Zattere, то есть на Набережной Плотов, – на это указывало обозначение названия набережной на одном из домов, и все карты, визитки реальности, вторят этому указанию. И в то же время…
Многие безрезультатно искали на картах, визитках реальности, Набережную Неисцелимых, Фондамента дельи Инкурабили, Fondamenta degli Incurabili, ставшую благодаря эссе Иосифа Бродского чуть ли не самым притягательным местом в Венеции для русских интеллектуалов. Найти не могли, хотя в эссе Бродского, в его названии, Фондамента дельи Инкурабили существует во всей своей осязательности, так что Джон Апдайк написал, что Набережная Неисцелимых превращает частный опыт хронического венецианского туриста в кристалл, чьи грани отражают всю полноту жизни. Но где же грани Набережной Неисцелимых, полноту жизни отражающие, находятся? Бродский лишь единожды упомянул о Фондамента дельи Инкурабили в тексте, дав указание, звучащее обманчиво точно: «От дома (поклонницы Эзры Паунда. – Прим. автора.) мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili». Но это и всё, поди разберись в Венеции, где лево, где право. Следуя указанию поэта, вы никогда никакой Фондамента дельи Инкурабили не найдёте, а всё на Фондамента делле Дзаттере, Набережную Плотов, будете натыкаться. Нет никакой Набережной Неисцелимых и в помине, она ни в одном путеводителе не упоминается, но Бродский называет своё эссе «Фондамента дельи Инкурабили», «Неисцелимые» для него важны, и текст его «Дзаттере», «Плотами», никак не может быть обозначен, что за глупость. Конечно, эссе Бродского и есть Фондамента дельи Инкурабили, то есть cosa in sè, рождённая лишь субъективными свойствами самого Иосифа, поэтому в гидах её может и не быть, однако если вы пороетесь в архивах и антикварных лавках, то на очень старых венецианских картах, пылящихся там, выцветших, как смытые ветрами и дождями фрески с фасадов старых дворцов, вы сможете найти надпись Fondamenta degli Incurabili.
Набережная Неисцелимых является как привидение: картами уже давно никто не пользуется, они бесполезны, как искусство, но карты доказывают, что Фондамента дельи Инкурабили есть, она на какой-то грани действительности и воображаемого, как и всё в Венеции. Но она существует, совершенно точно, это именно то место, где я поскользнулся, и расположено оно как раз около Понте деи Инкурабили и напротив Оспедале деи Инкурабили. Теперь и я могу это подтвердить, так как камни набережной врезались в меня во всей апдайсковской кристаллической полноте и Неисцелимые обступили меня со всех сторон. Столь внятный ушиб я получил, конечно, на Фондамента делле Дзаттере, но упал-то я в метафизичность Фондамента дельи Инкурабили, то есть в бродскую Набережную Неисцелимых, и именно там и растянулся, а не посреди какой-то Набережной Плотов, чётко отмеченной на визитных карточках реальности, которыми пользуются «хронические туристы». В Венеции с объективностью всё не просто.
С Венецией вообще всё сложно, и именно поэтому я всё время возвращаюсь к юношам Карпаччо, к трёхкопеечной открытке. Что в них такого уж венецианского, что до сих пор, если при мне звучит это имя – Венеция, – я тут же их лёгкую чёрную лодку и красные штаны вспоминаю? Почему я считаю – а я так считаю, – что это самый выразительный знак Венеции? Что ж, поразмыслив, я точно могу ответить: укачивающая зыбкость, неустойчивое равновесие и скользящая неуловимость – это важнее всего. Важнее даже того, что вся сцена просто очень красива: юноши, вода, лодка, колокольня, косой парус – то есть всё то, на что сердце каждого моментально отзовётся, как на стихотворение «Белеет парус…», которое все так любят в детстве. Отзовётся и тут же заглохнет – у человека «со вкусом», во всяком случае, ибо слово «красота» истаскалось, как шлюха подзаборная. Модернизм ХХ века красоту отправил в лакейскую, где она стала гламурить, как дура, и теперь её удел – журналы мод да путеводители.
В Венеции же красоты так много, что даже и раздражение вызывает. Что ж уж тут такого особенного: понатыкай дворцов в воду – так всё красиво будет, трёхкопеечно красиво – и Венецию в трёхкопеечности обвиняли чуть ли не чаще, чем любое другое место на земле. И Карпаччо раздражает, он чуть ли не на каждом заборе, давно превратился в знак туристического потребления венецианской культурки, как Боттичелли – в знак потребления культурки флорентийской. Набери теперь в интернете «карпаччо», так выскочит:
Укачивающая неуловимость лодочки с двумя юношами из «Жизни святой Урсулы» – главный мотив Венеции. Фрагмент Карпаччо гениален, но вообще-то Карпаччо – великий художник, от гениальности стоящий несколько в стороне. Мир, им сотворённый, всегда преисполнен очарования тончайшего и иногда – поразительной глубины, но он суховат, и многофигурные сцены Карпаччо, та же «Жизнь святой Урсулы», производят впечатление подробной инвентарной описи, несколько схожей с поэзией средневековых менестрелей, когда они начинают перечислять красоты своих красавиц. В принципе, Карпаччо очень туристичен, прекрасно, конечно же, туристичен, но два юноши в лодочке – нечто из ряда вон выходящее даже у этого большого художника. Пережить внутренний смысл Карпаччиева фрагмента – значит ощутить Венецию. Те несколько туристических дней общения с городом, что сейчас выпадают на долю очень многих, этому переживанию чуть ли не противопоказаны. Фильм, из которого пришла песенка, был очень туристическим, и в нём никакой укачивающей неуловимости не было, но меня спасло появление открытки издательства «Изобразительное искусство», сыгравшей роль феи Сирени над колыбелью моей Венеции, предсказав её пробуждение тогда, когда она – моя Венеция – об этом ничего и не знала.
Так же, как и я ничего не знал, даже не знал о том, что юноши – лишь фрагмент. Как «Жизнь святой Урсулы» в целом выглядит, я даже и не подозревал, и о том, что когда-либо окажусь в Венеции, и не мечтал. Как-то не приходило в голову, что можно сесть в некий транспорт, в своей реальности не имеющий ничего общего с мечтательной утлостью лодочки, качающей двух юношей, поехать в Венецию – обратите внимание на страшное противоречие грубости звукосочетания «еха» с мечтательной прозрачностью «вене» – и очутиться в этом городе – обратите внимание на глуповатость «очу». Венеция оставалась этаким невидимым городом Итало Кальвино, книгу которого, конечно же, я тогда ещё не читал, и моё время не особо торопилось придать ей большую зримость, чем та, коей обладают кальвиновские Дзора, Дзирма и Земруда. Даже когда я решил, что буду итальянским искусством заниматься – а это произошло довольно рано, – и даже когда я итальянским искусством занялся, что произошло чуть позже, Венеции это реальности не прибавило, так же как и не прибавило мне уверенности, что я когда-либо в этом городе побываю. Вокруг меня, как вокруг кинотеатра «Знание», первую мне встречу с Венецией подарившего, царил декабрь социализма. Моё знание было погружено в декабрь социализма и им же ограничено и закавычено, так как тогда книжки о Венеции были редкостью, на русском языке была единственная куцая «Венеция» из серии «Города и музеи мира» 1970 года, никто ни Муратова, ни «Камней Венеции» Рёскина переиздавать не собирался. В семнадцать я прочёл Пруста, и «чтобы оживить их в себе, мне стоило только произнести имена: Бальбек, Венеция, Флоренция, звуки которых мало-помалу впитали в себя всё желание, внушенное мне соответственными местами» стало казаться мне моим уделом. Произноси звук про себя и будь этим доволен, в Венеции ты всё равно никогда не окажешься – «невыездной», как это определял социализм, царящий вокруг «Знания». Муратова я прочёл много позже, мне старое издание, большую тогда редкость, дала одна пожилая знакомая. Потом, когда я начал работать в библиотеке Эрмитажа, я нашёл множество фотографий Венеции, множество книг о Венеции и с Венецией, а также рассмотрел в подробностях «Жизнь святой Урсулы» и обнаружил свою чёрную лодочку в «Прибытии английских послов», трудно находимую, где-то совсем сбоку.
Венеция была для меня только именем из «По направлению к Свану. Часть третья. Имена стран: Имя», и, согласно прустовскому совету, я усиленно занимался тем, чтобы в именах итальянских городов внутри меня сосредоточилось внушенное ими восхищение. Я хотел, чтобы эти названия навсегда впитались в моё сознание и чтобы представление, какое составилось у меня об этих городах, заменило бы моё стремление к тем краям: а что мне ещё оставалось делать? Должен признаться, что Венеция, столь поразившая меня 31 декабря 1970 года, потом была оттеснена Флоренцией на второй план моей жизни, и именно в имени Флоренция – опять цитирую Пруста – «не находя … места для элементов, составляющих обыкновенно города, я принужден был породить на свет некий сверхъестественный город путем оплодотворения определёнными весенними запахами того, что, по моим представлениям, было сущностью гения» Понтормо – поставлю имя этого, моего самого любимого художника, на место прустовского Джотто. Венеция, однако, именно благодаря чёрной лодочке Карпаччо, всё время качалась в моём мозгу, как перья страуса склонённые.
В реальности я свою лодочку обрёл много позже. Когда я впервые оказался в Венеции, мне уже был тридцать один год. Я первый раз был в Италии и первый раз за границей и оказался в ней по приглашению моих друзей Данило Паризио и Марики Морелли, с которыми познакомился в Петербурге, где Данило оформлял как дизайнер и архитектор выставку современного итальянского искусства. Они пригласили меня вместе с Дуней Смирновой, на которой я тогда был женат, из личной симпатии, а также в знак уважения моих исключительных – так им казалось – знаний итальянского искусства. Данило с Марикой часто мне говорили, что их поражало, что эти знания существуют вне моего реального пребывания в Италии, и они взяли на себя благородную задачу первыми моё «знание» Италии раскавычить, устроив нам с Дуней потрясающую месячную поездку, включавшую и Рим, и Флоренцию, и Венецию, и Неаполь. Потрясающую во всех смыслах, так как теперь, смутно припоминая отели, в которых они нас селили, и рестораны, что мы посещали, я понимаю, каких это денег стоило, хотя тогда для меня, из социализма вышедшего, этакого contadino sofisticato, «утончённого поселянина», как меня Данило называл, всё, что стоило больше ста долларов, было столь нереальным, что как бы и не существовало. Ко всей роскоши, которой была моя первая встреча с Италией обставлена – это ещё нужно учесть, что скакнул я в неё прямо из голого социализма, – я относился весьма простодушно, как к обстоятельству, естественно сопутствующему Италии.
Итальянский комфорт и итальянская элегантность быта воспринимались мною как природное явление: ну, цветет лимон, и апельсин златой как жар горит под зеленью густой, что тут странного? – так и быть до́лжно, простодушие меня в некотором роде предохраняло от шока и комплекса Стендаля. Прилетели мы первым делом в Рим, и я был Римом оглушён, как жертвенные баран или говяда ударом дубины промеж рогов перед закланием. Потом всю поездку я себя как говяда и чувствовал, то есть обалдевшим и мало что соображающим, поэтому масса различных переживаний и ощущений моей первой встречи с Италией спуталась в ворох пёстрых ниток, разобрать который никакой рефлексии не по силам. Всё слилось в какой-то ком, бесформенный и смутный, но в него как будто воткнуты острые осколки зеркала – так блестят в моей памяти особо режущие моменты, заснятые гиппокампом, то есть той частью лимбической системы моего головного мозга, что формирует эмоции, консолидирует память и обеспечивает переход памяти кратковременной в память долговременную, со всей чёткостью хорошей документальной съёмки. Режущие в буквальном смысле, потому что, когда я, роясь в ворохе воспоминаний, снова натыкаюсь на них, я вижу, как на коже моих пальцев выступают маленькие капельки крови – именно к таким воспоминаниям относится и мой первый въезд в Венецию.
Я вместе с Дуней прилетел в Венецию, куда меня Данило с Марикой и привезли на самолёте из Рима. Я вывалился из вполне современного венецианского Марко Поло и уткнулся в воду, тут же, около аэропорта, плещущую, что поразило меня своей странностью. Никакую «живопись в качающейся раме», как Пастернаку, венецианская вода мне не напомнила, ведь удар промеж рогов начисто лишил меня способности к рефлексии, и я послушно, как жертвенное мясо, шёл за своими поводырями, тут же усадившими меня в водное такси: свойственная говядам телячье-баранья тупость, что во мне была, вовсе не метафора, а достаточно точное определение моего тогдашнего состояния. Панораму города, из Марко Поло видную, я, во всяком случае, осознать не успел и её не помню, хотя она наверняка была прекрасна, так как был конец марта, вечер после очень ясного весеннего дня и начало заката. Венецию слегка обволакивала дымка наступающих сумерек. Водное такси с мерным шумом мотора понесло меня в сверхъестественный город, появившийся на свет путем оплодотворения моей детской мечты о том городе, что я увидел в декабрьском ленинградском кинотеатре, некой определенностью знаний, полученных позже, – вроде как я должен сказать именно так. Так и не так, потому что все знания в тот момент из моей головы выскочили, и голова была не то чтобы пуста, но набита влажным туманом, просачивающимся в неё сквозь костный каркас моего черепа, ставший удивительно тонким и мягким. Туман лез в меня прямо из окружающего, постепенно темнеющего венецианского воздуха, и я даже про свой декабрьский фильм не вспоминал, не было никакого «вот оно, наконец», я смотрел вокруг себя взором, мыслью не замутнённым, и всё, что представлялось моему взгляду, никак не было связано со сформированными во мне представлениями. Я действительно всё видел в первый раз, наперекор всем «Именам стран: Имя», про которые думал не больше, чем любой баран, ведомый на убой, и как и откуда я подъехал к Венеции, не помню. Помню только Канале Гранде, Canale Grande, Большой Канал, на котором вроде как внезапно очутился, волшебным образом. Венеция обступила меня со всех сторон, я сижу на корме, и из глаз непроизвольно катятся и катятся слёзы.
Теперь, когда я вспоминаю об этом моём первом физическом контакте с Венецией, то чувствую странное раздвоение: это, конечно, я сижу на корме катера, таращусь на Венецию, как на новые ворота, и реву бараньими слезами, крупными и молчаливыми, но и всё тот же я, как будто со стороны, вижу здорового тридцатилетнего бугая, сидящего на корме катера и ревущего как баран. Причём это происходит одновременно, подобно тому, как в изображении житий на старых картинах можно видеть святую Екатерину, стоящую на коленях перед палачом и покорно подставившую ему выю с видом довольно безразличным и даже, можно сказать, бессмысленным, и тут же, в небесах, та же святая Екатерина, слегка склонив голову вниз, с интересом, вполне осмысленным и оживлённым, смотрит на себя, муку принимающую, – и, собственно, есть ещё третий я, видящий этих двоих на некой картине, представляющей Венецию, и в данный момент пытающийся её описать. Вроде как такого растроения личности у меня никогда в жизни больше не случалось, в Венеции всё зыбко, двойники тройниками оказываются.
Песенка. Какая-то песенка, пропетая какой-то эстрадной певичкой на каких-то ступенях. Чего это были ступени? Собора Сан Марко? Какого-то мостика? Ступени Сан Джорджо Маджоре? Хоть убей, не помню, помню, что певица была рыжа, что она по ступеням, поя-заливаяся, спускалась и что – кажется, опять же кажется – она спускалась в какую-то открывающуюся панораму, и в панораме были и ширь, и воздух, и вздох. Где такое в Венеции? Я ничего не помню, ну ничегошеньки, – впору завыть, как старуха-мать в фильме Бергмана «Земляничная поляна», живой труп над ворохом старых фотографий: это я вспоминаю мою первую встречу с Венецией. Состоялась она 31 декабря 1970 года, когда мне было двенадцать лет, – точную дату я вычислил с помощью свидетелей. Встреча произошла в «Знании», старом ленинградском кинотеатре на Невском проспекте в доме № 72, первом звуковом в России, теперь переделанном в «Кристалл Палас». Тогда, 31 декабря 1970 года, в «Знании» крутился документальный – кажется, немецкий – фильм про Венецию, и я, в первый раз приведённый на него мамой, потом бегал смотреть его раз – не помню сколько точно – пять, шесть, семь, девять? – по-моему, ни один другой фильм я не пересмотрел столько раз, разве что Le charme discret de la bourgeoisie. Не помню ни названия, ни режиссёра, но помню холодный и практически пустой зал и моё безграничное счастье, когда на экране появлялось… что появлялось, я тоже не очень хорошо помню: певичка, которая вроде, как мне теперь кажется, Моникой Витти была, стеклодувы, го́ндолы, конечно же, гондольеры с сине-белым полосатым верхом, дворец Дожей и площадь Сан Марко – обычный чепуховый набор. Мне кажется, что затем в моей жизни я где-то на этот фильм наткнулся, но он лишь мелькнул и показался мне совершенно бездарным. Я, снова его повстречав, не обратил внимания ни на режиссёра, ни на страну, потому что он был мне совсем не нужен в жизни, только детское воспоминание портил. Как и полагается, «в мире новом друг друга они не узнали», но теперь, как раз когда я решился написать эту книгу, я начал фильм специально разыскивать, в розысках никак не преуспев, потому что, честно говоря, слишком настырен и не был – зачем тьмой низких истин подменять нас возвышающий обман? Пусть останется счастье в холоде декабрьского «Знания», ведь если я теперь снова увижу эти кадры, стеклодувов и гондольеров и всё про фильм узнаю, то моё знание раскавычится, а это будет совсем другая история. Пусть также рыжая певичка останется Моникой Витти, похожей, правда, не на антониониевскую Монику из «Ночи», а на Монику из «Не промахнись, Ассунта!».
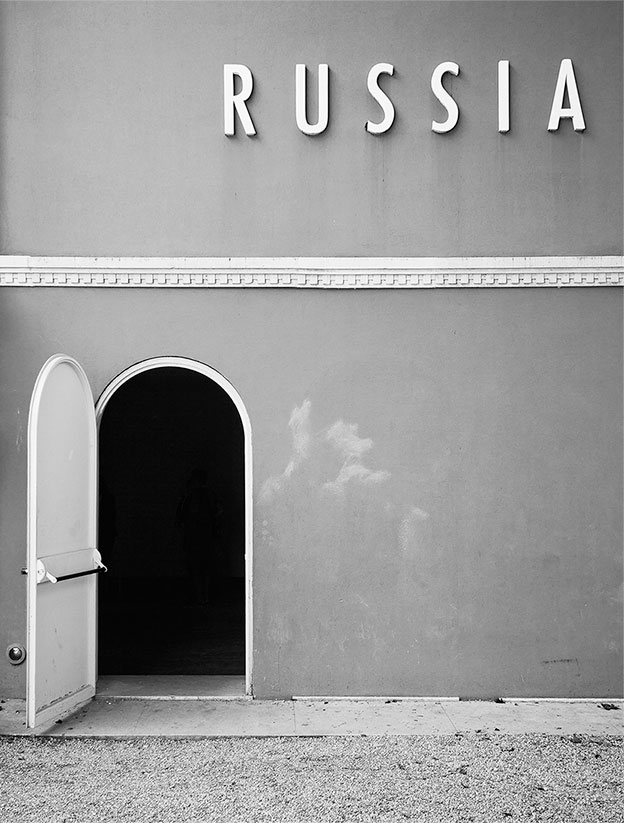
Ленинград, холод, декабрь – моя Венеция родилась там и так. Конечно же, о Венеции я знал и раньше – кто ж про неё не знает, знал, что там дома в воду понатыканы и очень красиво, но благодаря фильму, воспоминания о котором ненадежны, как свидетельства детей, Венеция во мне приобрела очертания, превратилась в образ. До того это была чистая абстракция – а как же могло быть ещё в декабре, холоде и Ленинграде? Тогда и альбомов-то про Венецию никаких не было, вряд ли я даже фотографии города видел: это теперь дворец Дожей рекламирует кафельную плитку на каждом шагу. В образ, во мне сформировавшийся, я влюбился страстно, и, если признаться честно, в мою соседку по парте, я был влюблен гораздо меньше, хотя её и обожал так пылко, что даже о самоубийстве подумывал, как многие в тринадцать лет.
Было ещё одно обстоятельство, для моей Венеции очень важное. Открытка с фрагментом из «Истории святой Урсулы» Карпаччо: вид в просвет колонн лоджии из «Прибытия английских послов» с водой, домиками, церковкой и чёрной лодочкой с двумя юношами. Юноши повёрнуты спиной к зрителю, и их кудрявые белокурые волосы столь пышны, что кокетливые чёрные береты, довольно большие, с трудом натянуты на шевелюры – кудрей много, и головы кажутся перевернутыми горшками с какой-то благоуханной и буйной растительностью, кустами лаванды. Один юноша сидит, непринуждённо облокотившись на лодочную перекладину, нам видна только его половина, а второй показан во весь рост, он лодкой управляет стоя, с помощью длинного весла, как и положено в го́ндоле – вроде бы слово «го́ндола» я уже знал, но говорил, конечно, гондо́ла, по-русски. Красивое слово и с русским ударением немного неприличное, мне всегда так в детстве казалось.
Красоты этот фрагмент преисполнен божественной, и таинственности, и ничего лучше судьба не могла мне послать, обозначая Венецию моей жизни, чем эту открытку, которую я купил в Доме книги и которая стала основой моей коллекции открыток с картин. Теперь их у меня тысяч пятнадцать, я уж и не помню, что есть, чего нет, иногда покупаю двойные экземпляры, а тогда каждая открытка была драгоценностью. Открытки были ужасающего качества, их издательство «Изобразительное искусство» печатало, даже «Авроры» тогда на свете не было, – купил я двух юношей года за два до встречи с песенкой в «Знании», то есть когда мне было десять лет. Открытки собирать я начал именно в десять, поэтому сейчас могу утверждать, что фильм и Карпаччо появились в моей жизни почти одновременно, хотя тогда я их не связывал. Юноши были куплены за три копейки, тогда так открытка стоила, и зеленовато-сизый Карпаччо был самым ценным из первых моих приобретений, я до сих пор его храню.
Моя трёхкопеечная Венеция прекрасна, невозможно прекрасна. Как прекрасны и оба юноши – именно что «не возможно», так как никогда они не обернутся, нет никакой возможности увидеть их лица, никогда и ни для кого, но ни у кого, надеюсь, нет ни малейших сомнений, что черты их лиц упоительны. В конце концов, об этом можно судить и по задницам. Разве можно предположить, что у стоящего юноши, чьи узкие красные штаны натянуты на бёдра столь низко, как это сейчас модно, будет заурядное лицо? Конечно же, нет, не может быть такого предположения, и скрытое лицо юноши манит как блаженная страна за далью непогоды. Ведь на его белом исподнем, столь энигматично выбивающемся в зазор, образовавшийся между поясом и коротенькой, лихо задравшейся вверх курточкой, любому, кто умеет видеть, внятна невидимая надпись, нечто среднее между пророческим откровением и божественным лейблом, между [мене, мене, текел, упарсин], и Calvin Klein или Dolce & Gabbana: модный посланец царства вечности.
Безусловно, этот Карпаччо – лучший знак Венеции. В реальности Венеция и такая, и не такая, и лучше, чем в этом фрагменте Карпаччо, и намного хуже. Впрочем, существует ли реальность в Венеции? Многие это подвергали сомнению, и я, хоть и считаю, что реальность в Венеции существует, так что данная книга в некотором роде мыслится мною как изложение доводов в пользу именно подобного утверждения, всё же допускаю определённую долю вероятности правоты тех, кто считает иначе. Пробегая умом всю цепь моих отношений с Венецией, я вижу, что моя решающая встреча с ней – «знание» в кавычках. Закавыченность знания доказывает, что Венеция – «вещь в себе», cosa in sè, рождённая лишь моими субъективными свойствами, и, как и полагается по Канту, той Венеции, что столь чувственно и наглядно представлена в моём сознании, в действительности не существует, да и не может существовать, так как её вид определён лишь моими субъективными свойствами, и ничем другим. Кавычки маркируют относительность моего знания и моей Венеции, но – что делать? – Венеция мучает меня, и, будучи, как всё, что порождено знанием, умозрительной, она предстает во мне вполне ощутимо, так, как это произошло, когда я грохнулся, поскользнувшись на ещё сырых от только схлынувшей ноябрьской aqua alta, «высокой воды», камнях около Понте деи Инкурабили, Ponte dei Incurabili, Моста Неисцелимых, прямо напротив Оспедале деи Инкурабили, Ospedale dei Incurabili, Госпиталя Неисцелимых. Грохнулся и телесно ощутил реальность Венеции, мокрую, склизкую и довольно-таки твёрдую. Существующую вне пределов моего разума. Грохнулся очень внятно, переживания моих ягодиц были объективны, как марксистско-ленинская материя, но где это произошло? Вроде как на Фондамента делле Дзаттере, Fondamenta delle Zattere, то есть на Набережной Плотов, – на это указывало обозначение названия набережной на одном из домов, и все карты, визитки реальности, вторят этому указанию. И в то же время…
Многие безрезультатно искали на картах, визитках реальности, Набережную Неисцелимых, Фондамента дельи Инкурабили, Fondamenta degli Incurabili, ставшую благодаря эссе Иосифа Бродского чуть ли не самым притягательным местом в Венеции для русских интеллектуалов. Найти не могли, хотя в эссе Бродского, в его названии, Фондамента дельи Инкурабили существует во всей своей осязательности, так что Джон Апдайк написал, что Набережная Неисцелимых превращает частный опыт хронического венецианского туриста в кристалл, чьи грани отражают всю полноту жизни. Но где же грани Набережной Неисцелимых, полноту жизни отражающие, находятся? Бродский лишь единожды упомянул о Фондамента дельи Инкурабили в тексте, дав указание, звучащее обманчиво точно: «От дома (поклонницы Эзры Паунда. – Прим. автора.) мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili». Но это и всё, поди разберись в Венеции, где лево, где право. Следуя указанию поэта, вы никогда никакой Фондамента дельи Инкурабили не найдёте, а всё на Фондамента делле Дзаттере, Набережную Плотов, будете натыкаться. Нет никакой Набережной Неисцелимых и в помине, она ни в одном путеводителе не упоминается, но Бродский называет своё эссе «Фондамента дельи Инкурабили», «Неисцелимые» для него важны, и текст его «Дзаттере», «Плотами», никак не может быть обозначен, что за глупость. Конечно, эссе Бродского и есть Фондамента дельи Инкурабили, то есть cosa in sè, рождённая лишь субъективными свойствами самого Иосифа, поэтому в гидах её может и не быть, однако если вы пороетесь в архивах и антикварных лавках, то на очень старых венецианских картах, пылящихся там, выцветших, как смытые ветрами и дождями фрески с фасадов старых дворцов, вы сможете найти надпись Fondamenta degli Incurabili.
Набережная Неисцелимых является как привидение: картами уже давно никто не пользуется, они бесполезны, как искусство, но карты доказывают, что Фондамента дельи Инкурабили есть, она на какой-то грани действительности и воображаемого, как и всё в Венеции. Но она существует, совершенно точно, это именно то место, где я поскользнулся, и расположено оно как раз около Понте деи Инкурабили и напротив Оспедале деи Инкурабили. Теперь и я могу это подтвердить, так как камни набережной врезались в меня во всей апдайсковской кристаллической полноте и Неисцелимые обступили меня со всех сторон. Столь внятный ушиб я получил, конечно, на Фондамента делле Дзаттере, но упал-то я в метафизичность Фондамента дельи Инкурабили, то есть в бродскую Набережную Неисцелимых, и именно там и растянулся, а не посреди какой-то Набережной Плотов, чётко отмеченной на визитных карточках реальности, которыми пользуются «хронические туристы». В Венеции с объективностью всё не просто.
С Венецией вообще всё сложно, и именно поэтому я всё время возвращаюсь к юношам Карпаччо, к трёхкопеечной открытке. Что в них такого уж венецианского, что до сих пор, если при мне звучит это имя – Венеция, – я тут же их лёгкую чёрную лодку и красные штаны вспоминаю? Почему я считаю – а я так считаю, – что это самый выразительный знак Венеции? Что ж, поразмыслив, я точно могу ответить: укачивающая зыбкость, неустойчивое равновесие и скользящая неуловимость – это важнее всего. Важнее даже того, что вся сцена просто очень красива: юноши, вода, лодка, колокольня, косой парус – то есть всё то, на что сердце каждого моментально отзовётся, как на стихотворение «Белеет парус…», которое все так любят в детстве. Отзовётся и тут же заглохнет – у человека «со вкусом», во всяком случае, ибо слово «красота» истаскалось, как шлюха подзаборная. Модернизм ХХ века красоту отправил в лакейскую, где она стала гламурить, как дура, и теперь её удел – журналы мод да путеводители.
В Венеции же красоты так много, что даже и раздражение вызывает. Что ж уж тут такого особенного: понатыкай дворцов в воду – так всё красиво будет, трёхкопеечно красиво – и Венецию в трёхкопеечности обвиняли чуть ли не чаще, чем любое другое место на земле. И Карпаччо раздражает, он чуть ли не на каждом заборе, давно превратился в знак туристического потребления венецианской культурки, как Боттичелли – в знак потребления культурки флорентийской. Набери теперь в интернете «карпаччо», так выскочит:
и только где-то на последнем месте проблеснёт «карпаччо витторе», ибо наша эпоха потреблятства – «потреблятство» очень удачный перевод термина affluenza, являющегося миксом из affluence, «изобилие», и influenza, «грипп», изобретенного де Графом, Ванном и Нейлором и поставленного в заглавие их нашумевшей книги Affluenza: The All-Consuming Epidemic 2001 года, по-русски звучащее как «Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру» – совсем уж всё в жральню превратило. Блюдо «карпаччо» стало гораздо известнее, чем художник, своё имя блюду отдавший, – о да, это всё так, и, дорогой читатель «со вкусом», меня от глупого восхищения Венецией воротит так же, как и тебя, но мой трёхкопеечный Карпаччо выскакивает из эпохи, потреблятства начисто лишённой. Это мне оправдание и оправдание той красоты Венеции, что так меня, двенадцатилетнего, захватила в никчёмном, скорее всего, фильме, где были дворец Дожей и площадь Сан Марко, го́ндолы и гондольеры и всё то, отчего приличного человека в эпоху The All-Consuming Epidemic тошнит. Ленинградский декабрь всё очистил.
карпаччо из говядины
карпаччо из лосося
карпаччо из свеклы
карпаччо из курицы
Укачивающая неуловимость лодочки с двумя юношами из «Жизни святой Урсулы» – главный мотив Венеции. Фрагмент Карпаччо гениален, но вообще-то Карпаччо – великий художник, от гениальности стоящий несколько в стороне. Мир, им сотворённый, всегда преисполнен очарования тончайшего и иногда – поразительной глубины, но он суховат, и многофигурные сцены Карпаччо, та же «Жизнь святой Урсулы», производят впечатление подробной инвентарной описи, несколько схожей с поэзией средневековых менестрелей, когда они начинают перечислять красоты своих красавиц. В принципе, Карпаччо очень туристичен, прекрасно, конечно же, туристичен, но два юноши в лодочке – нечто из ряда вон выходящее даже у этого большого художника. Пережить внутренний смысл Карпаччиева фрагмента – значит ощутить Венецию. Те несколько туристических дней общения с городом, что сейчас выпадают на долю очень многих, этому переживанию чуть ли не противопоказаны. Фильм, из которого пришла песенка, был очень туристическим, и в нём никакой укачивающей неуловимости не было, но меня спасло появление открытки издательства «Изобразительное искусство», сыгравшей роль феи Сирени над колыбелью моей Венеции, предсказав её пробуждение тогда, когда она – моя Венеция – об этом ничего и не знала.
Так же, как и я ничего не знал, даже не знал о том, что юноши – лишь фрагмент. Как «Жизнь святой Урсулы» в целом выглядит, я даже и не подозревал, и о том, что когда-либо окажусь в Венеции, и не мечтал. Как-то не приходило в голову, что можно сесть в некий транспорт, в своей реальности не имеющий ничего общего с мечтательной утлостью лодочки, качающей двух юношей, поехать в Венецию – обратите внимание на страшное противоречие грубости звукосочетания «еха» с мечтательной прозрачностью «вене» – и очутиться в этом городе – обратите внимание на глуповатость «очу». Венеция оставалась этаким невидимым городом Итало Кальвино, книгу которого, конечно же, я тогда ещё не читал, и моё время не особо торопилось придать ей большую зримость, чем та, коей обладают кальвиновские Дзора, Дзирма и Земруда. Даже когда я решил, что буду итальянским искусством заниматься – а это произошло довольно рано, – и даже когда я итальянским искусством занялся, что произошло чуть позже, Венеции это реальности не прибавило, так же как и не прибавило мне уверенности, что я когда-либо в этом городе побываю. Вокруг меня, как вокруг кинотеатра «Знание», первую мне встречу с Венецией подарившего, царил декабрь социализма. Моё знание было погружено в декабрь социализма и им же ограничено и закавычено, так как тогда книжки о Венеции были редкостью, на русском языке была единственная куцая «Венеция» из серии «Города и музеи мира» 1970 года, никто ни Муратова, ни «Камней Венеции» Рёскина переиздавать не собирался. В семнадцать я прочёл Пруста, и «чтобы оживить их в себе, мне стоило только произнести имена: Бальбек, Венеция, Флоренция, звуки которых мало-помалу впитали в себя всё желание, внушенное мне соответственными местами» стало казаться мне моим уделом. Произноси звук про себя и будь этим доволен, в Венеции ты всё равно никогда не окажешься – «невыездной», как это определял социализм, царящий вокруг «Знания». Муратова я прочёл много позже, мне старое издание, большую тогда редкость, дала одна пожилая знакомая. Потом, когда я начал работать в библиотеке Эрмитажа, я нашёл множество фотографий Венеции, множество книг о Венеции и с Венецией, а также рассмотрел в подробностях «Жизнь святой Урсулы» и обнаружил свою чёрную лодочку в «Прибытии английских послов», трудно находимую, где-то совсем сбоку.
Венеция была для меня только именем из «По направлению к Свану. Часть третья. Имена стран: Имя», и, согласно прустовскому совету, я усиленно занимался тем, чтобы в именах итальянских городов внутри меня сосредоточилось внушенное ими восхищение. Я хотел, чтобы эти названия навсегда впитались в моё сознание и чтобы представление, какое составилось у меня об этих городах, заменило бы моё стремление к тем краям: а что мне ещё оставалось делать? Должен признаться, что Венеция, столь поразившая меня 31 декабря 1970 года, потом была оттеснена Флоренцией на второй план моей жизни, и именно в имени Флоренция – опять цитирую Пруста – «не находя … места для элементов, составляющих обыкновенно города, я принужден был породить на свет некий сверхъестественный город путем оплодотворения определёнными весенними запахами того, что, по моим представлениям, было сущностью гения» Понтормо – поставлю имя этого, моего самого любимого художника, на место прустовского Джотто. Венеция, однако, именно благодаря чёрной лодочке Карпаччо, всё время качалась в моём мозгу, как перья страуса склонённые.
В реальности я свою лодочку обрёл много позже. Когда я впервые оказался в Венеции, мне уже был тридцать один год. Я первый раз был в Италии и первый раз за границей и оказался в ней по приглашению моих друзей Данило Паризио и Марики Морелли, с которыми познакомился в Петербурге, где Данило оформлял как дизайнер и архитектор выставку современного итальянского искусства. Они пригласили меня вместе с Дуней Смирновой, на которой я тогда был женат, из личной симпатии, а также в знак уважения моих исключительных – так им казалось – знаний итальянского искусства. Данило с Марикой часто мне говорили, что их поражало, что эти знания существуют вне моего реального пребывания в Италии, и они взяли на себя благородную задачу первыми моё «знание» Италии раскавычить, устроив нам с Дуней потрясающую месячную поездку, включавшую и Рим, и Флоренцию, и Венецию, и Неаполь. Потрясающую во всех смыслах, так как теперь, смутно припоминая отели, в которых они нас селили, и рестораны, что мы посещали, я понимаю, каких это денег стоило, хотя тогда для меня, из социализма вышедшего, этакого contadino sofisticato, «утончённого поселянина», как меня Данило называл, всё, что стоило больше ста долларов, было столь нереальным, что как бы и не существовало. Ко всей роскоши, которой была моя первая встреча с Италией обставлена – это ещё нужно учесть, что скакнул я в неё прямо из голого социализма, – я относился весьма простодушно, как к обстоятельству, естественно сопутствующему Италии.
Итальянский комфорт и итальянская элегантность быта воспринимались мною как природное явление: ну, цветет лимон, и апельсин златой как жар горит под зеленью густой, что тут странного? – так и быть до́лжно, простодушие меня в некотором роде предохраняло от шока и комплекса Стендаля. Прилетели мы первым делом в Рим, и я был Римом оглушён, как жертвенные баран или говяда ударом дубины промеж рогов перед закланием. Потом всю поездку я себя как говяда и чувствовал, то есть обалдевшим и мало что соображающим, поэтому масса различных переживаний и ощущений моей первой встречи с Италией спуталась в ворох пёстрых ниток, разобрать который никакой рефлексии не по силам. Всё слилось в какой-то ком, бесформенный и смутный, но в него как будто воткнуты острые осколки зеркала – так блестят в моей памяти особо режущие моменты, заснятые гиппокампом, то есть той частью лимбической системы моего головного мозга, что формирует эмоции, консолидирует память и обеспечивает переход памяти кратковременной в память долговременную, со всей чёткостью хорошей документальной съёмки. Режущие в буквальном смысле, потому что, когда я, роясь в ворохе воспоминаний, снова натыкаюсь на них, я вижу, как на коже моих пальцев выступают маленькие капельки крови – именно к таким воспоминаниям относится и мой первый въезд в Венецию.
Я вместе с Дуней прилетел в Венецию, куда меня Данило с Марикой и привезли на самолёте из Рима. Я вывалился из вполне современного венецианского Марко Поло и уткнулся в воду, тут же, около аэропорта, плещущую, что поразило меня своей странностью. Никакую «живопись в качающейся раме», как Пастернаку, венецианская вода мне не напомнила, ведь удар промеж рогов начисто лишил меня способности к рефлексии, и я послушно, как жертвенное мясо, шёл за своими поводырями, тут же усадившими меня в водное такси: свойственная говядам телячье-баранья тупость, что во мне была, вовсе не метафора, а достаточно точное определение моего тогдашнего состояния. Панораму города, из Марко Поло видную, я, во всяком случае, осознать не успел и её не помню, хотя она наверняка была прекрасна, так как был конец марта, вечер после очень ясного весеннего дня и начало заката. Венецию слегка обволакивала дымка наступающих сумерек. Водное такси с мерным шумом мотора понесло меня в сверхъестественный город, появившийся на свет путем оплодотворения моей детской мечты о том городе, что я увидел в декабрьском ленинградском кинотеатре, некой определенностью знаний, полученных позже, – вроде как я должен сказать именно так. Так и не так, потому что все знания в тот момент из моей головы выскочили, и голова была не то чтобы пуста, но набита влажным туманом, просачивающимся в неё сквозь костный каркас моего черепа, ставший удивительно тонким и мягким. Туман лез в меня прямо из окружающего, постепенно темнеющего венецианского воздуха, и я даже про свой декабрьский фильм не вспоминал, не было никакого «вот оно, наконец», я смотрел вокруг себя взором, мыслью не замутнённым, и всё, что представлялось моему взгляду, никак не было связано со сформированными во мне представлениями. Я действительно всё видел в первый раз, наперекор всем «Именам стран: Имя», про которые думал не больше, чем любой баран, ведомый на убой, и как и откуда я подъехал к Венеции, не помню. Помню только Канале Гранде, Canale Grande, Большой Канал, на котором вроде как внезапно очутился, волшебным образом. Венеция обступила меня со всех сторон, я сижу на корме, и из глаз непроизвольно катятся и катятся слёзы.
Теперь, когда я вспоминаю об этом моём первом физическом контакте с Венецией, то чувствую странное раздвоение: это, конечно, я сижу на корме катера, таращусь на Венецию, как на новые ворота, и реву бараньими слезами, крупными и молчаливыми, но и всё тот же я, как будто со стороны, вижу здорового тридцатилетнего бугая, сидящего на корме катера и ревущего как баран. Причём это происходит одновременно, подобно тому, как в изображении житий на старых картинах можно видеть святую Екатерину, стоящую на коленях перед палачом и покорно подставившую ему выю с видом довольно безразличным и даже, можно сказать, бессмысленным, и тут же, в небесах, та же святая Екатерина, слегка склонив голову вниз, с интересом, вполне осмысленным и оживлённым, смотрит на себя, муку принимающую, – и, собственно, есть ещё третий я, видящий этих двоих на некой картине, представляющей Венецию, и в данный момент пытающийся её описать. Вроде как такого растроения личности у меня никогда в жизни больше не случалось, в Венеции всё зыбко, двойники тройниками оказываются.
