– Золото! – хором воскликнули поляки.
– Да, золото, – всадник опять потряс кошелем. – Нам не заплатили, однако мы кое-что нашли для себя в городе сами. Пары монеток из этого мешочка хватит, чтобы окупить потерю вашего оружия, пан. Остальное отдаю за жизнь этих людей.
– Да зачем тебе?.. – начал было старший разъезда, но другой поляк потянул его за рукав:
– Збышек, на кой нам знать причуды этого германца? Бери скорее золотишко, и пускай ведьма катит со своим сынком в самую людную русскую деревню. Лучше будет потом ее всю выжечь, когда они там перемрут.
– Давай золото! – добродушно оскалился старший.
– Сперва освободите дорогу!
Разъезд объехал телегу и удалился на пяток саженей, после чего всадник ловко кинул свой кошель прямо в раскрытую ладонь поляка.
– Доброго вам пути, паны!
Когда копыта польских коней отплюхали по лужам и все стихло, немецкий воин подъехал к телеге. Женщина, стоя на коленях, держала край рогожи над головой бесчувственного мужчины и осторожно вытирала его лицо чистым белым платком. Ее спина при этом слегка подрагивала.
– Почему ты нам помог? – тихо спросила она, поднимая к всаднику глаза, теперь уже явно полные не дождинок, а слез.
– Кто тебе этот человек? – вопросом на вопрос ответил всадник.
– Он мне сын. Не приближайся, добрый человек – это опасно.
– Нет! – он усмехнулся. – Сейчас, полагаю, твой сын не опасен. И не надо лгать – больных оспой мне случалось видеть. Послушай, женщина, я знаю здесь неподалеку, в нескольких верстах, одну знахарку. Мне за время осады дважды случалось к ней ездить: один раз она извлекла мне стрелу из раны, которая уже воспалилась и опухла, второй раз помогла моему больному товарищу. Думаю, эта женщина вылечит и твоего сына, а у меня еще найдется несколько золотых, чтобы ей заплатить.
Женщина смотрела на него и понимала, что, вопреки всему, почему-то ему верит. Он неплохо говорил по-русски, и хотя в сгущающейся темноте она не могла рассмотреть его лица, ей показалось, что оно, по крайней мере, не вызывает неприязни.
– Но… У меня ничего нет. Ничего, что я бы могла тебе дать!
– А я у тебя чего-нибудь прошу? Надо спешить – вот-вот ночь, и по этой грязище будет вовсе не проехать. Укрой его, бери вожжи и поезжай за мной.
И, развернув коня, он тихим шагом пустил его вперед, в сторону трепещущих вдалеке огней далекой деревни.
Часть II
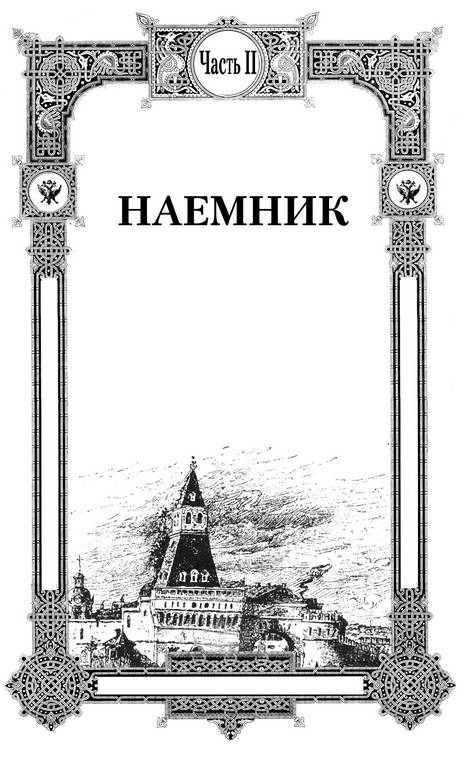
Глава 1. Прерванный ужин
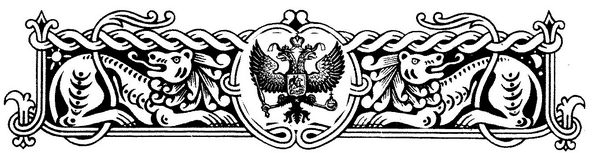
Второй день над Замоскворечьем курился горький густой дым. Горели несколько дворов да дом купца Пантелея Косого, его знаменитые винные погреба, накануне дочиста ограбленные, а после, чтоб с грабителей не было спроса, вдобавок и подожженные. Для чего лихим ратникам полковника Гонсевского понадобилось палить еще и обычные, небогатые дома, вряд ли кто смог бы сказать. Верно, они и сами не вспомнили бы, что их так обозлило – то ли кто-то из жителей Замоскворечья попытался вступиться за ограбленного, вот уж второй раз кряду, Пантюшку Косого, то ли приглянулась ненароком возле двора чья-то женка, а муж оказался несговорчив…
Это был далеко не первый такой пожар. Год назад, когда москвичи попытались поднять бунт против захвативших Москву поляков, те пожгли более половины города, и Замоскворечью досталось едва ли не более всего. После усмирения бунта жители принялись вновь отстраиваться, но отныне напуганные восстанием и обозленные сопротивлением ляхи уже не оставляли их в покое. Каждый раз, совершая вылазку из Китай-города, где они квартировали и занимали позиции, воины польского гарнизона обязательно затевали, по выражению москвичей, «какое-нибудь баловство» – и после их «баловства» непременно где-то что-то горело, кто-то считал убытки, а порою бывали и похороны… Любое возмущение против самовольства новых «охранителей» Москвы они почитали бунтом и спешили отцепить от поясов сабли.
– Вот ведь, почитай, с десяток обозов к ним тут давеча прикатили – снеди, вина, может, не на всех этих вояк с достатком, но все же не наши тощие харчи! Так чего ж они на чужое-то добро губу раскатывают? Их сюда звали, чтоб порядок был, чтоб, значит, смуту кончить, а с ними и смуты еще более, да и покоя не видать – страх один!
Так рассуждал, вздыхая, немолодой хозяин постоялого двора, аккуратно надрезая пухлый каравай и укладывая краюшку на деревянный поднос. Хлеб, на вид аппетитный, был на самом деле отрубной, да еще с солидным добавлением сушеной лебеды. Трактирщик был рад и этому: в последние месяцы Москва, пережившая уже не одно нашествие и осаду, оскудела мукой, да и другими съестными припасами. Их стало не хватать даже польскому гарнизону Кремля и Китай-города, хотя из Твери, где разместилась основная часть армии, часто приходили обозы, составленные из того, что еще удавалось насобирать, а вернее – награбить по многочисленным русским селам. Но более половины сел были уже дочиста разорены, а многие за сопротивление грабежу сожжены, да и обозы доходили не все: всё чаще и чаще их громили на подъездных дорогах лихие люди.
В последнее время хлеб, пускай и отрубной, замешанный с предусмотрительно запасенной лебедой, был скорее привилегией окраин – оборотистые их жители тоже ездили по деревням. Само собою, они их не грабили, но выменивали на всякие городские изделия отруби, жмых, репу и прочую снедь, которую до сих пор не догадывались тащить поляки.
Это побудило гарнизонных служак устраивать все новые поборы по окраинам – прежде они охотились только за вином, теперь не брезговали набивать мешки и репой с отрубями, вновь оставляя местных ни с чем и вызывая тем все большую злобу, если только она могла стать еще больше… Правда, все помнили с какой сатанинской жестокостью завоеватели расправились с ополченцами, пытавшимися год назад выбить их из Москвы[21]. Особенно тогда зверствовали шведские наемники, вернувшиеся со Сретенки, где им особенно упорно сопротивлялись, сплошь залитыми кровью, будто настоящие мясники… Это вызывало страх, но не умаляло ненависти.
– Говорил, мол, пришли с миром! – продолжал бубнить себе под нос хозяин, укладывая небольшую краюху рядом с пузатой глиняной кружкой, в которую он перед тем нацедил вина из небольшого бочонка. – Ну, и где их мир? Чем они лучше того же поганого Гришки Отрепьева или второго ворюги, что раскатал губу на русское царство?
Слушать его сетования было особенно некому: в просторной зале, кроме него, находились только двое молоденьких дьячков, вот уже час тянувших это же вино, каждый из своей кружки, и негромко ведших какую-то свою беседу, да еще тот, для кого он готовил заказанное угощение и кого не без основания готов был считать своим постояльцем, хотя бы на нынешнюю ночь.
Во всяком случае, вряд ли этот заявившийся уже под вечер путник рассчитывает обрести иной ночлег в негостеприимной ныне Москве.
С виду гость постоялого двора походил на служилого человека, по какой-то причине потерявшего свою службу. Ему казалось лет двадцать пять, он был повыше среднего роста, и даже бесформенный овчинный тулуп, надетый поверх короткого, чуть за колено, потрепанного кафтана, не мог скрыть его ладной фигуры, в которой угадывалась сила и природная стать. Когда он стащил и кинул на скамью вылезшую заячью шапку, оказалось, что волосы у него светлые, чуть вьющиеся, подстриженные, опять же, как у служилых людей, кружком. Бороду он стриг так коротко, что она не скрывала формы тяжелого, почти резкого подбородка, выдающего злость и волю, равно как и узкие, твердо сжатые губы, и вертикальная складка меж темных, не в цвет волос, бровей. Однако глаза путника были словно с другого лица: светло-серые, как низко нависшее над зимней Москвой небо, очень спокойные, почти холодные, они казались старше и смотрели мудро и равнодушно.
Тулупа путник не снял – видно, намерзся, шагая сюда долгими верстами. Усевшись за длинный стол, он только распахнул верхнюю одежду, и сбоку мелькнула рукоять висевшей у пояса сабли.
Хозяина это не удивило и не насторожило: в нынешнее неспокойное время кто же ходит без оружия, да еще странствуя по небезопасным дорогам, через города и села, занятые Бог весть кем, через леса, полные лихого люда? Другое дело, поможет ли сабля, если встретятся на пути полдюжины грабителей?
К хлебу и вину хозяин добавил плошку тушеной репы и без лишних слов поставил все это перед путником. Тот поблагодарил кивком головы и, выудив из кармана горстку медяков, кинул на поднос, затем встал, широко перекрестился на висящие в красном углу образа, про себя прочел молитву и, вновь усевшись, не спеша принялся за еду.
Пока хозяин угощал путника, в залу вошел, впустив следом за собой клубы морозного пара, еще один гость. Он был в распахнутой лисьей шубе, надетой поверх голубого с золочеными петлями жупана и так же расстегнутой делии. На голове его красовалась черная суконная магерка[22], края которой были, разумеется, опущены, чтобы прикрыть затылок и уши.
Это характерное облачение польского воина дополняли черные, стянутые возле колен штаны и черные башмаки с небольшим каблуком. Когда же вошедший небрежно стряхнул с плеч свою шубу, стало видно, что к его поясу, вместе с широкой венгерской саблей, привешены еще и пистолет с пороховницей. Такие пистолеты вместо обычного фитильного ружья носили десятники[23] и ротмистры[24], однако похоже было, что этот солдат просто разжился где-то дорогим пистолетом и, оставив ружье в Китай-городе, предпочитает таскать с собой более легкое и удобное оружие.
Болтавшие за своим столом дьячки при появлении поляка сразу приумолкли, настороженно поглядывая в его сторону, а хозяин украдкой осенил себя крестом, но тотчас заспешил к лавке, на которую пришелец сперва швырнул свою шубу, а потом уселся и сам.
Впрочем, едва он снял магерку, опытный трактирщик сразу же смекнул, что его новый гость вовсе не поляк: его волосы не были подстрижены кружком по самой макушке, а затылок и виски не были выбриты. Напротив, густая каштановая шевелюра воина была лишь аккуратно подстрижена на висках, а сзади чуть не доходила до плеч.
«Немец! – подумал хозяин. – Швед какой-нибудь, либо германец. Наемник![25]»
Эта мысль заставила его облегченно вздохнуть. Все тот же опыт подсказывал ему, что от наемного немца в любом случае неприятностей меньше, чем от ляха… Когда немцев посылают в сражение, они куда страшней храбрецов Речи Посполитой, но грабежом и поборами занимаются реже и если заказывают скудную еду, то обычно платят за нее.
– Что будет угодно? – спросил он, слегка поклонившись вошедшему.
– Вина, да побольше! – ответил тот на очень правильном русском языке, лишь слегка гортанно нажимая на отдельные слоги, что подтверждало догадку трактирщика: поляки так не говорили.
– А кушанья какого принести? Репа есть тушеная с морковью, рыба под луковым соусом – утром с сыном сами наловили. Хлеб только из печи, отрубной, правда, иного ныне не сыщешь, кроме как за стенами.
И трактирщик выразительно мотнул головой в сторону Китай-города.
– И там уже не хватает, – вздохнул немец. – Хлеба принеси. Можно и рыбы. Дичи, конечно, нет?
– Помилуйте! Не извольте гневаться! Откуда бы?!
– Ладно. Главное – вина.
Наемник окинул взглядом залу, и глаза его, равнодушно скользнув по забившимся в угол дьячкам, почти сразу задержались на путнике, спокойно поглощавшем в это время хлеб и вино.
Путник, в свою очередь, посмотрел на пришедшего, не выдав (как, впрочем, и тот) ни любопытства, ни враждебности. Однако стальной блеск и холод его глаз заставили немца вглядеться еще пристальнее.
– Что так смотришь? – спросил молодой человек, отхлебнув вина.
– Интересно стало, – ответил наемник и чуть приметно усмехнулся.
– А что интересно?
– Да так просто. Если обидел, прости. А почему один хлеб ешь? Я вот рыбу заказал, а теперь думаю – не отравлюсь ли?
Путник пожал плечами:
– Боишься – не ешь. А вообще у нас гостей не травят, даже и незваных.
– Если так, слава Богу!
И немец переключил свое внимание на поданные хозяином вино и закуску. Покуда дьячки допивали свое вино и поспешно надевали тулупы, а путник, возможно, и впрямь решивший тут заночевать, неспешно тянул все ту же кружку, наемник опустошил уже две, доливая себе из принесенного хозяином кувшина. Однако было совсем не похоже, чтобы он начал пьянеть – его глаза оставались ясными, а движения точными. Путник украдкой тоже приглядывался к нему. Немцу было на вид слегка за тридцать. Среднего роста, худощавый, он был одновременно мягок и легок в каждом движении и, вместе с тем, упруг и напряжен, точно натянутый лук. Его вытянутое, продолговатое лицо, если смотреть прямо, казалось задумчивым, почти печальным, однако же в профиль выглядело будто чеканный рельеф – в нем виделась могучая сила, которую невозможно было скрыть. Высокий скошенный лоб, длинный, с плавной горбинкой нос, густые, будто вышитые темным шелком брови вразлет, небольшой выразительный рот и крупный, выступающий подбородок – ничего лишнего, ничего случайного, что добавляло бы этому лицу какой-либо загадки. Загадочны были только глаза – большие, зеленые, как аквамарины, одновременно насмешливые и грустные.
Видимо, наемник не вызвал у молодого путника неприязни. Его лицо смягчилось, и следующий взгляд, брошенный на нечаянного соседа по застолью, показался куда приветливее. Тот, видимо, это заметил и, налив себе третью кружку, слегка приподнял ее над столом:
– Пью здоровье храброго путешественника. Если судить по вашим сапогам, вы прошагали не один десяток миль, а дороги теперь опасны.
– Что верно, то верно, – согласился путник. – Пресвятая Богородица внимала моим молитвам.
В это время из-за плотно прикрытой двери донеслись чьи-то громкие голоса, грубый смех, и вслед за этим дверь распахнулась, на этот раз во всю ширину.
В залу вошли, а вернее сказать, ввалились восемь человек поляков, в тулупах, которые они тут же принялись скидывать на скамейки, а кто и прямо на пол, и в таких же, как у наемника, матерках, натянутых до самых глаз. Жупаны и делии у них были тех же цветов и выдавали принадлежность к московскому гарнизону воеводы Гонсевского.
– Што тут хозяин?! – завопил высокий, мощный детина, судя по дарде[26], которой он размахивал, десятник.
– Што нам подает вина? Быстро, или будешь долго жалеть!
– Принесу сей же час, не надобно беспокоиться! – отозвался хозяин, с привычной расторопностью кидаясь сперва к высокой деревянной полке за кружками, а затем к бочонку. Из внутренней комнаты, едва заслышав шум в зале, выскочил паренек лет четырнадцати – хозяйский сын, и принялся помогать родителю, нарезая хлеб и спешно выуживая из печи еще один горшок с тушеной рыбой.
Это делалось на всякий случай: хозяин отлично видел, что на сей раз поляки, кажется, не голодны – их единственным желанием было поскорее приложиться к вину, которое они, судя по всему, в этот день уже не раз и не два уважили. Посему он надеялся сберечь уже приготовленную снедь и как можно быстрее водрузил на стол, за которым всей ватагой уселись «гости», пару объемистых кувшинов и груду кружек.
Компания живо принялась разливать желанную влагу, шумя и отпуская шуточки по поводу «жуткого русского мороза». Заметив в зале немца и признав в нем, видимо, отчасти «своего», десятник помахал ему и жестом пригласил за их стол, однако тот лишь кивнул в ответ на приветствие и остался там, где и сидел.
– А почему мы сели не у печи? – проглотив первую порцию вина, вдруг воскликнул один из пехотинцев. – Почему у нас, защитников Москвы, здесь не лучшие места?! Эй, мальшик, перейди-ка оттуда, нам там будет лучше!
Это оскорбительное «мальшик» относилось к молодому путнику, который все это время продолжал трапезничать, будто бы и не замечая шумной компании. Услыхав грубое требование пехотинца, он не только не сдвинулся с места, но даже и не пошевелился. Только в светлых глазах на миг полыхнуло опасное пламя, и тотчас они вновь угасли. Он сделал вид, что не слышал либо не понял требования поляка.
– Ты что, глухой? – спросил на сей раз десятник, откладывая дарду, грузно поднимаясь из-за стола и направляясь к русскому. – Тебя, деревенщина, просят уступить место храбрым воинам, которым отгрыз уши здешний поганый мороз! Забирай свою корку и свою кружку и поди отсюда в любой угол!
И вновь лицо путника не выразило никаких чувств. Он отхлебнул из кружки и небрежно откинулся, привалившись спиной к стене, ясно показывая, что не собирается вставать.
– Я, – медленно и раздельно проговорил он, – сижу там, куда сел, когда сюда пришел. Мне это место подходит, я на нем сидеть и буду. А если вам, пан десятник, не нравятся наши морозы, никто вам не мешает греться у себя дома.
– Да, золото, – всадник опять потряс кошелем. – Нам не заплатили, однако мы кое-что нашли для себя в городе сами. Пары монеток из этого мешочка хватит, чтобы окупить потерю вашего оружия, пан. Остальное отдаю за жизнь этих людей.
– Да зачем тебе?.. – начал было старший разъезда, но другой поляк потянул его за рукав:
– Збышек, на кой нам знать причуды этого германца? Бери скорее золотишко, и пускай ведьма катит со своим сынком в самую людную русскую деревню. Лучше будет потом ее всю выжечь, когда они там перемрут.
– Давай золото! – добродушно оскалился старший.
– Сперва освободите дорогу!
Разъезд объехал телегу и удалился на пяток саженей, после чего всадник ловко кинул свой кошель прямо в раскрытую ладонь поляка.
– Доброго вам пути, паны!
Когда копыта польских коней отплюхали по лужам и все стихло, немецкий воин подъехал к телеге. Женщина, стоя на коленях, держала край рогожи над головой бесчувственного мужчины и осторожно вытирала его лицо чистым белым платком. Ее спина при этом слегка подрагивала.
– Почему ты нам помог? – тихо спросила она, поднимая к всаднику глаза, теперь уже явно полные не дождинок, а слез.
– Кто тебе этот человек? – вопросом на вопрос ответил всадник.
– Он мне сын. Не приближайся, добрый человек – это опасно.
– Нет! – он усмехнулся. – Сейчас, полагаю, твой сын не опасен. И не надо лгать – больных оспой мне случалось видеть. Послушай, женщина, я знаю здесь неподалеку, в нескольких верстах, одну знахарку. Мне за время осады дважды случалось к ней ездить: один раз она извлекла мне стрелу из раны, которая уже воспалилась и опухла, второй раз помогла моему больному товарищу. Думаю, эта женщина вылечит и твоего сына, а у меня еще найдется несколько золотых, чтобы ей заплатить.
Женщина смотрела на него и понимала, что, вопреки всему, почему-то ему верит. Он неплохо говорил по-русски, и хотя в сгущающейся темноте она не могла рассмотреть его лица, ей показалось, что оно, по крайней мере, не вызывает неприязни.
– Но… У меня ничего нет. Ничего, что я бы могла тебе дать!
– А я у тебя чего-нибудь прошу? Надо спешить – вот-вот ночь, и по этой грязище будет вовсе не проехать. Укрой его, бери вожжи и поезжай за мной.
И, развернув коня, он тихим шагом пустил его вперед, в сторону трепещущих вдалеке огней далекой деревни.
Часть II
НАЕМНИК
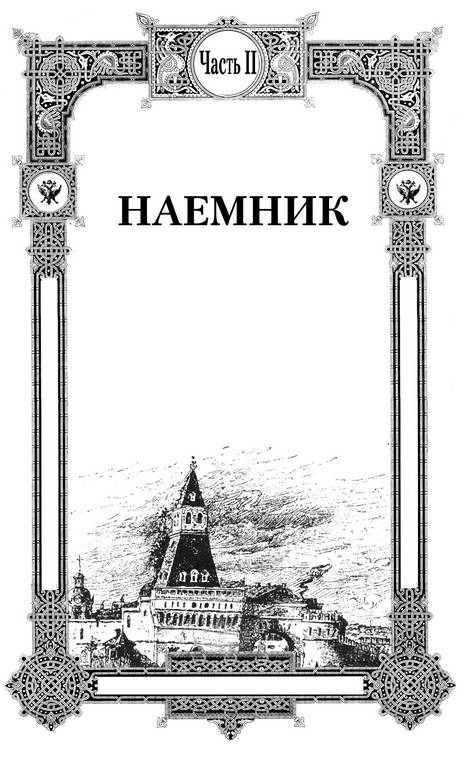
Глава 1. Прерванный ужин
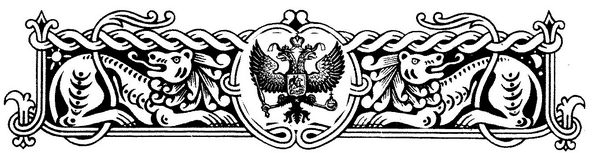
Второй день над Замоскворечьем курился горький густой дым. Горели несколько дворов да дом купца Пантелея Косого, его знаменитые винные погреба, накануне дочиста ограбленные, а после, чтоб с грабителей не было спроса, вдобавок и подожженные. Для чего лихим ратникам полковника Гонсевского понадобилось палить еще и обычные, небогатые дома, вряд ли кто смог бы сказать. Верно, они и сами не вспомнили бы, что их так обозлило – то ли кто-то из жителей Замоскворечья попытался вступиться за ограбленного, вот уж второй раз кряду, Пантюшку Косого, то ли приглянулась ненароком возле двора чья-то женка, а муж оказался несговорчив…
Это был далеко не первый такой пожар. Год назад, когда москвичи попытались поднять бунт против захвативших Москву поляков, те пожгли более половины города, и Замоскворечью досталось едва ли не более всего. После усмирения бунта жители принялись вновь отстраиваться, но отныне напуганные восстанием и обозленные сопротивлением ляхи уже не оставляли их в покое. Каждый раз, совершая вылазку из Китай-города, где они квартировали и занимали позиции, воины польского гарнизона обязательно затевали, по выражению москвичей, «какое-нибудь баловство» – и после их «баловства» непременно где-то что-то горело, кто-то считал убытки, а порою бывали и похороны… Любое возмущение против самовольства новых «охранителей» Москвы они почитали бунтом и спешили отцепить от поясов сабли.
– Вот ведь, почитай, с десяток обозов к ним тут давеча прикатили – снеди, вина, может, не на всех этих вояк с достатком, но все же не наши тощие харчи! Так чего ж они на чужое-то добро губу раскатывают? Их сюда звали, чтоб порядок был, чтоб, значит, смуту кончить, а с ними и смуты еще более, да и покоя не видать – страх один!
Так рассуждал, вздыхая, немолодой хозяин постоялого двора, аккуратно надрезая пухлый каравай и укладывая краюшку на деревянный поднос. Хлеб, на вид аппетитный, был на самом деле отрубной, да еще с солидным добавлением сушеной лебеды. Трактирщик был рад и этому: в последние месяцы Москва, пережившая уже не одно нашествие и осаду, оскудела мукой, да и другими съестными припасами. Их стало не хватать даже польскому гарнизону Кремля и Китай-города, хотя из Твери, где разместилась основная часть армии, часто приходили обозы, составленные из того, что еще удавалось насобирать, а вернее – награбить по многочисленным русским селам. Но более половины сел были уже дочиста разорены, а многие за сопротивление грабежу сожжены, да и обозы доходили не все: всё чаще и чаще их громили на подъездных дорогах лихие люди.
В последнее время хлеб, пускай и отрубной, замешанный с предусмотрительно запасенной лебедой, был скорее привилегией окраин – оборотистые их жители тоже ездили по деревням. Само собою, они их не грабили, но выменивали на всякие городские изделия отруби, жмых, репу и прочую снедь, которую до сих пор не догадывались тащить поляки.
Это побудило гарнизонных служак устраивать все новые поборы по окраинам – прежде они охотились только за вином, теперь не брезговали набивать мешки и репой с отрубями, вновь оставляя местных ни с чем и вызывая тем все большую злобу, если только она могла стать еще больше… Правда, все помнили с какой сатанинской жестокостью завоеватели расправились с ополченцами, пытавшимися год назад выбить их из Москвы[21]. Особенно тогда зверствовали шведские наемники, вернувшиеся со Сретенки, где им особенно упорно сопротивлялись, сплошь залитыми кровью, будто настоящие мясники… Это вызывало страх, но не умаляло ненависти.
– Говорил, мол, пришли с миром! – продолжал бубнить себе под нос хозяин, укладывая небольшую краюху рядом с пузатой глиняной кружкой, в которую он перед тем нацедил вина из небольшого бочонка. – Ну, и где их мир? Чем они лучше того же поганого Гришки Отрепьева или второго ворюги, что раскатал губу на русское царство?
Слушать его сетования было особенно некому: в просторной зале, кроме него, находились только двое молоденьких дьячков, вот уже час тянувших это же вино, каждый из своей кружки, и негромко ведших какую-то свою беседу, да еще тот, для кого он готовил заказанное угощение и кого не без основания готов был считать своим постояльцем, хотя бы на нынешнюю ночь.
Во всяком случае, вряд ли этот заявившийся уже под вечер путник рассчитывает обрести иной ночлег в негостеприимной ныне Москве.
С виду гость постоялого двора походил на служилого человека, по какой-то причине потерявшего свою службу. Ему казалось лет двадцать пять, он был повыше среднего роста, и даже бесформенный овчинный тулуп, надетый поверх короткого, чуть за колено, потрепанного кафтана, не мог скрыть его ладной фигуры, в которой угадывалась сила и природная стать. Когда он стащил и кинул на скамью вылезшую заячью шапку, оказалось, что волосы у него светлые, чуть вьющиеся, подстриженные, опять же, как у служилых людей, кружком. Бороду он стриг так коротко, что она не скрывала формы тяжелого, почти резкого подбородка, выдающего злость и волю, равно как и узкие, твердо сжатые губы, и вертикальная складка меж темных, не в цвет волос, бровей. Однако глаза путника были словно с другого лица: светло-серые, как низко нависшее над зимней Москвой небо, очень спокойные, почти холодные, они казались старше и смотрели мудро и равнодушно.
Тулупа путник не снял – видно, намерзся, шагая сюда долгими верстами. Усевшись за длинный стол, он только распахнул верхнюю одежду, и сбоку мелькнула рукоять висевшей у пояса сабли.
Хозяина это не удивило и не насторожило: в нынешнее неспокойное время кто же ходит без оружия, да еще странствуя по небезопасным дорогам, через города и села, занятые Бог весть кем, через леса, полные лихого люда? Другое дело, поможет ли сабля, если встретятся на пути полдюжины грабителей?
К хлебу и вину хозяин добавил плошку тушеной репы и без лишних слов поставил все это перед путником. Тот поблагодарил кивком головы и, выудив из кармана горстку медяков, кинул на поднос, затем встал, широко перекрестился на висящие в красном углу образа, про себя прочел молитву и, вновь усевшись, не спеша принялся за еду.
Пока хозяин угощал путника, в залу вошел, впустив следом за собой клубы морозного пара, еще один гость. Он был в распахнутой лисьей шубе, надетой поверх голубого с золочеными петлями жупана и так же расстегнутой делии. На голове его красовалась черная суконная магерка[22], края которой были, разумеется, опущены, чтобы прикрыть затылок и уши.
Это характерное облачение польского воина дополняли черные, стянутые возле колен штаны и черные башмаки с небольшим каблуком. Когда же вошедший небрежно стряхнул с плеч свою шубу, стало видно, что к его поясу, вместе с широкой венгерской саблей, привешены еще и пистолет с пороховницей. Такие пистолеты вместо обычного фитильного ружья носили десятники[23] и ротмистры[24], однако похоже было, что этот солдат просто разжился где-то дорогим пистолетом и, оставив ружье в Китай-городе, предпочитает таскать с собой более легкое и удобное оружие.
Болтавшие за своим столом дьячки при появлении поляка сразу приумолкли, настороженно поглядывая в его сторону, а хозяин украдкой осенил себя крестом, но тотчас заспешил к лавке, на которую пришелец сперва швырнул свою шубу, а потом уселся и сам.
Впрочем, едва он снял магерку, опытный трактирщик сразу же смекнул, что его новый гость вовсе не поляк: его волосы не были подстрижены кружком по самой макушке, а затылок и виски не были выбриты. Напротив, густая каштановая шевелюра воина была лишь аккуратно подстрижена на висках, а сзади чуть не доходила до плеч.
«Немец! – подумал хозяин. – Швед какой-нибудь, либо германец. Наемник![25]»
Эта мысль заставила его облегченно вздохнуть. Все тот же опыт подсказывал ему, что от наемного немца в любом случае неприятностей меньше, чем от ляха… Когда немцев посылают в сражение, они куда страшней храбрецов Речи Посполитой, но грабежом и поборами занимаются реже и если заказывают скудную еду, то обычно платят за нее.
– Что будет угодно? – спросил он, слегка поклонившись вошедшему.
– Вина, да побольше! – ответил тот на очень правильном русском языке, лишь слегка гортанно нажимая на отдельные слоги, что подтверждало догадку трактирщика: поляки так не говорили.
– А кушанья какого принести? Репа есть тушеная с морковью, рыба под луковым соусом – утром с сыном сами наловили. Хлеб только из печи, отрубной, правда, иного ныне не сыщешь, кроме как за стенами.
И трактирщик выразительно мотнул головой в сторону Китай-города.
– И там уже не хватает, – вздохнул немец. – Хлеба принеси. Можно и рыбы. Дичи, конечно, нет?
– Помилуйте! Не извольте гневаться! Откуда бы?!
– Ладно. Главное – вина.
Наемник окинул взглядом залу, и глаза его, равнодушно скользнув по забившимся в угол дьячкам, почти сразу задержались на путнике, спокойно поглощавшем в это время хлеб и вино.
Путник, в свою очередь, посмотрел на пришедшего, не выдав (как, впрочем, и тот) ни любопытства, ни враждебности. Однако стальной блеск и холод его глаз заставили немца вглядеться еще пристальнее.
– Что так смотришь? – спросил молодой человек, отхлебнув вина.
– Интересно стало, – ответил наемник и чуть приметно усмехнулся.
– А что интересно?
– Да так просто. Если обидел, прости. А почему один хлеб ешь? Я вот рыбу заказал, а теперь думаю – не отравлюсь ли?
Путник пожал плечами:
– Боишься – не ешь. А вообще у нас гостей не травят, даже и незваных.
– Если так, слава Богу!
И немец переключил свое внимание на поданные хозяином вино и закуску. Покуда дьячки допивали свое вино и поспешно надевали тулупы, а путник, возможно, и впрямь решивший тут заночевать, неспешно тянул все ту же кружку, наемник опустошил уже две, доливая себе из принесенного хозяином кувшина. Однако было совсем не похоже, чтобы он начал пьянеть – его глаза оставались ясными, а движения точными. Путник украдкой тоже приглядывался к нему. Немцу было на вид слегка за тридцать. Среднего роста, худощавый, он был одновременно мягок и легок в каждом движении и, вместе с тем, упруг и напряжен, точно натянутый лук. Его вытянутое, продолговатое лицо, если смотреть прямо, казалось задумчивым, почти печальным, однако же в профиль выглядело будто чеканный рельеф – в нем виделась могучая сила, которую невозможно было скрыть. Высокий скошенный лоб, длинный, с плавной горбинкой нос, густые, будто вышитые темным шелком брови вразлет, небольшой выразительный рот и крупный, выступающий подбородок – ничего лишнего, ничего случайного, что добавляло бы этому лицу какой-либо загадки. Загадочны были только глаза – большие, зеленые, как аквамарины, одновременно насмешливые и грустные.
Видимо, наемник не вызвал у молодого путника неприязни. Его лицо смягчилось, и следующий взгляд, брошенный на нечаянного соседа по застолью, показался куда приветливее. Тот, видимо, это заметил и, налив себе третью кружку, слегка приподнял ее над столом:
– Пью здоровье храброго путешественника. Если судить по вашим сапогам, вы прошагали не один десяток миль, а дороги теперь опасны.
– Что верно, то верно, – согласился путник. – Пресвятая Богородица внимала моим молитвам.
В это время из-за плотно прикрытой двери донеслись чьи-то громкие голоса, грубый смех, и вслед за этим дверь распахнулась, на этот раз во всю ширину.
В залу вошли, а вернее сказать, ввалились восемь человек поляков, в тулупах, которые они тут же принялись скидывать на скамейки, а кто и прямо на пол, и в таких же, как у наемника, матерках, натянутых до самых глаз. Жупаны и делии у них были тех же цветов и выдавали принадлежность к московскому гарнизону воеводы Гонсевского.
– Што тут хозяин?! – завопил высокий, мощный детина, судя по дарде[26], которой он размахивал, десятник.
– Што нам подает вина? Быстро, или будешь долго жалеть!
– Принесу сей же час, не надобно беспокоиться! – отозвался хозяин, с привычной расторопностью кидаясь сперва к высокой деревянной полке за кружками, а затем к бочонку. Из внутренней комнаты, едва заслышав шум в зале, выскочил паренек лет четырнадцати – хозяйский сын, и принялся помогать родителю, нарезая хлеб и спешно выуживая из печи еще один горшок с тушеной рыбой.
Это делалось на всякий случай: хозяин отлично видел, что на сей раз поляки, кажется, не голодны – их единственным желанием было поскорее приложиться к вину, которое они, судя по всему, в этот день уже не раз и не два уважили. Посему он надеялся сберечь уже приготовленную снедь и как можно быстрее водрузил на стол, за которым всей ватагой уселись «гости», пару объемистых кувшинов и груду кружек.
Компания живо принялась разливать желанную влагу, шумя и отпуская шуточки по поводу «жуткого русского мороза». Заметив в зале немца и признав в нем, видимо, отчасти «своего», десятник помахал ему и жестом пригласил за их стол, однако тот лишь кивнул в ответ на приветствие и остался там, где и сидел.
– А почему мы сели не у печи? – проглотив первую порцию вина, вдруг воскликнул один из пехотинцев. – Почему у нас, защитников Москвы, здесь не лучшие места?! Эй, мальшик, перейди-ка оттуда, нам там будет лучше!
Это оскорбительное «мальшик» относилось к молодому путнику, который все это время продолжал трапезничать, будто бы и не замечая шумной компании. Услыхав грубое требование пехотинца, он не только не сдвинулся с места, но даже и не пошевелился. Только в светлых глазах на миг полыхнуло опасное пламя, и тотчас они вновь угасли. Он сделал вид, что не слышал либо не понял требования поляка.
– Ты что, глухой? – спросил на сей раз десятник, откладывая дарду, грузно поднимаясь из-за стола и направляясь к русскому. – Тебя, деревенщина, просят уступить место храбрым воинам, которым отгрыз уши здешний поганый мороз! Забирай свою корку и свою кружку и поди отсюда в любой угол!
И вновь лицо путника не выразило никаких чувств. Он отхлебнул из кружки и небрежно откинулся, привалившись спиной к стене, ясно показывая, что не собирается вставать.
– Я, – медленно и раздельно проговорил он, – сижу там, куда сел, когда сюда пришел. Мне это место подходит, я на нем сидеть и буду. А если вам, пан десятник, не нравятся наши морозы, никто вам не мешает греться у себя дома.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
