Страница:
Катерина Шпиллер
Рома, прости! Жестокая история первой любви
Что было дальше?
Предисловие
Когда вышла в свет повесть «Вам и не снилось…», написанная моей мамой Галиной Щербаковой, мне было четырнадцать. Через год на советских экранах появился одноименный фильм. В то время я была ровесницей персонажей этой драматической истории, жила теми же страстями, понимала их и плакала над печальной историей так же, как над «Ромео и Джульеттой». Да Рома и Юля и есть «Ромео и Джульетта» моего поколения. Я и сама узнала раннюю любовь, только, к счастью, в ней обошлось без трагедий. Оно и понятно: ведь моя мама, автор бестселлера, поющего гимн юной любви, была ангелом-хранителем моих чувств.
Все сказки кончаются свадьбой героев, трагедии – их гибелью или расставанием. А что дальше, после веселой свадьбы? И что было бы, если б трагедии не произошло? Стоит ли задаваться подобными вопросами, ведь как просто в конце произведения поставить оптимистический восклицательный знак или капнуть слезой точку.
Не знаю, повезло маме или нет: я, в чем-то идентифицируя себя с героями ее нашумевшей повести, возможно, сумела ответить на эти вопросы. Я понимала и разделяла чувства юных влюбленных. Но, взрослея, продолжала жить реальной жизнью, а те девочка и мальчик обречены были навсегда остаться в десятом классе. В их семнадцать лет мы попрощались с ними и в блестящем фильме Ильи Фрэза. Но случилось чудо: герои стали взрослеть вместе со мной. Они жили, как говорится, по соседству. Мы часто встречались во дворе, сталкивались в магазинах, на одной дворовой площадке выгуливали появившихся детей. И через какое-то время я вдруг поняла, что о них (о нас!) надо рассказать. Что на назойливый вопрос: «Что было дальше?» – нужно ответить. И я это сделала…
Многие бросили в меня камни: я разрушила сказку. Но, простите, я с детства так «слиплась» с героями повести Галины Щербаковой, что и дальше буду писать об их (нашей) судьбе. Пока жизнь идет, они тоже живут. Рядом с нами. Похожие на нас. Наши сверстники. «Ромео и Джульетта» много-много лет спустя.
Конец этой истории мог быть только печальным. Возможно, в этом даже мудрость жизни: первое чувство – это лишь тренировка взрослых отношений, на основе которых должна строиться семья, рождаться и воспитываться дети. Я абсолютно уверена, что в 16 лет создавать семью – глупо и смешно (а то и трагично). И не надо кричать о Ромео и Джульетте: иные времена, нравы и продолжительность жизни. Глупо переносить те опыт и традиции на сегодняшнее постсоветское пространство.
Странные бывают претензии со стороны некоторых читателей к событиям в моей книге. К примеру, несколько раз мне задавали вопрос: отчего это ребенок у героев появился аж через сколько-то лет после женитьбы? Мой ответ: а почему этого не могло произойти? Я сама родила дочь через 5 лет после начала супружеской жизни. И что? Положено рожать сразу? Кем положено? С какой такой стати? Кое-кто даже ляпнул, что ребенок должен был родиться в первый же год, так как тогда еще не было противозачаточных средств (сразу вспомнилось бессмертное «В СССР секса нет!»). Как выражаются сейчас молодые, «ржунимагу». Конечно, страна была недоразвитая и бедная, но уж презервативы, поверьте, в продаже были. И многие мои сверстники решали, что рожать можно, когда уже есть собственная жилплощадь и какой-никакой заработок. Оказывается, даже это нужно объяснять.
Еще из смешных вопросов. Как же мог так измениться Роман? Ведь был ответственный мальчик и вдруг превратился в рохлю. Отвечаю: совсем не редкий случай, а уж тем более в 90-е годы! Да и людям свойственно меняться, тем более когда они еще растут и взрослеют. К тому же парень пережил тяжелую травму, почти что смерть, стал инвалидом, а подобные события ой как меняют людей! Объясняю это тем, кто самостоятельно мыслить не способен.
Впрочем, больше не хочу обсуждать глупые отклики.
Если и после этих слов вы не отбросите книгу, могу только пожелать приятного чтения!
Все сказки кончаются свадьбой героев, трагедии – их гибелью или расставанием. А что дальше, после веселой свадьбы? И что было бы, если б трагедии не произошло? Стоит ли задаваться подобными вопросами, ведь как просто в конце произведения поставить оптимистический восклицательный знак или капнуть слезой точку.
Не знаю, повезло маме или нет: я, в чем-то идентифицируя себя с героями ее нашумевшей повести, возможно, сумела ответить на эти вопросы. Я понимала и разделяла чувства юных влюбленных. Но, взрослея, продолжала жить реальной жизнью, а те девочка и мальчик обречены были навсегда остаться в десятом классе. В их семнадцать лет мы попрощались с ними и в блестящем фильме Ильи Фрэза. Но случилось чудо: герои стали взрослеть вместе со мной. Они жили, как говорится, по соседству. Мы часто встречались во дворе, сталкивались в магазинах, на одной дворовой площадке выгуливали появившихся детей. И через какое-то время я вдруг поняла, что о них (о нас!) надо рассказать. Что на назойливый вопрос: «Что было дальше?» – нужно ответить. И я это сделала…
Многие бросили в меня камни: я разрушила сказку. Но, простите, я с детства так «слиплась» с героями повести Галины Щербаковой, что и дальше буду писать об их (нашей) судьбе. Пока жизнь идет, они тоже живут. Рядом с нами. Похожие на нас. Наши сверстники. «Ромео и Джульетта» много-много лет спустя.
* * *
Много лет назад таким было мое предисловие к первому изданию книги. Что я могу добавить теперь, когда опубликована другая моя книга – «Мама, не читай!» (а также ее продолжение) с рассказом о реальных людях – авторе повести «Вам и не снилось…» и ее близких и о совсем не безоблачных их отношениях? Мой взгляд на мир сильно изменился, теперь я не могу ни лицемерить, ни лгать, какими бы благими намерениями это не оправдывалось. Я стала мыслить по-другому. А думаю я теперь вот что: «Вам и не снилось…» Щербаковой – милая повесть о первой любви, сюжет «почти по Шекспиру. Написано хорошо, без шекспировских страстей, конечно, в меру розово-сопливо. Тогдашние девочки рыдали, мальчики, еще не избавившиеся от подростковых прыщей, стискивали зубы, сдерживая слезы. С тех пор те мальчики и девочки сильно выросли, многие стали взрослыми, а некоторые, лелея в себе ностальгию, так и остались умом и чувствами в далекой советской юности. Они и по сей день льют слезы над этой повестью о первой любви, им до сих пор нравятся сказочки о волшебстве и вечности подобных чувств, и они готовы драться насмерть за свои юношеские идеалы. К сожалению, у многих из этих престарелых романтиков красивые отношения в литературе и кино никак не корреспондируются с их собственными реальными поступками и делами (я не хочу обидеть тех, кто юношеский романтизм претворил во взрослую цельность натуры, порядочность и верность, таких людей я искренне уважаю, но, увы, встречаются они крайне редко, так что речь не о них). Я имею в виду тех читателей, которые стали обвинять меня в разрушении красивой сказки. Скажу честно, я сказок о реальной жизни не люблю. Может быть, потому, что я журналист, а не писатель. Почему я написала эту книгу? Не смогла устоять перед уговорами моей матери и издателя. Написала, но не как повесть, а скорее как журналистское расследование отношений и поступков моих знакомых, вполне вписывавшихся в персонажи маминой книги.Конец этой истории мог быть только печальным. Возможно, в этом даже мудрость жизни: первое чувство – это лишь тренировка взрослых отношений, на основе которых должна строиться семья, рождаться и воспитываться дети. Я абсолютно уверена, что в 16 лет создавать семью – глупо и смешно (а то и трагично). И не надо кричать о Ромео и Джульетте: иные времена, нравы и продолжительность жизни. Глупо переносить те опыт и традиции на сегодняшнее постсоветское пространство.
Странные бывают претензии со стороны некоторых читателей к событиям в моей книге. К примеру, несколько раз мне задавали вопрос: отчего это ребенок у героев появился аж через сколько-то лет после женитьбы? Мой ответ: а почему этого не могло произойти? Я сама родила дочь через 5 лет после начала супружеской жизни. И что? Положено рожать сразу? Кем положено? С какой такой стати? Кое-кто даже ляпнул, что ребенок должен был родиться в первый же год, так как тогда еще не было противозачаточных средств (сразу вспомнилось бессмертное «В СССР секса нет!»). Как выражаются сейчас молодые, «ржунимагу». Конечно, страна была недоразвитая и бедная, но уж презервативы, поверьте, в продаже были. И многие мои сверстники решали, что рожать можно, когда уже есть собственная жилплощадь и какой-никакой заработок. Оказывается, даже это нужно объяснять.
Еще из смешных вопросов. Как же мог так измениться Роман? Ведь был ответственный мальчик и вдруг превратился в рохлю. Отвечаю: совсем не редкий случай, а уж тем более в 90-е годы! Да и людям свойственно меняться, тем более когда они еще растут и взрослеют. К тому же парень пережил тяжелую травму, почти что смерть, стал инвалидом, а подобные события ой как меняют людей! Объясняю это тем, кто самостоятельно мыслить не способен.
Впрочем, больше не хочу обсуждать глупые отклики.
Если и после этих слов вы не отбросите книгу, могу только пожелать приятного чтения!
Часть 1
Встретимся в четверг
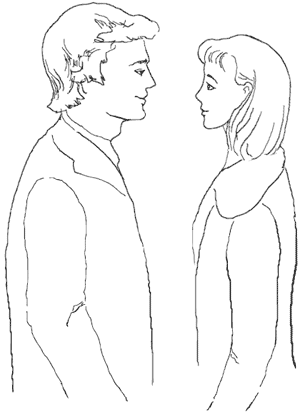
Рита заметила Юльку среди ярких полок воронцовского супермаркета. Это было забавно – встретиться именно здесь после пятнадцати лет… разлуки? Да нет, слишком красивое слово. С чего бы – разлука? Разве очень дружили? Лучше так: после пятнадцати лет «невиденья-неслышанья» друг друга. Рите показалось очень заманчивым поболтать со старинной знакомой…
Она решительно двинула тележку, на четверть заполненную шуршащими заморскими пакетиками, к Юльке – к юности, к десятому классу.
Юлька сошлась с Ритой после той истории… Роман полгода пролежал в больнице: полтора месяца в Ленинградской, потом врачи разрешили перевезти его в Москву. Лавочкин-старший получил от всего этого обширный инфаркт и вскоре умер. Когда они оба, папа и сын, находились в разных клиниках, Ромкина мама Вера Георгиевна буквально разрывалась между ними. Она похудела на двадцать кило и походила на семидесятилетнюю старуху. Потом стало полегче: Костя отдал Богу душу. Юлька поймала себя на том, что именно так и формулирует: полегче. Это еще с того времени тянется: как она тогда ненавидела их всех, вспомнить жутко! Мысленно отрезала им руки, ноги, сдирала с них кожу, выкалывала глаза. Она тоже торчала в Ромкиной больнице с утра до ночи, впрочем, ее не особенно к нему пускали. А она не больно-то и рвалась почему-то… Сидела себе внизу, в холле, в каком-то странном отупении от всяких успокаивающих таблеток, которыми ее пичкали, смотрела в одну точку и выдумывала «всем этим подонкам» разные казни.
Когда умер папа, Ромка, весь загипсованный, тихо плакал, жалобно закусив губу, а Юлька была рядом и гладила его бледную руку. Вера Георгиевна стояла и смотрела скорбно, губы ее тряслись.
Юлька же, глядя на нее, думала: «Ну что, дрянь, теперь полегче тебе будет?» Ромка застонал – от ненависти к его матери Юлька случайно очень сильно сжала переломанную, так любимую ею руку. Никто бы не подумал, сколько непрощающей злости помещалось в этой маленькой, худенькой девочке. Она и сама такого про себя не знала.
Но недолго Вера Георгиевна «отдыхала». От переживаний и стрессов тяжелый инсульт свалил-таки железную питерскую бабушку. «Бог наказал, накликали, – сказала тогда Юлькина мама Людмила Сергеевна. – Напридумывали себе для неправедного дела и получили в натуральную величину. А еще говорят, что Бога нет…»
Бабусю пришлось забрать в Москву, так как в Питере у Вериной сестры возникла сразу куча проблем: ремонт, покупка участка, неприятности на работе, открывшаяся у мужа язва и вообще: «Вся ситуация, Веруня, на твоей совести. Ты, конечно, сейчас в горе и все такое, но не можем же мы, вся семья, жить только твоими проблемами! Войди и в наше положение, наконец! У тебя квартирные условия позволяют, да и Ромасик практически поправился».
– Подонская семья от носа до хвоста, – резюмировала тогда Людмила Сергеевна. – Ты, дочь, подумай еще разок, ведь Рома – их семя.
– Ма, Рома в их семейке – урод. Он единственное оправдание существования этих людей…
Когда, выписавшись, Роман выходил из дверей больницы, на ступеньках около одного из столбов, поддерживающих крышу крыльца, стояла Юля. Она прижималась спиной к этому белому столбу, как к березе, словно черпая из него силы.
– Мама, – твердо сказал Рома. – Это, – он ткнул пальцем в Юльку, – моя жена. Или теперь мне надо сгореть, утонуть, застрелиться?..
Вера Георгиевна вздрогнула и закрыла лицо руками. Немая сцена длилась не меньше минуты. Юлька все не отходила от столба, он был такой надежный, прочный, гладкий и прохладный, к нему было очень приятно прислоняться – ведь уже стояло жаркое лето.
Наконец Вера Георгиевна отняла ладони от лица и тихо произнесла:
– Делайте, что хотите. Мне уже все равно. У меня теперь одна проблема – мама…
– Опять? – раздался насмешливый голос Юли, она отделилась от своей опоры и медленно направилась к Роману.
– Как ты смеешь? Ты?! Она теперь лежачая, совсем плохая… – Вера Георгиевна задохнулась от негодования.
– Мы ей будем носить кефир и апельсины, – отчеканила Юлька, взяла Ромку за руку и повела за собой. – Идем, Ром, нас дома ждут.
И он пошел, обалдевший от ее силы и напора, от ее безжалостных слов, от ее таких жестких и взрослых глаз.
Вера смотрела им вслед, испытывая нечто вроде облегчения. Ну и пусть, ну и ладно. Там о нем позаботятся. А ее, мать, он все равно любить будет, ведь он такой верный и правильный. Проблем же ей теперь и с мамой предостаточно: лекарства, больницы, сиделки…
– Меня жизнь наказала, но и до тебя, маленькая сучка, доберется, – прошептала Вера в спину Юльке.
Во время больничной эпопеи Юлька стала общаться с Ритой, которая училась в параллельном классе и увлекалась журналистикой. Ее уже не раз публиковали в «Комсомолке» и «Вечерке», и эта развитая во всех отношениях девочка норовила превратить в статью все, что встречалось на ее пути. Любое событие, любой более или менее интересный разговор вызывали у нее одну реакцию: «О! – пальчик вверх, бровки вверх. – Об этом надо бы написать!» И писала до посинения! Из двадцати ее «писулек» публиковалась в лучшем случае одна, но она продолжала упорно трудиться, копить написанное и уверяла, что «все это когда-нибудь пригодится».
История Романа и Юли подвигла ее на прямо-таки рекордное количество неопубликованных статей и заметок: о любви в шестнадцать, об отношениях поколений, о ханжестве и догматизме, об эгоистичности родительской любви… Невозможно вспомнить все темы, вычерпанные Ритой из случившейся драмы. Она бегала, как ненормальная, с блокнотом и ручкой, не стесняясь приставать ко всем: к одноклассникам Ромки и Юли, к учительнице Татьяне Николаевне, даже к родителям несчастных влюбленных. Правда, Людмила Сергеевна спокойно послала ее подальше, а Вера Георгиевна набросилась чуть не с кулаками, грозя сообщить «куда следует» и добавив: «Мы не Америка какая-нибудь, у нас личная жизнь граждан вовсе не для печати, наша журналистика – не такая! Ты, между прочим, комсомолка, а позволяешь себе тут с блокнотиком!»
Из непосредственных участников событий только Юлька, которой необходимо было выговориться, разрядиться, удостоила Риту вниманием. Взяв с нее слово ничего не тащить в газеты («Нет-нет, Юльчик, я только для себя, никому и никогда, клянусь грядущим аттестатом!»), Юля описала все подробно и с деталями, но, естественно, со своей колокольни. Умная Рита сделала поправки на Юлькино личное восприятие и довольно точно оценила и охарактеризовала для себя всех героев: Рома – наивный идеалист, хороший мальчик; Юлька – зациклившаяся на своей любви серенькая девочка; Вера Георгиевна – свихнутая на цыпленке курица-стерва; Людмила Сергеевна – женщина, которая любит и любима, а потому – умная и прелестная. Еще Татьяна Николаевна, учительница… Ее-то Рита и так знает: старая дева, из добрых, подвинутых на литературе и «нравственности». В сущности, ничего нового и интересного.
А вот Юльке надо помочь! Девочка явно не в себе. Цепляется пальчиками за пуговицы на Ритиной кофте и лихорадочно бормочет: «Не, ну ты представляешь? Не, ну ты слыхала?» Ее пичкают какими-то таблетками, а вот Рита замечает: выговорившись у нее на плече, Юлька уходит домой успокоившейся, даже какой-то посвежевшей без всяких лекарств. Так и «лечила» она ее. И каждый раз после больницы Юлька шла не домой, а к Рите, чем вызывала в матери некоторую ревность.
– Что тебе эта нагловатая девчонка? Ведь я твой друг, ты же знаешь… Иди ко мне, я с тобой, родная!
– Мама, мне дома сейчас трудно. Там ты с Володей… Вы такие красивые, счастливые…
– Доченька моя, я сейчас вся внутри умираю из-за тебя, я сгораю, задыхаюсь от твоего горя! И Володя переживает очень…
– Вы замечательные, мама, мне с вами повезло! Но пойми: есть вы – ты, Володя, Мася. И есть я. Я сейчас отдельно. Я люблю вас, обожаю Максимку, ты же знаешь. Но все вы – это радость, семья, счастье… Я не могу это видеть, прости… Не знаю, как объяснить…
– Ну, хорошо, хорошо… А Рита – это что?
– Она слушает меня просто… Чаем поит, говорит какие-то слова. Вроде ерунда, а мне легче почему-то. Не сердись, пожалуйста!
Людмила Сергеевна во все глаза смотрела на свою маленькую, щупленькую и такую взрослую девочку. Такое пережить в шестнадцать лет, не дай Бог! Ей казалось теперь, что дочь в чем-то мудрее, старше ее, ведь никогда ей не довелось испытать подобного. Все ее любови-романы были, как бы это сказать, нормально радостными, что ли? Конечно, с переживаниями, разумеется, со слезами и рыданиями, но никаких трагедий, родственников-монстров, больниц и смертей. Она-то думала, что вершина всех любовных неурядиц – это ее многолетнее стремление доказать всем, что брак с «мальчиком», годящимся ей в младшие братья, правилен, удачен и абсолютно нормален во всех отношениях. Доказала. Все трудности давно позади. А у дочери, у Юленьки – такой кошмар. И во сне не приснится!
Так что Людмила Сергеевна не обижалась на дочь. Пусть идет туда, где ей сейчас лучше, легче. И разумеется, пусть выходит замуж за Рому. Вот только жить ребята будут здесь, с ними, Масю они с Володей заберут к себе в комнату…
– Только у нас! Близко ты не подойдешь к этой ведьме! Хоть она и Ромина мать…
– Спасибо, ма, – тоскливо улыбнулась в ответ Юля. – Я и сама так решила, – кивнула она и ушла к Рите.
Сама решила? Как она могла, собственно, так решить без нее, мамы, без Володи, ничего даже не сказав, не посоветовавшись? Это их идея, они имели право на подобное решение, но Юля… И тут Людмила Сергеевна окоротила себя, строго напомнив о том, что пережила ее девочка: «Она просто ни секунды не сомневалась в нас, она верит мне и знает, что я всегда помогу. И ей, и ему. Господи! За что же нас всех так тряхнуло? Костя… Может, это наказание мне за мое к нему презрение? И за что презрение-то? Получается, за любовь. Но ведь умер-то как раз он! Эх, Костя…» Жаркие слезы вдруг навернулись на глаза, горло сдавил такой спазм, что, казалось, это конец, сейчас задушит. «Моя первая дурацкая любовь, тебя больше нет, а твой сын лежит в больнице, весь переломанный из-за огромной любви к моей дочери. Что же, что же все это означает, зачем, почему так?»
Красивая, ухоженная женщина, вцепившись обеими руками в занавеску, плакала, глядя в окно на идущую от подъезда дочь, и старела от слез. И видел ее только кудрявый малыш с глазами-вишнями, побросавший от удивления игрушки…
Хотя Юлька часами просиживала у Риты, подругами они все же не стали. То была улица с односторонним движением: Юлька как ничего не знала о Рите, так и осталась в неведении. Впрочем, она и не особо интересовалась ею. Рита для нее была отдушиной, жилеткой, всем, чем угодно, но не живым, реальным человеком со своей жизнью и проблемами. Юля говорила, говорила, а выговорившись, пила чай, успокаивалась и уходила.
Один раз до ее ушей, вернее, до сознания, долетело Ритино замечание:
– По-моему, тебе надо что-то изменить в своем отношении к жизни. Смотри: сначала ты не видела, не знала и знать не хотела ничего, кроме своей любви. Теперь ты живешь исключительно внутри горя. Хотя, как я понимаю, все идет на лад, вполне можно строить планы, думать о будущем… Эй, Юль, ты хоть слышишь меня?
«О чем она? Что-то такое мне уже говорили… А, да: Танечкино «жизнь больше любви». Жизнь больше любви, жизнь больше горя. Какая она большая – жизнь. Большая и толстая, как Ромкина мама Вера. И такая же злая и подлая. Что Рита мне объясняет? Ерунда какая-то…»
Вскоре Рита оставила свои попытки пробиться к Юле, и так они и «дружили». Пока Ромка не выписался и не пришел жить в Юлькин дом. С тех пор – будто отрезало. Ритка как-то заметила их обоих на улице, кинулась наперерез: «Привет, влюбленные!» А они ответили спокойно и равнодушно: «А, привет. Ну, как жизнь?» И пошли дальше. Больше Рита их не встречала, хотя жили-то на одной улице. Иногда она видела Людмилу Сергеевну с Масей, пару раз столкнулась с постаревшей, измученной, всклокоченной Верой Георгиевной с пудовыми сумками в руках…
Потом Рита вышла замуж по большой любви и огромной страсти. Родители построили молодым кооператив в другом конце Москвы, сами поменялись поближе к ним, и все: позабыта-позаброшена история Романа и Юли, окончено Ритино в ней участие. Вернее, участие в Юлькиной психологической реабилитации («И ведь ни одна сволочь «спасибо» не сказала, хотя, черт с ними, лишь бы никто из окон больше не вываливался»).
Рита периодически приезжала в Воронцово навещать мамину сестру. В последнее время визиты участились: тетя Сима собрала чемоданы, оформила все документы и ждала дня отъезда в Израиль.
– Тетя Сима! Ну, скажи мне откровенно: на хрена? Чего тебе здесь не хватает? Какое политбюро жить не дает?
– Всего, всего мне хватает. Особенно страха, – бормотала в ответ пожилая женщина, которая всю жизнь твердила одно: где родился, там и надо умереть. Когда-то Рита спорила с ней до хрипоты, кричала, что это убогая, лишенная логики дикая чушь… «Почему, почему? Где связь? В таком случае кладбища должны быть рядом с роддомами, прямо напротив, и все младенцы, которые рождаются…»
И вот теперь Рита никак не могла взять в толк, зачем тетка едет в страну, где сплошные проблемы: с арабами, Голанскими высотами, Хусейном – и оттого ничуть не менее страшно.
– Если страх – движущая сила твоего отъезда, то готовься к тому, что оттуда ты захочешь драпануть еще быстрее!
Тетка медленно и многозначительно грозила Рите пальцем:
– Вот увидишь, моя девочка: здесь рванет скорее и сильнее! Не дай Бог, конечно.
– Ой, страшно мне, тетя, страшно мне, тетя, от этих новостей! – насмешливо напевала Рита, перевирая слова песни Вероники Долиной. Она не то чтобы ничего не боялась, просто верила в судьбу. Теткину подругу, уехавшую из Союза на Землю обетованную и больше всего на свете боявшуюся ворья, дочиста обокрали в Тель-Авиве: из дома вынесли все, даже чайник со свистком, желтый, ободранный, советский. В Москве же на ее квартиру никто и не покушался ни разу. Однако тема «сплошного ворья в этой стране» была в ее доме главной, даже навязчивой. Ну разве это не насмешка судьбы? «В тебе нет ничего еврейского», – удивленно говорила тетя Сима.
Еще бы! Откуда? В маме, как и в Симе – половинка, папа – чистый русак. Вот вам и темно-русые волосы, негустые, но волнистые и блестящие, вот вам и курносый носик и темно-серые глаза. «Модный цвет – мокрого асфальта!» – любил шутить Гоша, Ритин муж. Они с шестилетним Ванькой жили теперь в районе Савеловского вокзала, а тетка – в Черемушках. Отношения Симы и Ритиной мамы, Ольги Михайловны, всегда были проблематичными, а уж когда Сима начала паковать чемоданы…
– Старая дура! Была старая дева, теперь старая дура! И дева!
Мама будто отрезала от себя родную сестру навеки. Рита этого не понимала и не могла так.
– Ваше поколение всегда и во всем такое безжалостное, что просто ужас: родня, не родня – все вам по барабану! Растеряли всех, все связи, родственников… Как так можно? И во имя чего?
– Вот и найди всех нас, если сможешь. Отмоли, соедини, восстанови… А у меня… у нас уже сил на это нету, – мама говорила сквозь слезы.
Рите было очень жалко ее: все-таки несчастные они люди, эти битые советские бунтари-шестидесятники, наивные идеалисты, и в то же время – упертые в своих принципах, как ослы некормленые! Все – на алтарь идеи! И горите, родные братья и сестры, синим пламенем, ежели смеете не чтить алтарь!
А что у нас сегодня за алтарь? Новая страна Россия, в которой надо жить и которую необходимо обустроить. Наделали ошибок – так исправляйте, а не дезертируйте. Боитесь? Значит, трусы, предатели…
Мамины губы сурово сжимались в тонкую ниточку, нет, в волосок.
Рита же, вздыхая и мысленно снова и снова жалея мать, тащилась в Черемушки, к одинокой тете Симе, в сущности, абсолютно русской, испуганной жизнью бабе, – чаевничать с ней, утешать, спорить и бесконечно спрашивать одно и то же, не получая ответа:
– Ну куда, ну зачем ты уезжаешь?
И вот однажды, прежде чем пойти к Симе, Рита заглянула в ее «придворный» супермаркет. Ну ничего себе! Это даже не Израиль, а, наверное, сама Америка! Если, конечно, не смотреть на цены. Хотя кое-что можно и прикупить – к примеру, обалденные и не слишком дорогие йогурты…
Здесь-то, около йогуртов, Рита и заметила Юльку, которая, задрав коротко стриженную голову, разглядывала молочное богатство.
«Маленькая собачонка до старости щенок», – отметила про себя Рита. Они с Юлькой ровесницы, им обеим уже тридцать два, а издали Юльке никак не больше четырнадцати: маленькая, худющая, модные джинсы на всех женских местах болтаются. «Худоба – это красиво?» – в очередной раз засомневалась Рита. С ее сорок восьмым размером давно уже невозможно было что-то сделать. Сначала это была трагедия, потом Риту накрыло глухое отчаяние, а после она смирилась. Но при виде Юльки даже обрадовалась своим крутым бедрам.
– Юлия! – торжественно пропела она в ухо малышке.
Та вздрогнула от неожиданности и повернулась к Рите. Ага, вот он, возраст, и вылез весь наружу! Мелкие морщинки вокруг глаз, уже заметные продольные на лбу…
– Ритка! – Юлька просияла, обнажив в улыбке дырочку от недостающего зуба – ту, что видна лишь при очень большой радости. На Юльке была модная джинсовая курточка – мечта поэта: вся в заклепках, застежках и «липучках», на руке болтались часы, самый писк – тяжелые, большие. Очков нет, а ведь уже в десятом она их не снимала, наверное, линзы надела.
– А ты в порядке! – весело сказала Рита.
– Брось, Катаева, я ж в зеркало иногда смотрю. Вот ты расцвела!
– Я уже сто лет не Катаева, а Гаврилова. А цвести в нашем возрасте – самое то.
– Кому то, а кому и не то… – Юля перестала улыбаться, и мордашка ее сделалась озабоченной. Опять проявились все морщинки.
– Эй, не хмурься, состаришься. Что не так? Ты уже не Лавочкина, что ли?
– Лавочкина я, Лавочкина, не нервничай, – досадливо замахала рукой Юля. – Лучше объясни, что ты тут делаешь?
– Да йогурты вот покупаю. А ты?
– Я живу вон там, – Юлька махнула рукой куда-то вправо, – в соседнем доме. Разве ты…
– Нет-нет, я тут тетушку навещаю. Она лыжи навострила, на чемоданах сидит. Вот я и провожаю ее уже месяца три.
– Пойдем ко мне! Кофе выпьем, поболтаем! – Юлька снова оживилась, глаза заблестели, щеки порозовели, она схватила Риту за руку и встряхнула ее несколько раз.
– Ой, ненормальная, отцепись, руку оторвешь! Зайду, конечно, но не сегодня. Не могу сейчас, мне еще к тетке, потом в нормальный советский магазин, и – домой, дитя ждет. У тебя-то есть дети?
– Есть. Дочь Ася. Шесть лет.
– Здорово. И у меня. Сын Ваня. Представляешь, тоже шесть лет. Будет о чем поболтать! Я к тетке еще в четверг приеду. Хочешь, я к ней специально пораньше, а потом к тебе зайду?
– Давай!
– Напиши где-нибудь телефон и адрес.
– Правда? Ты точно зайдешь? Мне тебя ждать? – Юлька была так взбудоражена, будто встретила самого родного человека, с которым надолго разлучилась.
– Ты, Юлька какая-то… странная. Сказала же – зайду. Телефон давай, Лавочкина! И отцепись же, наконец, от моего рукава!
Юлька бежала домой. Все ее нервы подрагивали, а где-то в районе солнечного сплетения давило и щекотало. «Какая я дура! Чуть все не испортила! Эмоции все, эмоции…» У Юльки появилась цель, по крайней мере – до ближайшего четверга: показать этой Маргарите, в каком она полном порядке, как все у нее хорошо.
Первый год жизни с Ромой в доме ее мамы и Володи был, можно сказать, сказочный. Они погрузились друг в друга полностью, абсолютно, до последней клеточки, до каждого нервного корешка. Они одновременно просыпались в объятиях друг у друга, они синхронно засыпали после любви, не отодвигаясь ни на миллиметр. Ходили везде и всегда, взявшись за руки, в одно и то же время хотели есть…
