Страница:
– Извините, господин аббат, – сказала она своему партнеру, – но я должна признаться, что теперь совсем не думаю об игре.
– Откровенно говоря, – ответил аббат Карталь, – я приметил, что ваше сиятельство заняты своими мыслями.
– Да, господин аббат, я занята одной мыслью, или, лучше сказать, угрызениями совести, которые преследуют меня с самого утра.
– Угрызениями совести? Не может быть, графиня! – воскликнул аббат Карталь с сомнением, очень лестным для графини.
– Да, господин аббат, именно так, – продолжала графиня. – Проезжая сегодня утром мимо богадельни, я приметила бедную женщину, очень плохо одетую, и тогда мне стало стыдно, что я одета в шелка и бархат, между тем как эта согбенная от старости несчастная мерзнет на холодном ветру. Я думала об этом целый день и нашла только одно средство успокоить свою совесть – попросить вас как попечителя этой богадельни принять для этих несчастных пятьсот франков, которые я наверняка истратила бы на пустяки, на какие-нибудь наряды, и которые там будут употреблены более достойным образом.
Сначала оба аббата приняли эти слова с восторженным молчанием, потом начали восхвалять благотворительность и набожность графини де Шамбла, которая прекратила их восторженные речи, объявив, что она и слышать не хочет о таком пустяке. После этого все снова принялись за игру, которая уже не прерывалась до десяти часов. Ровно в десять, по неизменному обычаю, аббаты встали и простились с дамами.
– Извините, – обратилась графиня к аббату Карталю, – я должна пятьсот франков для больницы, и именно здесь уместны слова: «Кто платит свои долги, тот становится богаче».
– Что же вам беспокоиться, графиня, – ответил аббат, – будет время и завтра.
– Нет, – сказала графиня с улыбкой, исполненной доброты. – Помощь старикам нужно оказать как можно скорее, они ведь так бедны! Притом, признаться, я не заснула бы, если бы вы ушли без этих денег, следовательно, я из чистого эгоизма желаю отдать их вам именно сегодня.
Тотчас встав, она открыла свое бюро, вынула оттуда билет в пятьсот франков и отдала его аббату Карталю. Оба аббата ушли, проникнутые умилением. Услышав, как заперли дверь на улицу, графиня подбежала к окну и прислушалась. Стояла вечерняя тишина, и она смогла уловить несколько фраз, которыми обменялись священники.
– Какая небесная душа!
– Какая щедрая благотворительность!
– Какая набожность! Какая живая вера!
– Ах, это благородная и праведная женщина!
Они все дальше уходили от дома, поэтому и графиня не слышала ничего, кроме смутного говора.
– Хорошо! – прошептала она. – Вот пятьсот франков, очень выгодно помещенных.
Оба аббата с трудом узнали бы ее, когда она произносила эти слова: ее лицо вдруг совершенно преобразилось, и они напрасно пытались бы найти в нем хоть малейший след той кротости, которая всегда так глубоко трогала аббатов и набожных особ. Мари Будон в это время сидела в комнате Жака Бессона, исполняя свое трудное поручение. Он лежал, еще не вполне поправившись после оспы, обезобразившей его лицо. Это был человек лет тридцати пяти, среднего роста и крепкого телосложения, с лицом серьезным, холодно-решительным, с довольно правильными чертами, несмотря на следы оспы, от которой распухли его губы. Волосы и глаза у него были черные, взгляд прямой, спокойный и рассудительный. Его бледное, исхудалое лицо просияло, когда вошла горничная.
– Спасибо, Мари, что пришли, – сказал он. – Как любезно с вашей стороны навестить больного, не боясь заразиться самой. Как здоровье дам? – тотчас добавил он, но уже другим тоном.
Мари Будон села возле кровати и, глядя прямо ему в глаза, сказала:
– Дамы прислали меня узнать о вашем здоровье.
– О, как они добры! – воскликнул Жак. Его бледное лицо покраснело от удовольствия.
– Их доброта этим не ограничится, – продолжала служанка.
– Чего же более я могу желать? – спросил больной.
– Я вам скажу, хотя вы это знаете лучше меня.
– Вы?! – произнес Жак с ужасом.
– Да, я, Жак, – сказала она. – Я, потому что однажды, когда вы не знали, что я здесь, я слышала, как вы отвечали Арзаку, который вас спрашивал, о чем вы думаете: «Я думаю, что пас свиней в Шамбла, а скоро стану там хозяином».
– Вы слышали это? – пролепетал Жак дрожащим голосом.
– Не одна я слышала это, – заметила Мари Будон с улыбкой, заставившей больного задрожать.
– Святая Дева! – с тоской воскликнул он. – Кто же еще?..
Договорить он не смог. Устремив глаза на Мари, Жак ждал ее ответа.
– Ну да, – произнесла она после некоторого молчания, – вы угадали – это она.
– Госпожа Теодора! – вскрикнул Жак, опустив голову на подушки.
Потом он прошептал, дрожа всем телом, словно в лихорадке:
– Господи Иисусе Христе! Что же она должна была подумать?
– Я вам скажу и это, Жак.
Наступило минутное молчание, во время которого слышалось громкое и прерывистое дыхание больного, который, по-видимому, задыхался.
– Вам тяжело, Жак? – спросила его Мари Будон.
– Это вы заставляете меня умирать от нетерпения и тоски, Мари, – ответил Жак глухим голосом. – Что подумала она? Говорите… говорите же, если вы знаете!
– Она подумала, что вы любите ее и осмеливаетесь надеяться быть любимым ею.
– Никогда! Никогда я и помыслить не мог о подобной дерзости! – вскрикнул Жак вне себя.
– Она еще подумала, что ваша любовь из тех, которой не страшны никакие препоны, которая не остановится ни перед чем, даже перед мыслью о преступлении, ради того, чтобы сделаться хозяином Шамбла и обладать ею.
– О преступлении? – пролепетал больной, пристально глядя на Мари.
– Как же вы можете сделаться хозяином Шамбла, если не через брак с госпожой Теодорой? А каким образом вы сможете жениться на госпоже Теодоре, если оставите его в живых? Итак, хотите владеть поместьем Шамбла? Вы сказали это во всеуслышание, а сами тайно замышляете избавиться от владельца Шамбла. Вы и это сказали, только шепотом и одному себе.
Жак Бессон молчал: он был поражен. Служанка продолжала:
– Я угадала это в ваших словах, и госпожа Теодора также это поняла.
– Но ведь тогда она должна меня до смерти бояться! – вскрикнул Жак. – Однако она ошибается, она дурно судит обо мне, я никогда не думал об убийстве!
– Что же значили ваши слова? – с изумлением спросила Мари Будон.
– Я просто фантазировал, высказал довольно сильное желание, которое и могло бы навести меня на мысли об убийстве. Но чтобы на самом деле решиться на такое… Нет, я никогда не смог бы… Нет, никогда! Скажите это госпоже Теодоре!
Мари Будон пожала плечами и, глядя на больного с презрительным состраданием, сказала:
– А я-то считала вас мужчиной, Жак.
– Но… – удивленно пробормотал Жак.
– Довольно! – презрительно перебила служанка. – Я поговорю с госпожой Теодорой, если вы этого хотите, и вот что я ей скажу: «Этот Жак Бессон, человек, любовь которого вас восхищала, а не оскорбляла, этот крестьянин, которого вы считали храбрым и великодушным, преданность которого произвела на вас такое сильное впечатление, оказался трусом. Вы думали, что он готов на все, чтобы стать достойным вас и избавить вас от ненавистного мужа, – но вы жестоко ошиблись в этом человеке, и то, что вы принимали за сильную страсть, способную на все, чтобы обладать вами, было лишь робким и слабым желанием, мгновенно угасшим перед первым же серьезным препятствием».
V
VI
– Откровенно говоря, – ответил аббат Карталь, – я приметил, что ваше сиятельство заняты своими мыслями.
– Да, господин аббат, я занята одной мыслью, или, лучше сказать, угрызениями совести, которые преследуют меня с самого утра.
– Угрызениями совести? Не может быть, графиня! – воскликнул аббат Карталь с сомнением, очень лестным для графини.
– Да, господин аббат, именно так, – продолжала графиня. – Проезжая сегодня утром мимо богадельни, я приметила бедную женщину, очень плохо одетую, и тогда мне стало стыдно, что я одета в шелка и бархат, между тем как эта согбенная от старости несчастная мерзнет на холодном ветру. Я думала об этом целый день и нашла только одно средство успокоить свою совесть – попросить вас как попечителя этой богадельни принять для этих несчастных пятьсот франков, которые я наверняка истратила бы на пустяки, на какие-нибудь наряды, и которые там будут употреблены более достойным образом.
Сначала оба аббата приняли эти слова с восторженным молчанием, потом начали восхвалять благотворительность и набожность графини де Шамбла, которая прекратила их восторженные речи, объявив, что она и слышать не хочет о таком пустяке. После этого все снова принялись за игру, которая уже не прерывалась до десяти часов. Ровно в десять, по неизменному обычаю, аббаты встали и простились с дамами.
– Извините, – обратилась графиня к аббату Карталю, – я должна пятьсот франков для больницы, и именно здесь уместны слова: «Кто платит свои долги, тот становится богаче».
– Что же вам беспокоиться, графиня, – ответил аббат, – будет время и завтра.
– Нет, – сказала графиня с улыбкой, исполненной доброты. – Помощь старикам нужно оказать как можно скорее, они ведь так бедны! Притом, признаться, я не заснула бы, если бы вы ушли без этих денег, следовательно, я из чистого эгоизма желаю отдать их вам именно сегодня.
Тотчас встав, она открыла свое бюро, вынула оттуда билет в пятьсот франков и отдала его аббату Карталю. Оба аббата ушли, проникнутые умилением. Услышав, как заперли дверь на улицу, графиня подбежала к окну и прислушалась. Стояла вечерняя тишина, и она смогла уловить несколько фраз, которыми обменялись священники.
– Какая небесная душа!
– Какая щедрая благотворительность!
– Какая набожность! Какая живая вера!
– Ах, это благородная и праведная женщина!
Они все дальше уходили от дома, поэтому и графиня не слышала ничего, кроме смутного говора.
– Хорошо! – прошептала она. – Вот пятьсот франков, очень выгодно помещенных.
Оба аббата с трудом узнали бы ее, когда она произносила эти слова: ее лицо вдруг совершенно преобразилось, и они напрасно пытались бы найти в нем хоть малейший след той кротости, которая всегда так глубоко трогала аббатов и набожных особ. Мари Будон в это время сидела в комнате Жака Бессона, исполняя свое трудное поручение. Он лежал, еще не вполне поправившись после оспы, обезобразившей его лицо. Это был человек лет тридцати пяти, среднего роста и крепкого телосложения, с лицом серьезным, холодно-решительным, с довольно правильными чертами, несмотря на следы оспы, от которой распухли его губы. Волосы и глаза у него были черные, взгляд прямой, спокойный и рассудительный. Его бледное, исхудалое лицо просияло, когда вошла горничная.
– Спасибо, Мари, что пришли, – сказал он. – Как любезно с вашей стороны навестить больного, не боясь заразиться самой. Как здоровье дам? – тотчас добавил он, но уже другим тоном.
Мари Будон села возле кровати и, глядя прямо ему в глаза, сказала:
– Дамы прислали меня узнать о вашем здоровье.
– О, как они добры! – воскликнул Жак. Его бледное лицо покраснело от удовольствия.
– Их доброта этим не ограничится, – продолжала служанка.
– Чего же более я могу желать? – спросил больной.
– Я вам скажу, хотя вы это знаете лучше меня.
– Вы?! – произнес Жак с ужасом.
– Да, я, Жак, – сказала она. – Я, потому что однажды, когда вы не знали, что я здесь, я слышала, как вы отвечали Арзаку, который вас спрашивал, о чем вы думаете: «Я думаю, что пас свиней в Шамбла, а скоро стану там хозяином».
– Вы слышали это? – пролепетал Жак дрожащим голосом.
– Не одна я слышала это, – заметила Мари Будон с улыбкой, заставившей больного задрожать.
– Святая Дева! – с тоской воскликнул он. – Кто же еще?..
Договорить он не смог. Устремив глаза на Мари, Жак ждал ее ответа.
– Ну да, – произнесла она после некоторого молчания, – вы угадали – это она.
– Госпожа Теодора! – вскрикнул Жак, опустив голову на подушки.
Потом он прошептал, дрожа всем телом, словно в лихорадке:
– Господи Иисусе Христе! Что же она должна была подумать?
– Я вам скажу и это, Жак.
Наступило минутное молчание, во время которого слышалось громкое и прерывистое дыхание больного, который, по-видимому, задыхался.
– Вам тяжело, Жак? – спросила его Мари Будон.
– Это вы заставляете меня умирать от нетерпения и тоски, Мари, – ответил Жак глухим голосом. – Что подумала она? Говорите… говорите же, если вы знаете!
– Она подумала, что вы любите ее и осмеливаетесь надеяться быть любимым ею.
– Никогда! Никогда я и помыслить не мог о подобной дерзости! – вскрикнул Жак вне себя.
– Она еще подумала, что ваша любовь из тех, которой не страшны никакие препоны, которая не остановится ни перед чем, даже перед мыслью о преступлении, ради того, чтобы сделаться хозяином Шамбла и обладать ею.
– О преступлении? – пролепетал больной, пристально глядя на Мари.
– Как же вы можете сделаться хозяином Шамбла, если не через брак с госпожой Теодорой? А каким образом вы сможете жениться на госпоже Теодоре, если оставите его в живых? Итак, хотите владеть поместьем Шамбла? Вы сказали это во всеуслышание, а сами тайно замышляете избавиться от владельца Шамбла. Вы и это сказали, только шепотом и одному себе.
Жак Бессон молчал: он был поражен. Служанка продолжала:
– Я угадала это в ваших словах, и госпожа Теодора также это поняла.
– Но ведь тогда она должна меня до смерти бояться! – вскрикнул Жак. – Однако она ошибается, она дурно судит обо мне, я никогда не думал об убийстве!
– Что же значили ваши слова? – с изумлением спросила Мари Будон.
– Я просто фантазировал, высказал довольно сильное желание, которое и могло бы навести меня на мысли об убийстве. Но чтобы на самом деле решиться на такое… Нет, я никогда не смог бы… Нет, никогда! Скажите это госпоже Теодоре!
Мари Будон пожала плечами и, глядя на больного с презрительным состраданием, сказала:
– А я-то считала вас мужчиной, Жак.
– Но… – удивленно пробормотал Жак.
– Довольно! – презрительно перебила служанка. – Я поговорю с госпожой Теодорой, если вы этого хотите, и вот что я ей скажу: «Этот Жак Бессон, человек, любовь которого вас восхищала, а не оскорбляла, этот крестьянин, которого вы считали храбрым и великодушным, преданность которого произвела на вас такое сильное впечатление, оказался трусом. Вы думали, что он готов на все, чтобы стать достойным вас и избавить вас от ненавистного мужа, – но вы жестоко ошиблись в этом человеке, и то, что вы принимали за сильную страсть, способную на все, чтобы обладать вами, было лишь робким и слабым желанием, мгновенно угасшим перед первым же серьезным препятствием».
V
Эта речь, каждое слово которой было тщательнейшим образом продумано, подействовала на Жака именно так, как рассчитывала Мари Будон. Буквально за несколько секунд крестьянин словно преобразился, самолюбие и гордость вернули ему былую энергию, взгляд его сделался полным страсти и мрачной решимости, что придало его лицу некоторое величие. Служанка добралась до самых глубин его души, она поняла ее, но решила нанести последний удар, чтобы уничтожить все остатки совести, которая могла еще робко сопротивляться.
– Ах! – вскрикнула она. – Если бы я была мужчиной, если бы какая-нибудь знатная дама удостоила обратить на меня свой взор и если бы из простого мужика я могла сделаться одним из самых богатых и влиятельных людей в краю, где меня когда-то видели свинопасом!.. О, клянусь, тогда от моего сердца и от моей руки можно было бы требовать всего – да, всего!
Воодушевившись услышанными словами, Жак хотел ответить, но Мари Будон сделала вид, будто этого не замечает, и, вдруг переменив тон, продолжала тихим и убедительным голосом:
– Вы помните, как однажды вечером после ужина у господина Марселанжа возникла сильная боль в желудке?
– Да, когда он съел яичницу, в которую примешали по ошибке немножко мха.
– По крайней мере, так говорили тогда.
– Ну?..
– Ну так это был не мох, а белый порошок…
– А! Помню… Подозревали, кажется, Арзака…
– Арзак не согласился, Арзак мокрая курица, он трус, как и все мужчины. За это взялась женщина, простая служанка, движимая только преданностью своим госпожам и не надеявшаяся получить в награду ни большого состояния, ни богатого поместья, ни блистательного супружества.
– Вы, Мари?
Мари Будон ответила энергическим кивком головы. Наступило долгое молчание, потом Жак вдруг вскрикнул:
– Нет, я не могу в это поверить! Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется невозможным, чтобы госпожа Марселанж сделалась женою крестьянина, человека… который пас свиней в ее поместье!
– А если бы вам сказали, что госпожа Теодора любит вас?
– Я ответил бы вам, что это невозможно.
– А если бы вам представили доказательства?
– Я не поверил бы никаким доказательствам.
– Даже если бы…
Мари Будон наклонилась к больному и шепнула ему на ухо окончание фразы. Несмотря на свою слабость, Жак вскочил. Кровь прилила к его лицу с такой силой, что служанка испугалась.
– Жак!.. – воскликнула она.
– Ничего, – перебил тот, – это удивление, волнение… я был так далеко от… Нет-нет, вы ошибаетесь.
– А если я не ошибаюсь? – возразила Мари Будон, устремив на Жака вопросительный взгляд. – Если… если сегодня же вечером, меньше чем через час…
– О! Тогда… Мари, будь я при смерти, я пошел бы в Шамбла, если бы даже мне пришлось для этого умереть, клянусь вам…
– Довольно, – сказала служанка.
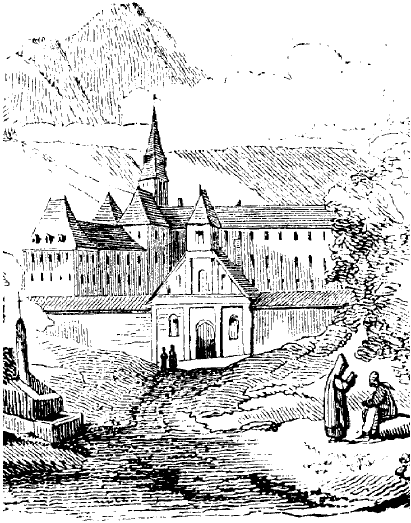 Она встала, бросила на больного такой взгляд, от которого тот задрожал, потом вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой, и медленно спустилась по лестнице. Мари Будон направилась в комнату графини ла Рош-Негли, где, несмотря на поздний час, находились мать и дочь.
Она встала, бросила на больного такой взгляд, от которого тот задрожал, потом вышла из комнаты, оставив дверь приоткрытой, и медленно спустилась по лестнице. Мари Будон направилась в комнату графини ла Рош-Негли, где, несмотря на поздний час, находились мать и дочь.
На соборной колокольне пробило одиннадцать часов, а дамы каждый вечер расходились по своим спальням в десять вечера, самое позднее – в четверть одиннадцатого. Сидя в нескольких шагах друг от друга, неподвижные как статуи, они после ухода аббатов не обмолвились ни единым словом. Когда открылась дверь, они сразу повернулись к ней. Графиня сгорала от нетерпения, на щеках ее пылал румянец, а глаза горели решительностью. Госпожа Марселанж сидела бледная, с несколько безумным взором, руки ее дрожали. Мари Будон вошла и заперла за собой дверь. Последовал долгий разговор. Три женщины говорили тихо, почти шепотом, словно боялись собственных слов. Потом Мари Будон вышла и вернулась в свою комнату. Пять минут спустя госпожа Марселанж оставила графиню одну; через несколько минут в доме погасли все огни.
На другой день, 30 августа, в полдень Жером Пюжен, сосед графинь де Шамбла, разговаривал у дверей со своей женой и Пьером Бори, портным. Вдруг они увидели, как из дома графинь де Шамбла вышел бледный, изнуренный человек и стал медленно прохаживаться по солнечной стороне улицы, с трудом переставляя ноги.
– Здравствуйте, господин Жак, – приветствовал его Жером Пюжен. – Что и говорить, болезнь вас порядком потрепала.
– До такой степени, – отозвался Жак, – что у меня от оспы кожа сошла с ног, и при каждом шаге мне кажется, что я хожу по горячим углям.
– Так вы послезавтра, первого сентября, не будете открывать охоту?
– Зайцы и куропатки могут спать спокойно, – ответил Жак Бессон. – Пройдет целый месяц, прежде чем я смогу отправиться в деревню. Мне даже сюда было трудно выйти погулять на солнце, и если бы доктор не велел…
– Жаль, близ Шамбла много дичи, а вы так хорошо стреляете.
– О! – сказал Жак. – Отсюда до Шамбла больше трех миль, если бы мне посулили золотые горы, я бы и полпути дотуда не одолел.
Потом, поклонившись супругам Пюжен, Жак опять стал прохаживаться на солнце, ковыляя вдоль домов и часто останавливаясь как бы от истощения после нескольких шагов.
– Что это за человек? – спросил Пьер Бори Жерома Пюжена.
– Жак Бессон, доверенное лицо графинь де Шамбла.
– Мне не нравится его физиономия, – сказала Виктория Пюжен.
– Ба! Возможно, он все-таки хороший человек.
– Как бы то ни было, – прибавил портной, – мне не хотелось бы встретить его в лесу.
– Во всяком случае, – возразил Пюжен, – его нечего опасаться в таком положении.
– Ты так думаешь? – удивилась его жена. – А я сейчас повнимательней посмотрела на него и побилась бы о заклад, что он не так уж и болен.
– А зачем ему притворяться?
– Кто знает? Может быть, для того, чтобы за ним ухаживали эти дамы, которые окружили его заботой и вниманием, ни дать ни взять как брата.
– Пустое! Бабьи сплетни! – сказал Жером Пюжен.
– Да неужели? А прогулки в саду Шамбла, где все видели, как Жак Бессон вел под руку обеих дам, как он разговаривал шепотом с госпожой Марселанж, между тем как графиня уходила на двести шагов вперед? Это что, тоже сплетни?
– Пойдемте в дом, – вдруг засуетился Жером Пюжен. – Неблагоразумно разговаривать о подобных вещах на улице: графини де Шамбла очень могущественны и… словом, я предпочел бы иметь дело с десятью Жаками Бессонами, чем с одной графиней ла Рош-Негли.
В восемь часов вечера, когда уже стемнело, какой-то человек проскользнул как тень мимо домов, остановился у особняка графини де Шамбла и постучал в дверь два раза, но так тихо, что казалось, что стук едва смогут услышать изнутри. Однако дверь тотчас же бесшумно отворилась, и тень проскользнула в переднюю. Этой тенью был Арзак. Закрыв за ним дверь, Мари Будон провела его в маленькую гостиную, где обычно сидели дамы.
Жак Бессон сидел между ними в большом кресле перед камином. Госпожа Марселанж подавала ему чашку с тизаной. При появлении Арзака госпожа Марселанж, которая сидела, наклонившись к Жаку, вдруг вскочила и отодвинула кресло. Но графиня, всегда умевшая владеть собой, воспользовалась этим обстоятельством, вместо того чтобы смутиться, как ее дочь.
– Ну, Арзак, – сказала она ему, указывая на госпожу Марселанж, которая все еще держала чашку в руке, – вы видите, вот это графини де Шамбла, которых представляют такими надменными и суровыми по отношению к своим слугам.
– О! – протянул пастух с тем двусмысленным простодушием, которое придавало всем его словам загадочный смысл. – Для меня вовсе не открытие, что эти дамы всегда были добры к Жаку.
Графиня устремила на Арзака пронизывающий взгляд, но молодой крестьянин противопоставил неудовольствию знатной дамы спокойствие и хладнокровие.
– Я добра и к Жаку, и к другим моим служителям, когда мне известны их верность и предан– ность, – возразила она после некоторого молчания и тотчас добавила: – Мари, подай мне эту бутылку и стакан.
Служанка повиновалась. Графиня налила в стакан вина и подала его Арзаку. Тот взял его, несколько смутившись, потом вытер рот рукавом своего камзола и разом опорожнил стакан, после чего почтительно возвратил его графине, которая приняла его обратно, по-видимому, нисколько не оскорбившись этим странным поступком.
– Ну, принес ли ты нам новости? – спросила Мари Будон, догадываясь о том, что по каким-то причинам дамы не хотят сами расспрашивать Арзака.
– Новости-то я принес, – ответил крестьянин.
– Ага! – сказала графиня, слегка нахмурив брови.
– Ну, говори, что такое случилось? Что ты нам скажешь? – с нетерпением продолжала служанка.
– Я знаю, зачем господин Марселанж уезжает из Шамбла.
– Говори же скорее.
– Потерпите немножко, – спокойно возразил Арзак. – Вы знаете мою хижину, ваше сиятельство, мою маленькую хижину на колесах, где я ночую в поле среди своего стада?
– Да, конечно, знаю, – ответила графиня. – Что дальше?
– Сегодня в шесть часов, когда еще было совсем светло, я издали увидел господина Марселанжа с каким-то человеком, которого не знаю. Они должны были пройти мимо моей хижины; мне тотчас пришло в голову запереться там, и вы убедитесь, что чутье не обмануло меня. Через несколько минут они остановились возле моей хижины, не подозревая, что в такое время там кто-нибудь есть, и принялись разговаривать так свободно, как будто находились в замке Шамбла.
– Ты что-нибудь слышал? – с живостью спросила графиня.
– Благодаря щели в досках моей хижинки, щели, оказавшей мне уже немало полезных услуг, я видел их и слышал, как будто мы все трое разговаривали у камина.
– Как выглядел господин Марселанж?
– Печально и мрачно.
– О чем он говорил?
– О своем скором отъезде в Мулен и об аренде Шамбла. И от того и от другого нотариус его отговаривал, потому что я скоро понял, что второй-то и был нотариус.
– Гранжон, может быть? – спросила графиня.
– Именно. Итак, нотариус говорил господину Марселанжу, что зря он уезжает из Шамбла, если только на это у него нет веских причин. Я передаю вам их разговор в точности как слышал, графиня, – прервал сам себя Арзак.
– Я не сомневаюсь, Арзак, продолжай.
– Ну да, у меня есть веские причины для отъезда, – ответил господин Марселанж. – Настолько веские, что не решился сообщить их вам у себя, поскольку я опасаюсь, что кто-то из слуг шпионит за мной – некоторые ведь подкуплены графиней. И я привел вас сюда, в поле, где я, по крайней мере, уверен, что никто не услышит нашего разговора. Можете себе представить, как я обрадовался, – прибавил Арзак. – Я затаил дыхание и не шевелился, как сурок в своей норе.
– Дальше! – прошептала графиня отрывистым и нетерпеливым голосом.
– Господин Марселанж закрыл глаза рукой и стоял так несколько минут, не говоря ни слова, потом приподнял голову и продолжал:
– Я уезжаю отсюда, господин Гранжон, потому что боюсь двух женщин.
– Двух женщин! – вскрикнул нотариус с удивленным видом. – О боже мой! Чего же вы можете бояться со стороны двух женщин?
– Гранжон, – продолжал господин Марселанж, понизив голос и смотря нотариусу прямо в глаза, – эти две женщины – графиня ла Рош-Негли и ее дочь, и если вы их знаете, особенно если знаете графиню, вы поймете мой страх.
– Он так и сказал?! – гневно вскрикнула графиня.
– Чего же вы можете опасаться со стороны графини? – удивился нотариус.
Мне показалось, что господин Марселанж не решался говорить, но это продолжалось недолго.
– Я не стану ничего от вас скрывать, вы узнаете все, – произнес он. – Уже несколько месяцев меня повсюду и ежечасно преследует предчувствие, которое не дает мне спать по ночам. Это предчувствие скорой насильственной смерти.
– Убийства? – вскрикнул нотариус.
– Да, – признался господин Марселанж. – Я вижу повсюду и ежечасно, днем и ночью, нож или ружье убийцы, направленные мне в грудь; вот почему я хочу уехать отсюда через три дня, я ни за что не останусь здесь, даже если мне придется лишиться поместья Шамбла.
– Но какие у вас основания полагать, – удивился нотариус, – что женщина, графиня ла Рош-Негли…
– О! – перебил его господин Марселанж. – У графини есть двое преданных псов, которые по одному ее знаку способны на все: это ее слуги Мари Будон и Жак Бессон.
Мари Будон пожала плечами, но лицо Жака Бессона слегка помрачнело, и этот почти неприметный нюанс не ускользнул от внимания графини, которая следила за реакцией Жака на рассказ Арзака.
– Дальше! – холодно приказала она.
– Впрочем, – продолжал господин Марселанж, – это предчувствие настолько сильно преследовало меня и я так твердо был уверен в своей скорой и неизбежной смерти, что не колеблясь назвал им имена людей, на которых они должны донести, если убийство все-таки совершится.
Арзак умолк, и воцарилось тягостное молчание. Каждый из присутствовавших по-своему отреагировал на услышанное. Госпожа Теодора сидела бледная как полотно, по-видимому, не в состоянии о чем-либо думать. Лицо графини хранило гордое и презрительное выражение, однако она украдкой бросала тревожные взгляды на Жака Бессона, который старался казаться спокойным и бесстрастным, хотя дрожание уголков губ говорило о том, что он сильно взволнован. Что же касается Арзака и Мари Будон, то на их лицах читалось лишь полное равнодушие, к которому у Мари примешивались непоколебимая смелость и глубокое презрение к опасности.
– Это все? – спросил наконец Жак Бессон как ни в чем не бывало.
– Почти, – беззаботно ответил пастух.
– Что же еще сказал господин Марселанж? – поинтересовалась графиня.
– Он сказал нотариусу, пожав ему руку, что не может выразить словами, как он рад уехать из Шамбла, кровли и башни которого с некоторых пор приняли в его глазах зловещий вид большой гробницы. Потом они оба ушли по дороге к замку.
После довольно долгой паузы графиня обернулась к Жаку Бессону и спросила его, придав каждому своему слову особую выразительность:
– Что вы скажете об этих предчувствиях и об этом рассказе?
Жак побледнел, однако отвечал, глядя на графиню и делая ударение на каждом слове:
– Если ваше сиятельство мне доверяют, то должны быть уверены в том, что это меня нисколько не тревожит, и вас это также тревожить не должно. Я прошу у вас позволения пройти с Арзаком в мою комнату и поговорить с ним с глазу на глаз.
По знаку графини Жак Бессон и Арзак вышли и беседовали больше часа.
– Ах! – вскрикнула она. – Если бы я была мужчиной, если бы какая-нибудь знатная дама удостоила обратить на меня свой взор и если бы из простого мужика я могла сделаться одним из самых богатых и влиятельных людей в краю, где меня когда-то видели свинопасом!.. О, клянусь, тогда от моего сердца и от моей руки можно было бы требовать всего – да, всего!
Воодушевившись услышанными словами, Жак хотел ответить, но Мари Будон сделала вид, будто этого не замечает, и, вдруг переменив тон, продолжала тихим и убедительным голосом:
– Вы помните, как однажды вечером после ужина у господина Марселанжа возникла сильная боль в желудке?
– Да, когда он съел яичницу, в которую примешали по ошибке немножко мха.
– По крайней мере, так говорили тогда.
– Ну?..
– Ну так это был не мох, а белый порошок…
– А! Помню… Подозревали, кажется, Арзака…
– Арзак не согласился, Арзак мокрая курица, он трус, как и все мужчины. За это взялась женщина, простая служанка, движимая только преданностью своим госпожам и не надеявшаяся получить в награду ни большого состояния, ни богатого поместья, ни блистательного супружества.
– Вы, Мари?
Мари Будон ответила энергическим кивком головы. Наступило долгое молчание, потом Жак вдруг вскрикнул:
– Нет, я не могу в это поверить! Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется невозможным, чтобы госпожа Марселанж сделалась женою крестьянина, человека… который пас свиней в ее поместье!
– А если бы вам сказали, что госпожа Теодора любит вас?
– Я ответил бы вам, что это невозможно.
– А если бы вам представили доказательства?
– Я не поверил бы никаким доказательствам.
– Даже если бы…
Мари Будон наклонилась к больному и шепнула ему на ухо окончание фразы. Несмотря на свою слабость, Жак вскочил. Кровь прилила к его лицу с такой силой, что служанка испугалась.
– Жак!.. – воскликнула она.
– Ничего, – перебил тот, – это удивление, волнение… я был так далеко от… Нет-нет, вы ошибаетесь.
– А если я не ошибаюсь? – возразила Мари Будон, устремив на Жака вопросительный взгляд. – Если… если сегодня же вечером, меньше чем через час…
– О! Тогда… Мари, будь я при смерти, я пошел бы в Шамбла, если бы даже мне пришлось для этого умереть, клянусь вам…
– Довольно, – сказала служанка.
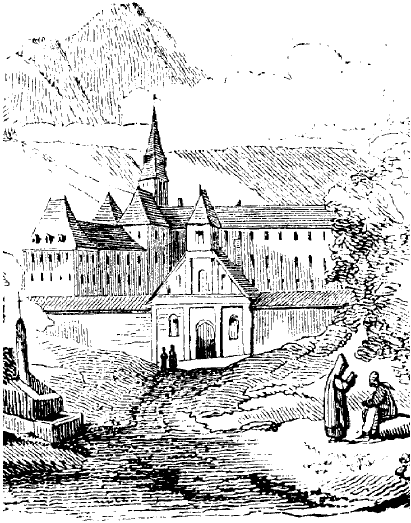
На соборной колокольне пробило одиннадцать часов, а дамы каждый вечер расходились по своим спальням в десять вечера, самое позднее – в четверть одиннадцатого. Сидя в нескольких шагах друг от друга, неподвижные как статуи, они после ухода аббатов не обмолвились ни единым словом. Когда открылась дверь, они сразу повернулись к ней. Графиня сгорала от нетерпения, на щеках ее пылал румянец, а глаза горели решительностью. Госпожа Марселанж сидела бледная, с несколько безумным взором, руки ее дрожали. Мари Будон вошла и заперла за собой дверь. Последовал долгий разговор. Три женщины говорили тихо, почти шепотом, словно боялись собственных слов. Потом Мари Будон вышла и вернулась в свою комнату. Пять минут спустя госпожа Марселанж оставила графиню одну; через несколько минут в доме погасли все огни.
На другой день, 30 августа, в полдень Жером Пюжен, сосед графинь де Шамбла, разговаривал у дверей со своей женой и Пьером Бори, портным. Вдруг они увидели, как из дома графинь де Шамбла вышел бледный, изнуренный человек и стал медленно прохаживаться по солнечной стороне улицы, с трудом переставляя ноги.
– Здравствуйте, господин Жак, – приветствовал его Жером Пюжен. – Что и говорить, болезнь вас порядком потрепала.
– До такой степени, – отозвался Жак, – что у меня от оспы кожа сошла с ног, и при каждом шаге мне кажется, что я хожу по горячим углям.
– Так вы послезавтра, первого сентября, не будете открывать охоту?
– Зайцы и куропатки могут спать спокойно, – ответил Жак Бессон. – Пройдет целый месяц, прежде чем я смогу отправиться в деревню. Мне даже сюда было трудно выйти погулять на солнце, и если бы доктор не велел…
– Жаль, близ Шамбла много дичи, а вы так хорошо стреляете.
– О! – сказал Жак. – Отсюда до Шамбла больше трех миль, если бы мне посулили золотые горы, я бы и полпути дотуда не одолел.
Потом, поклонившись супругам Пюжен, Жак опять стал прохаживаться на солнце, ковыляя вдоль домов и часто останавливаясь как бы от истощения после нескольких шагов.
– Что это за человек? – спросил Пьер Бори Жерома Пюжена.
– Жак Бессон, доверенное лицо графинь де Шамбла.
– Мне не нравится его физиономия, – сказала Виктория Пюжен.
– Ба! Возможно, он все-таки хороший человек.
– Как бы то ни было, – прибавил портной, – мне не хотелось бы встретить его в лесу.
– Во всяком случае, – возразил Пюжен, – его нечего опасаться в таком положении.
– Ты так думаешь? – удивилась его жена. – А я сейчас повнимательней посмотрела на него и побилась бы о заклад, что он не так уж и болен.
– А зачем ему притворяться?
– Кто знает? Может быть, для того, чтобы за ним ухаживали эти дамы, которые окружили его заботой и вниманием, ни дать ни взять как брата.
– Пустое! Бабьи сплетни! – сказал Жером Пюжен.
– Да неужели? А прогулки в саду Шамбла, где все видели, как Жак Бессон вел под руку обеих дам, как он разговаривал шепотом с госпожой Марселанж, между тем как графиня уходила на двести шагов вперед? Это что, тоже сплетни?
– Пойдемте в дом, – вдруг засуетился Жером Пюжен. – Неблагоразумно разговаривать о подобных вещах на улице: графини де Шамбла очень могущественны и… словом, я предпочел бы иметь дело с десятью Жаками Бессонами, чем с одной графиней ла Рош-Негли.
В восемь часов вечера, когда уже стемнело, какой-то человек проскользнул как тень мимо домов, остановился у особняка графини де Шамбла и постучал в дверь два раза, но так тихо, что казалось, что стук едва смогут услышать изнутри. Однако дверь тотчас же бесшумно отворилась, и тень проскользнула в переднюю. Этой тенью был Арзак. Закрыв за ним дверь, Мари Будон провела его в маленькую гостиную, где обычно сидели дамы.
Жак Бессон сидел между ними в большом кресле перед камином. Госпожа Марселанж подавала ему чашку с тизаной. При появлении Арзака госпожа Марселанж, которая сидела, наклонившись к Жаку, вдруг вскочила и отодвинула кресло. Но графиня, всегда умевшая владеть собой, воспользовалась этим обстоятельством, вместо того чтобы смутиться, как ее дочь.
– Ну, Арзак, – сказала она ему, указывая на госпожу Марселанж, которая все еще держала чашку в руке, – вы видите, вот это графини де Шамбла, которых представляют такими надменными и суровыми по отношению к своим слугам.
– О! – протянул пастух с тем двусмысленным простодушием, которое придавало всем его словам загадочный смысл. – Для меня вовсе не открытие, что эти дамы всегда были добры к Жаку.
Графиня устремила на Арзака пронизывающий взгляд, но молодой крестьянин противопоставил неудовольствию знатной дамы спокойствие и хладнокровие.
– Я добра и к Жаку, и к другим моим служителям, когда мне известны их верность и предан– ность, – возразила она после некоторого молчания и тотчас добавила: – Мари, подай мне эту бутылку и стакан.
Служанка повиновалась. Графиня налила в стакан вина и подала его Арзаку. Тот взял его, несколько смутившись, потом вытер рот рукавом своего камзола и разом опорожнил стакан, после чего почтительно возвратил его графине, которая приняла его обратно, по-видимому, нисколько не оскорбившись этим странным поступком.
– Ну, принес ли ты нам новости? – спросила Мари Будон, догадываясь о том, что по каким-то причинам дамы не хотят сами расспрашивать Арзака.
– Новости-то я принес, – ответил крестьянин.
– Ага! – сказала графиня, слегка нахмурив брови.
– Ну, говори, что такое случилось? Что ты нам скажешь? – с нетерпением продолжала служанка.
– Я знаю, зачем господин Марселанж уезжает из Шамбла.
– Говори же скорее.
– Потерпите немножко, – спокойно возразил Арзак. – Вы знаете мою хижину, ваше сиятельство, мою маленькую хижину на колесах, где я ночую в поле среди своего стада?
– Да, конечно, знаю, – ответила графиня. – Что дальше?
– Сегодня в шесть часов, когда еще было совсем светло, я издали увидел господина Марселанжа с каким-то человеком, которого не знаю. Они должны были пройти мимо моей хижины; мне тотчас пришло в голову запереться там, и вы убедитесь, что чутье не обмануло меня. Через несколько минут они остановились возле моей хижины, не подозревая, что в такое время там кто-нибудь есть, и принялись разговаривать так свободно, как будто находились в замке Шамбла.
– Ты что-нибудь слышал? – с живостью спросила графиня.
– Благодаря щели в досках моей хижинки, щели, оказавшей мне уже немало полезных услуг, я видел их и слышал, как будто мы все трое разговаривали у камина.
– Как выглядел господин Марселанж?
– Печально и мрачно.
– О чем он говорил?
– О своем скором отъезде в Мулен и об аренде Шамбла. И от того и от другого нотариус его отговаривал, потому что я скоро понял, что второй-то и был нотариус.
– Гранжон, может быть? – спросила графиня.
– Именно. Итак, нотариус говорил господину Марселанжу, что зря он уезжает из Шамбла, если только на это у него нет веских причин. Я передаю вам их разговор в точности как слышал, графиня, – прервал сам себя Арзак.
– Я не сомневаюсь, Арзак, продолжай.
– Ну да, у меня есть веские причины для отъезда, – ответил господин Марселанж. – Настолько веские, что не решился сообщить их вам у себя, поскольку я опасаюсь, что кто-то из слуг шпионит за мной – некоторые ведь подкуплены графиней. И я привел вас сюда, в поле, где я, по крайней мере, уверен, что никто не услышит нашего разговора. Можете себе представить, как я обрадовался, – прибавил Арзак. – Я затаил дыхание и не шевелился, как сурок в своей норе.
– Дальше! – прошептала графиня отрывистым и нетерпеливым голосом.
– Господин Марселанж закрыл глаза рукой и стоял так несколько минут, не говоря ни слова, потом приподнял голову и продолжал:
– Я уезжаю отсюда, господин Гранжон, потому что боюсь двух женщин.
– Двух женщин! – вскрикнул нотариус с удивленным видом. – О боже мой! Чего же вы можете бояться со стороны двух женщин?
– Гранжон, – продолжал господин Марселанж, понизив голос и смотря нотариусу прямо в глаза, – эти две женщины – графиня ла Рош-Негли и ее дочь, и если вы их знаете, особенно если знаете графиню, вы поймете мой страх.
– Он так и сказал?! – гневно вскрикнула графиня.
– Чего же вы можете опасаться со стороны графини? – удивился нотариус.
Мне показалось, что господин Марселанж не решался говорить, но это продолжалось недолго.
– Я не стану ничего от вас скрывать, вы узнаете все, – произнес он. – Уже несколько месяцев меня повсюду и ежечасно преследует предчувствие, которое не дает мне спать по ночам. Это предчувствие скорой насильственной смерти.
– Убийства? – вскрикнул нотариус.
– Да, – признался господин Марселанж. – Я вижу повсюду и ежечасно, днем и ночью, нож или ружье убийцы, направленные мне в грудь; вот почему я хочу уехать отсюда через три дня, я ни за что не останусь здесь, даже если мне придется лишиться поместья Шамбла.
– Но какие у вас основания полагать, – удивился нотариус, – что женщина, графиня ла Рош-Негли…
– О! – перебил его господин Марселанж. – У графини есть двое преданных псов, которые по одному ее знаку способны на все: это ее слуги Мари Будон и Жак Бессон.
Мари Будон пожала плечами, но лицо Жака Бессона слегка помрачнело, и этот почти неприметный нюанс не ускользнул от внимания графини, которая следила за реакцией Жака на рассказ Арзака.
– Дальше! – холодно приказала она.
– Впрочем, – продолжал господин Марселанж, – это предчувствие настолько сильно преследовало меня и я так твердо был уверен в своей скорой и неизбежной смерти, что не колеблясь назвал им имена людей, на которых они должны донести, если убийство все-таки совершится.
Арзак умолк, и воцарилось тягостное молчание. Каждый из присутствовавших по-своему отреагировал на услышанное. Госпожа Теодора сидела бледная как полотно, по-видимому, не в состоянии о чем-либо думать. Лицо графини хранило гордое и презрительное выражение, однако она украдкой бросала тревожные взгляды на Жака Бессона, который старался казаться спокойным и бесстрастным, хотя дрожание уголков губ говорило о том, что он сильно взволнован. Что же касается Арзака и Мари Будон, то на их лицах читалось лишь полное равнодушие, к которому у Мари примешивались непоколебимая смелость и глубокое презрение к опасности.
– Это все? – спросил наконец Жак Бессон как ни в чем не бывало.
– Почти, – беззаботно ответил пастух.
– Что же еще сказал господин Марселанж? – поинтересовалась графиня.
– Он сказал нотариусу, пожав ему руку, что не может выразить словами, как он рад уехать из Шамбла, кровли и башни которого с некоторых пор приняли в его глазах зловещий вид большой гробницы. Потом они оба ушли по дороге к замку.
После довольно долгой паузы графиня обернулась к Жаку Бессону и спросила его, придав каждому своему слову особую выразительность:
– Что вы скажете об этих предчувствиях и об этом рассказе?
Жак побледнел, однако отвечал, глядя на графиню и делая ударение на каждом слове:
– Если ваше сиятельство мне доверяют, то должны быть уверены в том, что это меня нисколько не тревожит, и вас это также тревожить не должно. Я прошу у вас позволения пройти с Арзаком в мою комнату и поговорить с ним с глазу на глаз.
По знаку графини Жак Бессон и Арзак вышли и беседовали больше часа.
VI
Через день после описанных событий два человека разговаривали на мосту Шартрез. Это были какой-то крестьянин и портной Пьер Бори, который три дня назад останавливался у дверей супругов Пюжен, соседей Шамбла. Хотя на дворе стоял август, было прохладно и дул сильный ветер, поднимавший на мосту и на дороге вихри пыли.
– Господи боже мой! – вскрикнул вдруг крестьянин, вздрогнув от холода. – Точно осень!
– Скорее зима, – возразил портной, красный нос которого живо реагировал на суровость погоды.
– Я не прочь пострелять дичь, – признался крестьянин, – и рассчитывал провести добрую часть ночи на охоте, но надо быть врагом самому себе, чтобы отправиться в лес в такую погоду. А вот кто-то похрабрее меня: идет на охоту, – добавил он, указывая Пьеру Бори на человека, который появился на другом конце моста.
– А вы откуда знаете? – спросил портной.
– Нетрудно догадаться: он несет ружье и идет за час до темноты.
– Он отправляется охотиться в лесу Шамбла, это верно; там дичи пропасть, ему что-нибудь наверняка достанется.
– Возможно, – согласился крестьянин. – Но может быть, ему достанется то, чего он не ожидает, то есть воспаление в груди.
– Тем более что он не очень крепкого сложения. Посмотрите, он едва держится на ногах, словно шатается от ветра.
– Да и одет-то не по погоде, в одной рубахе в такой холод! Однако эта рубаха и панталоны оливкового бархата кажутся мне знакомыми, – тут же прибавил он.
– Не знаю, узнал ли и вас этот человек, – заметил Пьер Бори, – но он наверняка вас избегает.
Действительно, с умыслом или случайно, но человек, шедший по мосту, вдруг изменил направление, надвинул шляпу на глаза и наклонил голову, как бы желая защититься от холодного ветра. Черты его лица стали почти неразличимы. Он ускорил шаг, не смотря ни направо, ни налево, и уже совсем было перешел мост, когда крестьянин окликнул его.
– Здравствуйте, Жак! – закричал ему крестьянин. – Куда это вы идете?
Жак Бессон вдруг остановился как вкопанный и оставался несколько мгновений неподвижен, очевидно не решаясь ответить на приветствие крестьянина, потом вдруг снова пошел вперед, ответив на ходу:
– Я иду в Фэ.
Но ему никак не удавалось отвязаться от упрямого крестьянина, потому что тот тотчас прокричал:
– Эй, Жак, не хотите ли табачку?
Жак Бессон опять остановился, лицо его исказилось гримасой злобы, молния сверкнула из его черных глаз, а рука яростно сжала дуло ружья, но у него хватило сил совладать с собой. Он с самым равнодушным видом подошел к тому, кого хотел бы растоптать. Раскрыв свою табакерку, крестьянин по-дружески предложил ее Жаку Бессону, не отказавшемуся от щепотки табака.
– Господи боже мой! – вскрикнул вдруг крестьянин, вздрогнув от холода. – Точно осень!
– Скорее зима, – возразил портной, красный нос которого живо реагировал на суровость погоды.
– Я не прочь пострелять дичь, – признался крестьянин, – и рассчитывал провести добрую часть ночи на охоте, но надо быть врагом самому себе, чтобы отправиться в лес в такую погоду. А вот кто-то похрабрее меня: идет на охоту, – добавил он, указывая Пьеру Бори на человека, который появился на другом конце моста.
– А вы откуда знаете? – спросил портной.
– Нетрудно догадаться: он несет ружье и идет за час до темноты.
– Он отправляется охотиться в лесу Шамбла, это верно; там дичи пропасть, ему что-нибудь наверняка достанется.
– Возможно, – согласился крестьянин. – Но может быть, ему достанется то, чего он не ожидает, то есть воспаление в груди.
– Тем более что он не очень крепкого сложения. Посмотрите, он едва держится на ногах, словно шатается от ветра.
– Да и одет-то не по погоде, в одной рубахе в такой холод! Однако эта рубаха и панталоны оливкового бархата кажутся мне знакомыми, – тут же прибавил он.
– Не знаю, узнал ли и вас этот человек, – заметил Пьер Бори, – но он наверняка вас избегает.
Действительно, с умыслом или случайно, но человек, шедший по мосту, вдруг изменил направление, надвинул шляпу на глаза и наклонил голову, как бы желая защититься от холодного ветра. Черты его лица стали почти неразличимы. Он ускорил шаг, не смотря ни направо, ни налево, и уже совсем было перешел мост, когда крестьянин окликнул его.
– Здравствуйте, Жак! – закричал ему крестьянин. – Куда это вы идете?
Жак Бессон вдруг остановился как вкопанный и оставался несколько мгновений неподвижен, очевидно не решаясь ответить на приветствие крестьянина, потом вдруг снова пошел вперед, ответив на ходу:
– Я иду в Фэ.
Но ему никак не удавалось отвязаться от упрямого крестьянина, потому что тот тотчас прокричал:
– Эй, Жак, не хотите ли табачку?
Жак Бессон опять остановился, лицо его исказилось гримасой злобы, молния сверкнула из его черных глаз, а рука яростно сжала дуло ружья, но у него хватило сил совладать с собой. Он с самым равнодушным видом подошел к тому, кого хотел бы растоптать. Раскрыв свою табакерку, крестьянин по-дружески предложил ее Жаку Бессону, не отказавшемуся от щепотки табака.
