– И я не понимаю, – говорю. – Слышались мне сквозь сон голоса, только я так и не проснулся.
– Может, опоили они тебя чем-нибудь? – спрашивает Ковров.
– Не думаю, – говорю. – Ничего мы, кроме чая, не пили, а чай все трое пили одинаковый.
– Кто там разберет, – говорит Ковров. – Ты все-таки чай пей там поаккуратнее. Постарайся как-нибудь незаметно отлить малость этого чая и принести к нам… Сумеешь?
– Сумею, – говорю. – Теперь им меня провести не удастся.
– Только, смотри, вида не подавай, будто ты что-нибудь подозреваешь, – продолжает Ковров. – Не заметил, племянник никаких бумаг или оружия не привез?
Пожал я плечами, покачал головой…
– Привез, – говорю. – Лепешки да сало.
– Не говори так, – объясняет Ковров. – Они военное выступление в Петрограде готовят. Дело не шуточное! Иностранные разведчики не зря через фронт перебираются. У заговорщиков и план есть, и с белогвардейцами они в переписке! Это, брат, война…
Выдвигает он из стола ящик, достает булку, подает мне.
– Мать честная! – восклицаю я. – Булка!
– Да, – подтверждает Ковров усмехаясь. – Нашлись филантропы! Вчера из одного консульства целую сотню прислали в детский дом…
– Ну и что же? – спрашиваю я.
– А как ты думаешь, что может быть в такой булке? – в свою очередь спрашивает меня Ковров.
– А мы посмотрим, – говорю я, угадывая намек Коврова, и разламываю булку пополам, предполагая что-нибудь в ней найти. Но увы, это оказывается самая обыкновенная булка! На всякий случай выковырял я из одной половинки мякиш, но, кроме мякиша, так ничего и не нашел.
– Ничего, – разочарованно произношу я и вопросительно взглядываю на Коврова. – Ты как думаешь?
Ковров берет в руки выпотрошенную половинку, осторожно отгибает поджаристую корочку, и я вижу несколько небольших продолговатых предметов, лежащих под корочкой, точно бобы в стручке.
– Что это? – спрашиваю.
– А капсюли для гранат, – объясняет Ковров. – С пустыми руками телеграф или вокзал не захватишь…
– И как же вы поступили? – интересуюсь я.
– Доставили булки по адресу, – говорит Ковров. – Ребята были очень довольны. Только воспитательницу, у которой нашлись эти капсюли, пришлось разлучить с детишками…
Ну, тут я догадался, что это – мне наглядный урок и предупреждение.
Прихожу домой, и в сердце у меня теплилась маленькая надежда на то, что племянник этот придет еще разок к нам в дом переночевать.
– Понравился мне ваш племянник, Александра Евгеньевна, – говорю я своей хозяйке.
– И вы ему очень понравились, – отвечает она. – Просил вам привет передать. Заходил он тут без вас, из Пскова телеграмма пришла, вызвали его обратно.
– Может, опоили они тебя чем-нибудь? – спрашивает Ковров.
– Не думаю, – говорю. – Ничего мы, кроме чая, не пили, а чай все трое пили одинаковый.
– Кто там разберет, – говорит Ковров. – Ты все-таки чай пей там поаккуратнее. Постарайся как-нибудь незаметно отлить малость этого чая и принести к нам… Сумеешь?
– Сумею, – говорю. – Теперь им меня провести не удастся.
– Только, смотри, вида не подавай, будто ты что-нибудь подозреваешь, – продолжает Ковров. – Не заметил, племянник никаких бумаг или оружия не привез?
Пожал я плечами, покачал головой…
– Привез, – говорю. – Лепешки да сало.
– Не говори так, – объясняет Ковров. – Они военное выступление в Петрограде готовят. Дело не шуточное! Иностранные разведчики не зря через фронт перебираются. У заговорщиков и план есть, и с белогвардейцами они в переписке! Это, брат, война…
Выдвигает он из стола ящик, достает булку, подает мне.
– Мать честная! – восклицаю я. – Булка!
– Да, – подтверждает Ковров усмехаясь. – Нашлись филантропы! Вчера из одного консульства целую сотню прислали в детский дом…
– Ну и что же? – спрашиваю я.
– А как ты думаешь, что может быть в такой булке? – в свою очередь спрашивает меня Ковров.
– А мы посмотрим, – говорю я, угадывая намек Коврова, и разламываю булку пополам, предполагая что-нибудь в ней найти. Но увы, это оказывается самая обыкновенная булка! На всякий случай выковырял я из одной половинки мякиш, но, кроме мякиша, так ничего и не нашел.
– Ничего, – разочарованно произношу я и вопросительно взглядываю на Коврова. – Ты как думаешь?
Ковров берет в руки выпотрошенную половинку, осторожно отгибает поджаристую корочку, и я вижу несколько небольших продолговатых предметов, лежащих под корочкой, точно бобы в стручке.
– Что это? – спрашиваю.
– А капсюли для гранат, – объясняет Ковров. – С пустыми руками телеграф или вокзал не захватишь…
– И как же вы поступили? – интересуюсь я.
– Доставили булки по адресу, – говорит Ковров. – Ребята были очень довольны. Только воспитательницу, у которой нашлись эти капсюли, пришлось разлучить с детишками…
Ну, тут я догадался, что это – мне наглядный урок и предупреждение.
Прихожу домой, и в сердце у меня теплилась маленькая надежда на то, что племянник этот придет еще разок к нам в дом переночевать.
– Понравился мне ваш племянник, Александра Евгеньевна, – говорю я своей хозяйке.
– И вы ему очень понравились, – отвечает она. – Просил вам привет передать. Заходил он тут без вас, из Пскова телеграмма пришла, вызвали его обратно.
6
Опять потянулись обычные мои тоскливые дни. Живем мы с Александрой Евгеньевной, будто ничего не произошло. Она об обыске не заикается, а я делаю вид, будто и понятия о нем не имею. Сентябрь подходил к концу. Начались дожди, на улице стало пасмурнее. В газетах пишут, что деникинцы к Курску приближаются, настроение у меня паршивое… Но я не подаю вида, креплюсь, о фронте стараюсь не вспоминать. После истории с племянником убедился: прав Ковров, что послал меня сюда. Конечно, вместе с товарищами на позициях и легче, и веселее, но ведь надо кому-нибудь и здесь находиться.
Одно у меня утешение – Виктор. Придет вечером, натопим мы с ним печку, он мне книжки вслух читает, я ему всякие истории рассказываю; крепко мы с ним подружились, даром что между нами пятнадцать лет разницы.
Совет Коврова я не забывал, нашел где-то в доме пустой флакон из-под одеколона, припрятал под шкафом и жду подходящего случая.
А случай никак не подвертывается! Решил я тогда Виктора на помощь мобилизовать.
Пришел он, я и говорю ему.
– Если придет к нам сегодня Александра Евгеньевна чай пить, дается тебе следующее боевое задание: выйди за чем-нибудь из комнаты и свали в какой-нибудь гостиной горку или этажерку. Словом, разбей что-нибудь. Погромче, с шумом, с криком… Я на тебя тоже напущусь. А ты винись, оправдывайся… И смотри: держи язык за зубами, будто сам напроказил…
Виктор чудо-парень был: все поймет и лишнего не спрашивает.
Попозже заходит к нам Александра Евгеньевна.
– Я к вам в гости, – говорит. – Не прогоните?
– Милости прошу к нашему шалашу, – говорю. – Чайник вот-вот закипит.
Берется она, по обыкновению, хозяйничать, заваривает чай из брусничного листа, разливает по чашкам, я из угольев печеную картошку выгребаю, все идет честь честью.
– Хорошо бы немножко дровишек подбросить, – говорю. – Слетай-ка, Виктор, в коридор, там щепки в углу лежат, принеси.
Виктор стремглав убегает, и дальше все разыгрывается как по нотам. В комнату доносится шум, грохот и крик Виктора, что-то звенит и бьется, и я вижу, как Александра Евгеньевна даже в лице меняется…
– Что такое там случилось? – восклицает она и выбегает из комнаты.
А я тем временем свой чай быстро выливаю в пузырек, ставлю пузырек под кровать, выполаскиваю чашку, наливаю себе свежего чаю и затем бегу следом за старухой.
Вижу – постарался Виктор. Валяется на полу этажерка, а вокруг нее черепков видимо-невидимо. Старуха стоит бледная, в лице ни кровинки, губы трясутся.
– Боже мой! – бормочет она. – Что он наделал? Ведь это наполеоновский фарфор. Вы посмотрите…
Поднимает она черепки, показывает мне вензель, я ее утешаю, и, надо отдать ей справедливость, старуха быстро берет себя в руки и, уж не знаю, как там внутри, но внешне успокаивается.
– Что ж, – говорит, – потерянного не вернешь, попробую завтра склеить, что можно, а пока идемте чай пить, остынет.
Вернулись мы в комнату.
– Чай-то остыл, – говорю, – не переменить ли?
– Когда чай не очень горячий – полезнее, – говорит старуха. – И потом я вам сахару, Иван Николаевич, положила, жалко выбрасывать.
– Ну, если сахар положили, жалко, – говорю я, и пью свой несладкий чай и закусываю его печеной картошкой.
– Слышали? – спрашиваю я старуху. – На днях диверсанты пытались охтинские заводы взорвать.
– Какой ужас! – говорит Борецкая. – Могли ведь люди погибнуть…
– Ну, они людей не жалеют, – говорю я. – На то они и белогвардейцы. – И оборачиваюсь к Виктору. – Верно?
Но Виктор, хоть и не по своей вине посуду побил, однако, вижу, смущается, собрался раньше времени уходить, а я его не задерживаю: уйдет, думаю, легче мне без него комедию играть.
– Что-то ко сну меня клонит, – говорю я Александре Евгеньевне. – Глаза слипаются.
– А вы ложитесь, – говорит она, – я вам мешать не буду.
Пожелала мне спокойной ночи, я ей взаимно, ушла она, я дверь на ключ, потушил лампу, с шумом снял сапоги, лег на кровать и даже похрапывать начал.
Лежать лежу, но заснуть себе не позволяю. Да и не хотелось спать. Час так прошел, а может, и больше…
Слышу, будто дверь хлопнула: негромко, точно кто-то закрывал дверь и не удержал. Чудятся мне какие-то шаги и голоса… Вслушиваюсь. Очень даже явственно чудятся голоса. Поднялся я как нельзя осторожнее, достал из кармана револьвер, подошел к двери и притаился. Стою, молчу и слушаю. Не шелохнусь, будто все во мне замерло.
Время идет. Снова тишина наступила. Шаги стихли, голоса смолкли. Я прямо физически ощущаю, как идет время: секунда, еще секунда, еще секунда… Слух мой до того обострился, что мне казалось, будто я даже тиканье часов у старухи в комнате улавливаю, хотя, может быть, это просто сердце во мне так билось… Значит, стихло все. Открываю дверь еле-еле. Везде темно. Иду босиком по полу, сжимаю в руке револьвер, вслушиваюсь в темноту… Как будто журчат голоса. Иду через гостиные, через залу, как кошка иду, нервы напряжены, и не то чтобы я хорошо видел, прямо при помощи какого-то чутья ориентировался в темноте.
Дошел до угловой комнаты, там у старухи самый ценный фарфор хранился. Дверь закрыта, но внизу пробивается сквозь щель слабый свет. Теперь уж сомнений никаких: разговаривают за дверью, и не один человек, а несколько.
Подкрался я к двери… Все мужские голоса. Говорят о нападении, говорят негромко, о захвате какого-то здания толкуют, Юденича раза два помянули…
Похолодел я. Вчера только в газетах прочел о том, что деникинцы Курск взяли. Вот, думаю, и в Питере закопошились, гады. Нет, думаю, не бывать тому, чтобы вам отсюда целыми выбраться. Недаром, оказывается, послали меня сюда. А угловая комната, надо сказать, вроде мышеловки: три окна на улицу заделаны решетками и дверь из нее всего одна, в залу.
“Ну, Ваня, – говорю мысленно сам себе, – действуй решительно, захвати этих врагов народа в собственном их гнезде…”
Тут я, надо признаться, погорячился, не подумал как следует, дал чувствам волю…
Пошарил рукой: ключ в двери.
Эх, думаю, была не была! Раз, раз, повернул ключ, тут еще в простенке комод какой-то золоченый стоял, тяжелый такой, плотный… С трудом, правда, но придвинул я его к двери, сам к окну, рванул раму, распахнул, встал на подоконник…
Слышу, поднялся в угловой комнате переполох, кто-то в дверь торкнулся, стучит кто-то, кричит из-за двери:
– Открой, мерзавец, тебе же хуже будет!
– А ну, гады, – кричу, – суньтесь только к окну или к двери – всех перестреляю!
Понимаю, конечно: всех их мне одному не забрать, людей вызывать надо… Дуло вверх – и бац, бац… Услышат, думаю, прибегут… А как же еще, думаю, вызвать к себе подмогу? А в дверь стучат, кричат что-то. Попались, голубчики, думаю, не вырветесь…
Выстрелил я еще раз… Стихло все за дверью. Слышу – бегут по улице… Патруль!
– В чем дело? – спрашивают.
– Так и так, – говорю, – товарищи, предстоит нам захватить и обезоружить одну белую банду…
Тут часть товарищей становится возле дверей и окон, другие бегут звонить куда следует, и в скором времени приезжают на грузовике чекисты. Входим мы в залу, отодвигаем в сторону комод, открываем дверь и… Надо только представить себе мое дурацкое положение!.. В комнате, оказывается, нет никого, и нет даже никакого следа, свидетельствующего о том, что там кто-то находился.
В это время входит в залу Борецкая, в капоте, со свечкой в руке, и я вижу, что она нисколько не смущена тем, что в ее квартире находится столько неприятного ей народа.
– В чем дело, граждане? – говорит она. – У меня охранная грамота. И, кроме того, пожалуйста, поосторожнее. Здесь много дорогой посуды, и вся она в скором времени станет народным достоянием.
– А в том, – отвечают ей, – что сейчас у вас здесь кто-то находился!
– Кто же мог у меня находиться, – возражает Борецкая, – когда у меня живет этот больной матросик… – И она без всякого смущения указывает на меня. – Получил он тяжелое ранение на фронте, числится теперь инвалидом, вселен ко мне по ордеру, и я сама не знаю, как от него уберечься, потому что чудятся ему всюду контрреволюционеры, бегает он с револьвером по комнатам, и вообще, кажется мне, что он не вполне в своем уме.
И мне действительно крыть эти слова нечем, все правильно: числюсь я инвалидом, вселен по ордеру, и, главное, кроме этой вредной старухи, меня и мышей, никого в доме нет.
А тут еще она всхлипывает и говорит:
– Очень я прошу оградить меня от такого опасного соседства, я женщина старая, что я с ним буду делать…
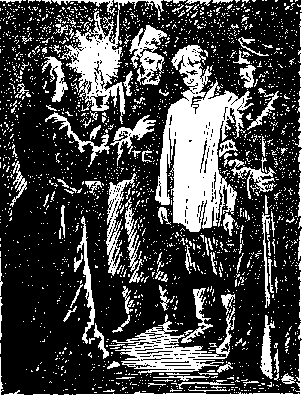
Все с сожалением смотрят на меня, и я слышу за своей спиной не очень-то лестные слова по своему адресу, и все кончилось тем, что составили протокол о моем буйном поведении, проверили мои документы и велели утром явиться на освидетельствование в психиатрическую больницу.
Одно у меня утешение – Виктор. Придет вечером, натопим мы с ним печку, он мне книжки вслух читает, я ему всякие истории рассказываю; крепко мы с ним подружились, даром что между нами пятнадцать лет разницы.
Совет Коврова я не забывал, нашел где-то в доме пустой флакон из-под одеколона, припрятал под шкафом и жду подходящего случая.
А случай никак не подвертывается! Решил я тогда Виктора на помощь мобилизовать.
Пришел он, я и говорю ему.
– Если придет к нам сегодня Александра Евгеньевна чай пить, дается тебе следующее боевое задание: выйди за чем-нибудь из комнаты и свали в какой-нибудь гостиной горку или этажерку. Словом, разбей что-нибудь. Погромче, с шумом, с криком… Я на тебя тоже напущусь. А ты винись, оправдывайся… И смотри: держи язык за зубами, будто сам напроказил…
Виктор чудо-парень был: все поймет и лишнего не спрашивает.
Попозже заходит к нам Александра Евгеньевна.
– Я к вам в гости, – говорит. – Не прогоните?
– Милости прошу к нашему шалашу, – говорю. – Чайник вот-вот закипит.
Берется она, по обыкновению, хозяйничать, заваривает чай из брусничного листа, разливает по чашкам, я из угольев печеную картошку выгребаю, все идет честь честью.
– Хорошо бы немножко дровишек подбросить, – говорю. – Слетай-ка, Виктор, в коридор, там щепки в углу лежат, принеси.
Виктор стремглав убегает, и дальше все разыгрывается как по нотам. В комнату доносится шум, грохот и крик Виктора, что-то звенит и бьется, и я вижу, как Александра Евгеньевна даже в лице меняется…
– Что такое там случилось? – восклицает она и выбегает из комнаты.
А я тем временем свой чай быстро выливаю в пузырек, ставлю пузырек под кровать, выполаскиваю чашку, наливаю себе свежего чаю и затем бегу следом за старухой.
Вижу – постарался Виктор. Валяется на полу этажерка, а вокруг нее черепков видимо-невидимо. Старуха стоит бледная, в лице ни кровинки, губы трясутся.
– Боже мой! – бормочет она. – Что он наделал? Ведь это наполеоновский фарфор. Вы посмотрите…
Поднимает она черепки, показывает мне вензель, я ее утешаю, и, надо отдать ей справедливость, старуха быстро берет себя в руки и, уж не знаю, как там внутри, но внешне успокаивается.
– Что ж, – говорит, – потерянного не вернешь, попробую завтра склеить, что можно, а пока идемте чай пить, остынет.
Вернулись мы в комнату.
– Чай-то остыл, – говорю, – не переменить ли?
– Когда чай не очень горячий – полезнее, – говорит старуха. – И потом я вам сахару, Иван Николаевич, положила, жалко выбрасывать.
– Ну, если сахар положили, жалко, – говорю я, и пью свой несладкий чай и закусываю его печеной картошкой.
– Слышали? – спрашиваю я старуху. – На днях диверсанты пытались охтинские заводы взорвать.
– Какой ужас! – говорит Борецкая. – Могли ведь люди погибнуть…
– Ну, они людей не жалеют, – говорю я. – На то они и белогвардейцы. – И оборачиваюсь к Виктору. – Верно?
Но Виктор, хоть и не по своей вине посуду побил, однако, вижу, смущается, собрался раньше времени уходить, а я его не задерживаю: уйдет, думаю, легче мне без него комедию играть.
– Что-то ко сну меня клонит, – говорю я Александре Евгеньевне. – Глаза слипаются.
– А вы ложитесь, – говорит она, – я вам мешать не буду.
Пожелала мне спокойной ночи, я ей взаимно, ушла она, я дверь на ключ, потушил лампу, с шумом снял сапоги, лег на кровать и даже похрапывать начал.
Лежать лежу, но заснуть себе не позволяю. Да и не хотелось спать. Час так прошел, а может, и больше…
Слышу, будто дверь хлопнула: негромко, точно кто-то закрывал дверь и не удержал. Чудятся мне какие-то шаги и голоса… Вслушиваюсь. Очень даже явственно чудятся голоса. Поднялся я как нельзя осторожнее, достал из кармана револьвер, подошел к двери и притаился. Стою, молчу и слушаю. Не шелохнусь, будто все во мне замерло.
Время идет. Снова тишина наступила. Шаги стихли, голоса смолкли. Я прямо физически ощущаю, как идет время: секунда, еще секунда, еще секунда… Слух мой до того обострился, что мне казалось, будто я даже тиканье часов у старухи в комнате улавливаю, хотя, может быть, это просто сердце во мне так билось… Значит, стихло все. Открываю дверь еле-еле. Везде темно. Иду босиком по полу, сжимаю в руке револьвер, вслушиваюсь в темноту… Как будто журчат голоса. Иду через гостиные, через залу, как кошка иду, нервы напряжены, и не то чтобы я хорошо видел, прямо при помощи какого-то чутья ориентировался в темноте.
Дошел до угловой комнаты, там у старухи самый ценный фарфор хранился. Дверь закрыта, но внизу пробивается сквозь щель слабый свет. Теперь уж сомнений никаких: разговаривают за дверью, и не один человек, а несколько.
Подкрался я к двери… Все мужские голоса. Говорят о нападении, говорят негромко, о захвате какого-то здания толкуют, Юденича раза два помянули…
Похолодел я. Вчера только в газетах прочел о том, что деникинцы Курск взяли. Вот, думаю, и в Питере закопошились, гады. Нет, думаю, не бывать тому, чтобы вам отсюда целыми выбраться. Недаром, оказывается, послали меня сюда. А угловая комната, надо сказать, вроде мышеловки: три окна на улицу заделаны решетками и дверь из нее всего одна, в залу.
“Ну, Ваня, – говорю мысленно сам себе, – действуй решительно, захвати этих врагов народа в собственном их гнезде…”
Тут я, надо признаться, погорячился, не подумал как следует, дал чувствам волю…
Пошарил рукой: ключ в двери.
Эх, думаю, была не была! Раз, раз, повернул ключ, тут еще в простенке комод какой-то золоченый стоял, тяжелый такой, плотный… С трудом, правда, но придвинул я его к двери, сам к окну, рванул раму, распахнул, встал на подоконник…
Слышу, поднялся в угловой комнате переполох, кто-то в дверь торкнулся, стучит кто-то, кричит из-за двери:
– Открой, мерзавец, тебе же хуже будет!
– А ну, гады, – кричу, – суньтесь только к окну или к двери – всех перестреляю!
Понимаю, конечно: всех их мне одному не забрать, людей вызывать надо… Дуло вверх – и бац, бац… Услышат, думаю, прибегут… А как же еще, думаю, вызвать к себе подмогу? А в дверь стучат, кричат что-то. Попались, голубчики, думаю, не вырветесь…
Выстрелил я еще раз… Стихло все за дверью. Слышу – бегут по улице… Патруль!
– В чем дело? – спрашивают.
– Так и так, – говорю, – товарищи, предстоит нам захватить и обезоружить одну белую банду…
Тут часть товарищей становится возле дверей и окон, другие бегут звонить куда следует, и в скором времени приезжают на грузовике чекисты. Входим мы в залу, отодвигаем в сторону комод, открываем дверь и… Надо только представить себе мое дурацкое положение!.. В комнате, оказывается, нет никого, и нет даже никакого следа, свидетельствующего о том, что там кто-то находился.
В это время входит в залу Борецкая, в капоте, со свечкой в руке, и я вижу, что она нисколько не смущена тем, что в ее квартире находится столько неприятного ей народа.
– В чем дело, граждане? – говорит она. – У меня охранная грамота. И, кроме того, пожалуйста, поосторожнее. Здесь много дорогой посуды, и вся она в скором времени станет народным достоянием.
– А в том, – отвечают ей, – что сейчас у вас здесь кто-то находился!
– Кто же мог у меня находиться, – возражает Борецкая, – когда у меня живет этот больной матросик… – И она без всякого смущения указывает на меня. – Получил он тяжелое ранение на фронте, числится теперь инвалидом, вселен ко мне по ордеру, и я сама не знаю, как от него уберечься, потому что чудятся ему всюду контрреволюционеры, бегает он с револьвером по комнатам, и вообще, кажется мне, что он не вполне в своем уме.
И мне действительно крыть эти слова нечем, все правильно: числюсь я инвалидом, вселен по ордеру, и, главное, кроме этой вредной старухи, меня и мышей, никого в доме нет.
А тут еще она всхлипывает и говорит:
– Очень я прошу оградить меня от такого опасного соседства, я женщина старая, что я с ним буду делать…
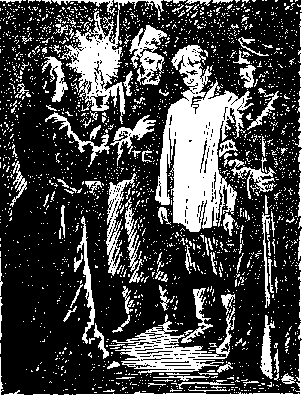
Все с сожалением смотрят на меня, и я слышу за своей спиной не очень-то лестные слова по своему адресу, и все кончилось тем, что составили протокол о моем буйном поведении, проверили мои документы и велели утром явиться на освидетельствование в психиатрическую больницу.
7
Дождался утра, прихожу к Коврову, подаю ему пузырек с чаем.
– Чай-то ты оставь, – говорит Ковров, – а вот поведение твое мне, брат, не нравится. Серьезную оплошность допустил. Поднял ночью пальбу, всю улицу перебудил, а что толку? Кому нужна такая работа? Нельзя на одного себя рассчитывать. Ты вроде как бы в разведке находишься и должен был, не поднимая шума, немедленно поставить нас обо всем в известность…
Ну, я объясняю, как было дело, оправдываюсь…
– А может, ты и в самом деле был пьян? – спрашивает Ковров.
Верно, обстоятельства против меня говорили, и я не обиделся, не было резонов обижаться.
– Что ж, – говорю, – революционер я или шантрапа какая-нибудь?
– Ну ладно, – говорит Ковров. – Погоди немного, узнаем сейчас, каким чайком потчует тебя твоя хозяйка.
Вызывает он своего помощника, передает ему пузырек, поручает съездить в химическую лабораторию и привезти оттуда анализ этого самого чая.
– А ты, – обращается он ко мне, – погуляй пока, сходи на часок в музей куда-нибудь, что ли.
Возвращаюсь я через некоторое время, зовут меня к Коврову, он сидит, усмехается.
– Говоришь, не померещились тебе голоса? – спрашивает он. – Пожалуй, что и так. А то с какой бы стати угощать тебя морфием? Слышал: лекарство такое есть, снотворное средство?
– В чаю-то? – спрашиваю.
– В нем самом.
– Значит, у меня от этого самого лекарства такой тяжелый сон?
– Пожалуй что так.
– А я думал, – говорю, – что это со мной от скуки…
– А вот ночью сегодня ты сглупил все-таки, – говорит Ковров. – Шуму много, а толку мало. Спугнул волков. Пусть думают, что в дураках нас оставили, но, смотри, – не проворонь еще чего-нибудь.
Пришел я домой, признаться, очень удрученный. Обидно было, что все мои старания пропали впустую. А тут еще старуха новый удар мне подготовила.
Пришел я к себе в комнату, сел. Думаю: приходится все начинать сызнова… Тут стук в дверь – Борецкая. Садится на стул как ни в чем не бывало и даже улыбается.
– У меня к вам, Иван Николаевич, – говорит она, – просьба…
– А что за гости все-таки были у вас ночью? – не выдержал, перебил я ее.
Глазом не моргнула!
– Это вам показалось, – говорит.
– Да какой там “показалось”! – говорю. – Мне вчера чего-то нездоровилось, не спалось, я голоса ясно слышал…
– Нет, это вам показалось, – повторяет она.
– Жалко, – отвечаю, – что другие думают, будто это мне показалось. Ну да ладно. Говорите, какая просьба.
– А просьба у меня, – говорит она, – такая. Больше вашего мальчика, который к нам ходит, я через свои комнаты пускать не буду. Очень неприятный ребенок, шаловливый и грубый. Вы сами знаете, везде стоит редкая посуда. Ответственность за ее сохранность лежит не на вас – на мне.
– Ходить ко мне мои знакомые могут, – возражаю я. – Я ведь здесь не в одиночном заключении.
– Ходить к вам, конечно, могут, не спорю, – говорит она, – но если этот ребенок, который уже разбил столько ценной посуды, будет продолжать здесь бывать, я вынуждена буду обратиться в советские учреждения. Принимайте кого хотите, но пусть вам дадут комнату в другом доме, а сюда вселят более безопасного человека.
Нет, думаю, бесстыжие твои глаза, не бывать этому, не уеду я отсюда, пока не сочтусь с тобой…
– И, поверьте мне, я настою на своем, – добавляет она. – Мои коллекции важнее ваших подозрений.
Не желая обострять с ней отношения, я сделал вид, будто растерялся и даже побаиваюсь ее угроз.
– Ладно, – говорю, – не будет больше ко мне этот мальчик ходить, извольте.
Вечером звонят. Иду отворять. В коридоре старуха мне уж навстречу бежит.
– Там ваш мальчик приходил.
Выхожу в переднюю – никого. Открываю дверь – на крыльце тоже никого. Оглядываюсь. Смотрю – Виктор мой идет по улице прочь от особняка.
– Виктор! – кричу. – Витька, постой!
А он идет, не оборачивается, только рукой махнул… Догнал я его.
– Ты что? – спрашиваю. – Загордился, разговаривать не хочешь?
– Александра Евгеньевна сказала, чтобы я больше к тебе не ходил, – бурчит он.
Обидела старуха мальчишку!
– Эх ты, баранья твоя голова, – говорю. – Меня бы спросил. Я тебе по-прежнему товарищ, только положение сейчас изменилось.
Подумал-подумал я, да и поделился с Виктором своими подозрениями… Не все, конечно, сказал, но сказал о том, что не спится мне и кажется, будто собираются в особняке по ночам вредные для советской власти люди…
Глаза у мальчишки заблестели, слушает, слова не проронил.
– Лучше мне из дому теперь пореже выходить, – говорю. – Ты ко мне под окно наведывайся. Подойди незаметно и постучи тихонько по стеклу… Азбуку-то, которой я тебя учил, не забыл?
– Нет, не забыл, – отвечает. – Ты не сомневайся, Иван Николаевич, я к тебе и днем и вечером буду подкрадываться под окно.
– Вот и хорошо, – говорю. – Может статься, понадобится мне от тебя помощь…
Пожал я ему руку, и обратно к себе домой.
Часа через два слышу – постукивает в окно: “Я тут, Иван Николаевич”.
Ну, думаю, отлично, связь налажена, и тоже стучу по стеклу, будто от скуки: “Все в порядке, иди спать”.
С этого дня жизнь моя, надо прямо сказать, стала еще скучнее. Лишился я единственного приятеля, сижу один в доме вместе со старухой и делать мне решительно нечего. Старуха все дни напролет книжки читает, и я почитываю. Никто к ней не ходит, и чувствую я, что так никого мне и не дождаться. Понятно: и старуха, и ее “племянники” настороже – зверя в одну и ту же ловушку два раза подряд не заманишь.
Наступил октябрь. Начались дожди, стало холодновато. Откроешь форточку – с улицы дует сырой промозглый ветер. Небо серое, в тучах. В газетах тоже всякие невеселые сообщения… В общем – пасмурно.
Внешне отношения у меня со старухой вполне приличные. Она женщина умная, и себя я тоже не считаю совсем глупым человеком. Оба понимаем: зря цапаться нечего… Худой мир лучше доброй ссоры, как говорится.
Правда, оба мы начеку, оба, фигурально выражаясь, друг с друга глаз не сводим.
Как-то хлопнула парадная дверь, я к выходу, старуха у двери. Услышала, что я иду, – хлоп дверью перед самым моим носом. Показалось мне, что с кем-то она разговаривала, открыл я дверь – на крыльце никого.
– Погодой интересуетесь? – спрашивает она меня.
– Да, – говорю, – погодой. Погулять хотел, да вот дождик…
Однако по вечерам по-прежнему она захаживала ко мне. Придет, сядет на диван, кружевцо какое-нибудь вяжет, расспрашивает меня о моей жизни, сама рассказывает, как в молодости на балах танцевала… Очень мило беседуем, как самые закадычные друзья,
Как-то вечером сидела она у меня, а Виктор в окно стучит. “Эх, – думаю, – не вовремя…”
Старушка сразу встрепенулась.
– Кажется, стучат? – спрашивает.
Но я не растерялся, – чтобы лишних подозрений не было, всегда лучше поменьше от правды уклоняться.
– Это Виктор, – говорю. – Меня проведать пришел. Я с ним теперь через форточку объясняюсь. Вот он и стучит.
Открываю форточку, кричу:
– Это ты, Виктор?
А он мне в ответ:
– Я, Иван Николаевич!
– У меня тут Александра Евгеньевна!.. – кричу ему. – Завтра поговорим!
Паренек догадливый, сообразил.
– Ладно! – кричит. – Завтра так завтра! Вижу – успокоилась старушка.
– Вы бы пошли, погуляли с ним, – говорит.
– Я бы пошел, – отвечаю, – да простудиться боюсь.
– А все-таки неприятный ребенок этот Виктор, – говорит она. – Грубый какой-то…
– Ничего не поделаешь, – отвечаю, – без гувернантки воспитывается.
– И не мешает он вам? – спрашивает она.
– А если мешает, – отвечаю, – я постучу ему: мол, занят, не мешай, он и уйдет. – И даже набрался нахальства, думаю – не может же эта старуха азбуку Морзе знать, – и выстукал Виктору: “Приходи попозже”.
Пожелала она мне приятного сна, ушла к себе.
Слышу: Виктор снова стучит, тихо-тихо: “Пришел я”.
“Приходил сегодня кто-то к старухе, – выстукиваю я, – не могу к тебе выйти”.
“Понимаю”, – отвечает Виктор.
“Пока все”, – стучу я и опять остаюсь в одиночестве.
Спать нельзя, мало ли что может случиться, читать надоело, делать нечего. Когда, думаю, эта мука кончится… За окном дождь, а в доме тишина такая, что в пору удавиться.
– Чай-то ты оставь, – говорит Ковров, – а вот поведение твое мне, брат, не нравится. Серьезную оплошность допустил. Поднял ночью пальбу, всю улицу перебудил, а что толку? Кому нужна такая работа? Нельзя на одного себя рассчитывать. Ты вроде как бы в разведке находишься и должен был, не поднимая шума, немедленно поставить нас обо всем в известность…
Ну, я объясняю, как было дело, оправдываюсь…
– А может, ты и в самом деле был пьян? – спрашивает Ковров.
Верно, обстоятельства против меня говорили, и я не обиделся, не было резонов обижаться.
– Что ж, – говорю, – революционер я или шантрапа какая-нибудь?
– Ну ладно, – говорит Ковров. – Погоди немного, узнаем сейчас, каким чайком потчует тебя твоя хозяйка.
Вызывает он своего помощника, передает ему пузырек, поручает съездить в химическую лабораторию и привезти оттуда анализ этого самого чая.
– А ты, – обращается он ко мне, – погуляй пока, сходи на часок в музей куда-нибудь, что ли.
Возвращаюсь я через некоторое время, зовут меня к Коврову, он сидит, усмехается.
– Говоришь, не померещились тебе голоса? – спрашивает он. – Пожалуй, что и так. А то с какой бы стати угощать тебя морфием? Слышал: лекарство такое есть, снотворное средство?
– В чаю-то? – спрашиваю.
– В нем самом.
– Значит, у меня от этого самого лекарства такой тяжелый сон?
– Пожалуй что так.
– А я думал, – говорю, – что это со мной от скуки…
– А вот ночью сегодня ты сглупил все-таки, – говорит Ковров. – Шуму много, а толку мало. Спугнул волков. Пусть думают, что в дураках нас оставили, но, смотри, – не проворонь еще чего-нибудь.
Пришел я домой, признаться, очень удрученный. Обидно было, что все мои старания пропали впустую. А тут еще старуха новый удар мне подготовила.
Пришел я к себе в комнату, сел. Думаю: приходится все начинать сызнова… Тут стук в дверь – Борецкая. Садится на стул как ни в чем не бывало и даже улыбается.
– У меня к вам, Иван Николаевич, – говорит она, – просьба…
– А что за гости все-таки были у вас ночью? – не выдержал, перебил я ее.
Глазом не моргнула!
– Это вам показалось, – говорит.
– Да какой там “показалось”! – говорю. – Мне вчера чего-то нездоровилось, не спалось, я голоса ясно слышал…
– Нет, это вам показалось, – повторяет она.
– Жалко, – отвечаю, – что другие думают, будто это мне показалось. Ну да ладно. Говорите, какая просьба.
– А просьба у меня, – говорит она, – такая. Больше вашего мальчика, который к нам ходит, я через свои комнаты пускать не буду. Очень неприятный ребенок, шаловливый и грубый. Вы сами знаете, везде стоит редкая посуда. Ответственность за ее сохранность лежит не на вас – на мне.
– Ходить ко мне мои знакомые могут, – возражаю я. – Я ведь здесь не в одиночном заключении.
– Ходить к вам, конечно, могут, не спорю, – говорит она, – но если этот ребенок, который уже разбил столько ценной посуды, будет продолжать здесь бывать, я вынуждена буду обратиться в советские учреждения. Принимайте кого хотите, но пусть вам дадут комнату в другом доме, а сюда вселят более безопасного человека.
Нет, думаю, бесстыжие твои глаза, не бывать этому, не уеду я отсюда, пока не сочтусь с тобой…
– И, поверьте мне, я настою на своем, – добавляет она. – Мои коллекции важнее ваших подозрений.
Не желая обострять с ней отношения, я сделал вид, будто растерялся и даже побаиваюсь ее угроз.
– Ладно, – говорю, – не будет больше ко мне этот мальчик ходить, извольте.
Вечером звонят. Иду отворять. В коридоре старуха мне уж навстречу бежит.
– Там ваш мальчик приходил.
Выхожу в переднюю – никого. Открываю дверь – на крыльце тоже никого. Оглядываюсь. Смотрю – Виктор мой идет по улице прочь от особняка.
– Виктор! – кричу. – Витька, постой!
А он идет, не оборачивается, только рукой махнул… Догнал я его.
– Ты что? – спрашиваю. – Загордился, разговаривать не хочешь?
– Александра Евгеньевна сказала, чтобы я больше к тебе не ходил, – бурчит он.
Обидела старуха мальчишку!
– Эх ты, баранья твоя голова, – говорю. – Меня бы спросил. Я тебе по-прежнему товарищ, только положение сейчас изменилось.
Подумал-подумал я, да и поделился с Виктором своими подозрениями… Не все, конечно, сказал, но сказал о том, что не спится мне и кажется, будто собираются в особняке по ночам вредные для советской власти люди…
Глаза у мальчишки заблестели, слушает, слова не проронил.
– Лучше мне из дому теперь пореже выходить, – говорю. – Ты ко мне под окно наведывайся. Подойди незаметно и постучи тихонько по стеклу… Азбуку-то, которой я тебя учил, не забыл?
– Нет, не забыл, – отвечает. – Ты не сомневайся, Иван Николаевич, я к тебе и днем и вечером буду подкрадываться под окно.
– Вот и хорошо, – говорю. – Может статься, понадобится мне от тебя помощь…
Пожал я ему руку, и обратно к себе домой.
Часа через два слышу – постукивает в окно: “Я тут, Иван Николаевич”.
Ну, думаю, отлично, связь налажена, и тоже стучу по стеклу, будто от скуки: “Все в порядке, иди спать”.
С этого дня жизнь моя, надо прямо сказать, стала еще скучнее. Лишился я единственного приятеля, сижу один в доме вместе со старухой и делать мне решительно нечего. Старуха все дни напролет книжки читает, и я почитываю. Никто к ней не ходит, и чувствую я, что так никого мне и не дождаться. Понятно: и старуха, и ее “племянники” настороже – зверя в одну и ту же ловушку два раза подряд не заманишь.
Наступил октябрь. Начались дожди, стало холодновато. Откроешь форточку – с улицы дует сырой промозглый ветер. Небо серое, в тучах. В газетах тоже всякие невеселые сообщения… В общем – пасмурно.
Внешне отношения у меня со старухой вполне приличные. Она женщина умная, и себя я тоже не считаю совсем глупым человеком. Оба понимаем: зря цапаться нечего… Худой мир лучше доброй ссоры, как говорится.
Правда, оба мы начеку, оба, фигурально выражаясь, друг с друга глаз не сводим.
Как-то хлопнула парадная дверь, я к выходу, старуха у двери. Услышала, что я иду, – хлоп дверью перед самым моим носом. Показалось мне, что с кем-то она разговаривала, открыл я дверь – на крыльце никого.
– Погодой интересуетесь? – спрашивает она меня.
– Да, – говорю, – погодой. Погулять хотел, да вот дождик…
Однако по вечерам по-прежнему она захаживала ко мне. Придет, сядет на диван, кружевцо какое-нибудь вяжет, расспрашивает меня о моей жизни, сама рассказывает, как в молодости на балах танцевала… Очень мило беседуем, как самые закадычные друзья,
Как-то вечером сидела она у меня, а Виктор в окно стучит. “Эх, – думаю, – не вовремя…”
Старушка сразу встрепенулась.
– Кажется, стучат? – спрашивает.
Но я не растерялся, – чтобы лишних подозрений не было, всегда лучше поменьше от правды уклоняться.
– Это Виктор, – говорю. – Меня проведать пришел. Я с ним теперь через форточку объясняюсь. Вот он и стучит.
Открываю форточку, кричу:
– Это ты, Виктор?
А он мне в ответ:
– Я, Иван Николаевич!
– У меня тут Александра Евгеньевна!.. – кричу ему. – Завтра поговорим!
Паренек догадливый, сообразил.
– Ладно! – кричит. – Завтра так завтра! Вижу – успокоилась старушка.
– Вы бы пошли, погуляли с ним, – говорит.
– Я бы пошел, – отвечаю, – да простудиться боюсь.
– А все-таки неприятный ребенок этот Виктор, – говорит она. – Грубый какой-то…
– Ничего не поделаешь, – отвечаю, – без гувернантки воспитывается.
– И не мешает он вам? – спрашивает она.
– А если мешает, – отвечаю, – я постучу ему: мол, занят, не мешай, он и уйдет. – И даже набрался нахальства, думаю – не может же эта старуха азбуку Морзе знать, – и выстукал Виктору: “Приходи попозже”.
Пожелала она мне приятного сна, ушла к себе.
Слышу: Виктор снова стучит, тихо-тихо: “Пришел я”.
“Приходил сегодня кто-то к старухе, – выстукиваю я, – не могу к тебе выйти”.
“Понимаю”, – отвечает Виктор.
“Пока все”, – стучу я и опять остаюсь в одиночестве.
Спать нельзя, мало ли что может случиться, читать надоело, делать нечего. Когда, думаю, эта мука кончится… За окном дождь, а в доме тишина такая, что в пору удавиться.
8
Когда же это случилось, дай бог памяти… Десятого октября, вот когда это случилось.
Хоть и похвалился я, что не спал в ту пору, все-таки случалось иногда вздремнуть, – вполглаза, как говорится, но случалось. Проснулся я утром, в комнате прохладно. Взглянул в окно – стекла запотели. Выглянул наружу – на улице серенький туман. Совсем погода испортилась, настоящая осень на дворе, грязь, слякотно, а люди по улице все идут, идут…
В те дни чувствовалось необычное оживление. Решалась судьба Петрограда. Город готовился к обороне. На случай вторжения белогвардейцев отряды рабочих рыли окопы и складывали баррикады из дров, на перекрестках устанавливали артиллерийские орудия, в окнах домов делали из мешков с землей бойницы… Белогвардейцы грозили разграбить город и перерезать рабочих и работниц, красноармейцев и матросов, и все население Петрограда готовилось дать врагу жестокий отпор.
Встал я, самому хочется на улицу, поближе к товарищам, а уйти не могу, вдруг здесь враги закопошатся…
Шаркает, слышу, старуха в коридорчике, туда и сюда, туда и сюда… Думаю: чего это она разбегалась?
– Иван Николаевич, вы спите? – спрашивает она меня из-за двери.
– Проснулся, Александра Евгеньевна, – отвечаю.
– Что-то холодно, – говорит она из коридорчика.
Ага, думаю, пробрало, то-то она разбегалась, согревается…
– Неужто холодно? – говорю. – А я и не замечаю.
– У вас кровь молодая, – говорит она. – Не принесете ли дров, Иван Николаевич?
А надо сказать, что дрова находились на моем попечении. Я их заготовлял, я их берег, и даже ключ от подвала держал у себя в кармане.
– Зачем запирать? – говорит мне как-то старуха. – Мы с вами в доме одни.
– А для порядка, – объяснил я, – чтобы крысы туда не забежали.
Спокойнее как-то мне было, что подвал заперт и ключ у меня находится. А то заберется туда кто-нибудь, – была у меня такая мысль, – да еще пристукнет, когда пойдешь за дровами.
Сунул револьвер в карман, – я никогда оружия без себя в комнате не оставляю, – затянул ремень, обдернул гимнастерку, выхожу.
– Отчего не принести дровишек, – говорю, – благо они у нас не по ордеру выдаются.
Иду к парадной двери, старуха около меня семенит.
– Вы охапочки две дайте мне, Иван Николаевич, – просит она.
– Что ж, – говорю, – можно.
Спускаюсь вниз по лесенке, отпираю дверь, захожу в подвал, набираю охапку дров, и вдруг дверь хлоп – и закрылась. Я к двери, надавил, а там, снаружи, слышу – задвижка щелкает.
– Попался, Ваня, к ведьме в лапы, – говорю я сам себе.
В подвале темно, ничего не видно. Нашел ощупью дрова, присел на них около стенки, думаю – что делать? Стрелять в дверь? Замок такой, что никакими пулями не пробьешь, да и пули поберечь надо. Вступить в переговоры? Черта с два договоришься с этими гадами, да и переговариваться не с кем… Аховое твое положение, Ваня, думаю. Но волноваться себе не позволяю. Хватит, думаю, погорячился уже раз, толку от этого мало.
Немного прошло времени, по-моему, слышу – шаги над головой, голоса смутно доносятся и будто двигают вверху что-то тяжелое, грузное. Вдруг сразу стихло все, еле-еле какие-то звуки доносятся. Сообразил я: ход в подвал сверху задвинули или заставили чем-то. Вступишь тут в переговоры…
Темно и невесело. Задохнешься еще, думаю. Но дышать легко. Вспомнил я тут, как старуха рассказывала мне, что в погребах для хранения вин обязательно вентиляция устраивается, да и раньше об этом слышал… И точно – будто откуда-то свежим воздухом потянуло. Значит, есть здесь какие-то отверстия. Куда же они выходят? На улицу, конечно. Но старуха рассказывала, что в подвале всегда должна быть ровная температура и поэтому затейливо и хитро эти ходы для воздуха устроены. Однако раз отдушины на улицу выходят, думаю, поищем их…
Ясно, что отдушины в подвалах всегда под потолком делаются, а мне до потолка рукой не дотянуться. Сложил я дрова вдоль одной стены ступенькой, встал на них, ощупываю стену… На словах-то это просто получается… Правильно говорится: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ползаю я по стене, мгла кромешная, руками пыль обтираю… Нашел одну отдушину. Отлично, думаю, поползем дальше. Сложил я на полу два полешка крест-накрест в том месте, где наверху отдушина, и дальше руками шарю. Обследовал одну стену – нет больше в ней отдушин. Переложил дрова вдоль другой стены. Еще нашел отдушину. Устал, присел ненадолго, передохнул и вдоль третьей стены заползал… Короче говоря, нашел три отдушины: в той стене, где дверь, никакого отверстия не оказалось.
Присел я у двери, вспоминаю расположение дома… Дверь, вспоминаю, стоит прямо к улице, стена напротив – обращена ко двору, левая – в сторону парадного крыльца, правая… Правая-то и есть та сторона, куда окно из моей комнаты выходит, – палисадник, значит, направо. Ну, думаю, была не была, ничего другого делать не остается…
Пошел я от двери до правого угла, оттуда ощупью вдоль стены до сложенных накрест полешек, сложил в этом месте дрова поплотнее, взобрался на них, беру в руки полено и начинаю выстукивать по краю отдушины:
“Виктор… Виктор…”
Рука затекает… Будь ты проклято все на свете, думаю. Досада сердце щемит: а что если вся эта работа впустую? Время идет… Медленно ли, быстро – я этого понять не могу. Рука немеет… Но ведь вся моя надежда только в том случае и может осуществиться, если я ни на секунду не прерву свое постукиванье… Над головой какие-то звуки, чудятся мне какие-то голоса… “Терпи, Ваня”, – говорю я себе и постукиваю:
Хоть и похвалился я, что не спал в ту пору, все-таки случалось иногда вздремнуть, – вполглаза, как говорится, но случалось. Проснулся я утром, в комнате прохладно. Взглянул в окно – стекла запотели. Выглянул наружу – на улице серенький туман. Совсем погода испортилась, настоящая осень на дворе, грязь, слякотно, а люди по улице все идут, идут…
В те дни чувствовалось необычное оживление. Решалась судьба Петрограда. Город готовился к обороне. На случай вторжения белогвардейцев отряды рабочих рыли окопы и складывали баррикады из дров, на перекрестках устанавливали артиллерийские орудия, в окнах домов делали из мешков с землей бойницы… Белогвардейцы грозили разграбить город и перерезать рабочих и работниц, красноармейцев и матросов, и все население Петрограда готовилось дать врагу жестокий отпор.
Встал я, самому хочется на улицу, поближе к товарищам, а уйти не могу, вдруг здесь враги закопошатся…
Шаркает, слышу, старуха в коридорчике, туда и сюда, туда и сюда… Думаю: чего это она разбегалась?
– Иван Николаевич, вы спите? – спрашивает она меня из-за двери.
– Проснулся, Александра Евгеньевна, – отвечаю.
– Что-то холодно, – говорит она из коридорчика.
Ага, думаю, пробрало, то-то она разбегалась, согревается…
– Неужто холодно? – говорю. – А я и не замечаю.
– У вас кровь молодая, – говорит она. – Не принесете ли дров, Иван Николаевич?
А надо сказать, что дрова находились на моем попечении. Я их заготовлял, я их берег, и даже ключ от подвала держал у себя в кармане.
– Зачем запирать? – говорит мне как-то старуха. – Мы с вами в доме одни.
– А для порядка, – объяснил я, – чтобы крысы туда не забежали.
Спокойнее как-то мне было, что подвал заперт и ключ у меня находится. А то заберется туда кто-нибудь, – была у меня такая мысль, – да еще пристукнет, когда пойдешь за дровами.
Сунул револьвер в карман, – я никогда оружия без себя в комнате не оставляю, – затянул ремень, обдернул гимнастерку, выхожу.
– Отчего не принести дровишек, – говорю, – благо они у нас не по ордеру выдаются.
Иду к парадной двери, старуха около меня семенит.
– Вы охапочки две дайте мне, Иван Николаевич, – просит она.
– Что ж, – говорю, – можно.
Спускаюсь вниз по лесенке, отпираю дверь, захожу в подвал, набираю охапку дров, и вдруг дверь хлоп – и закрылась. Я к двери, надавил, а там, снаружи, слышу – задвижка щелкает.
– Попался, Ваня, к ведьме в лапы, – говорю я сам себе.
В подвале темно, ничего не видно. Нашел ощупью дрова, присел на них около стенки, думаю – что делать? Стрелять в дверь? Замок такой, что никакими пулями не пробьешь, да и пули поберечь надо. Вступить в переговоры? Черта с два договоришься с этими гадами, да и переговариваться не с кем… Аховое твое положение, Ваня, думаю. Но волноваться себе не позволяю. Хватит, думаю, погорячился уже раз, толку от этого мало.
Немного прошло времени, по-моему, слышу – шаги над головой, голоса смутно доносятся и будто двигают вверху что-то тяжелое, грузное. Вдруг сразу стихло все, еле-еле какие-то звуки доносятся. Сообразил я: ход в подвал сверху задвинули или заставили чем-то. Вступишь тут в переговоры…
Темно и невесело. Задохнешься еще, думаю. Но дышать легко. Вспомнил я тут, как старуха рассказывала мне, что в погребах для хранения вин обязательно вентиляция устраивается, да и раньше об этом слышал… И точно – будто откуда-то свежим воздухом потянуло. Значит, есть здесь какие-то отверстия. Куда же они выходят? На улицу, конечно. Но старуха рассказывала, что в подвале всегда должна быть ровная температура и поэтому затейливо и хитро эти ходы для воздуха устроены. Однако раз отдушины на улицу выходят, думаю, поищем их…
Ясно, что отдушины в подвалах всегда под потолком делаются, а мне до потолка рукой не дотянуться. Сложил я дрова вдоль одной стены ступенькой, встал на них, ощупываю стену… На словах-то это просто получается… Правильно говорится: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ползаю я по стене, мгла кромешная, руками пыль обтираю… Нашел одну отдушину. Отлично, думаю, поползем дальше. Сложил я на полу два полешка крест-накрест в том месте, где наверху отдушина, и дальше руками шарю. Обследовал одну стену – нет больше в ней отдушин. Переложил дрова вдоль другой стены. Еще нашел отдушину. Устал, присел ненадолго, передохнул и вдоль третьей стены заползал… Короче говоря, нашел три отдушины: в той стене, где дверь, никакого отверстия не оказалось.
Присел я у двери, вспоминаю расположение дома… Дверь, вспоминаю, стоит прямо к улице, стена напротив – обращена ко двору, левая – в сторону парадного крыльца, правая… Правая-то и есть та сторона, куда окно из моей комнаты выходит, – палисадник, значит, направо. Ну, думаю, была не была, ничего другого делать не остается…
Пошел я от двери до правого угла, оттуда ощупью вдоль стены до сложенных накрест полешек, сложил в этом месте дрова поплотнее, взобрался на них, беру в руки полено и начинаю выстукивать по краю отдушины:
“Виктор… Виктор…”
Рука затекает… Будь ты проклято все на свете, думаю. Досада сердце щемит: а что если вся эта работа впустую? Время идет… Медленно ли, быстро – я этого понять не могу. Рука немеет… Но ведь вся моя надежда только в том случае и может осуществиться, если я ни на секунду не прерву свое постукиванье… Над головой какие-то звуки, чудятся мне какие-то голоса… “Терпи, Ваня”, – говорю я себе и постукиваю:
