Страница:
Когда, согласно приговору, ме вое уже тело швырнули огонь, проклинавшие извер горожане пролили сочувстве ную слезу.
Растрогался и герцог, замет округливший свой майорат. Н которые историки, а вслед
за ними и романисты утверждают, что Жиль де Ре пал жертвой не столько жадности соседей, сколько алчности и вероломства друзей. Жизнь не мозаика, ее нельзя разъять на четко ограниченные фрагменты. В утверждении, что маршала Франции погубил некромант Прелати, приблизительно столько же истины, сколько в обличениях Распутина — злого гения последней царской четы. Дело не в личности шарлатана. Свято место, как известно, пусто не бывает. Не было бы Распутина, нашелся бы другой мистический наставник, вроде прижившегося одно время в Петербурге Папюса или юродивого Мити Козельского, а то и Матрены-босоножки, от которой царица была без ума. Подвизался же при царском дворе, до того как появился там беглый конокрад, парижский мясник Филипп? Бежав из Франции, где должен был предстать перед уголовным судом за какое-то темное дело, он назвался высшим оккультным адептом, пролез в самые верхи петербургской элиты и удостоился нежной дружбы августейшей четы, которая стала именовать его «нашим другом». В одном из писем царица успокаивала чем-то встревоженного супруга: «Наш друг Филипп подарил мне образ с колокольчиками, который предупреждает меня о близости недобрых людей и мешает им подойти ко мне…»
Что за прелесть: икона с шаманскими колокольцами! Не охранка, не казаки с союзниками, а полудикарский амулет, намагнетизированный парижским мясником.
Крылья мосье Филиппу подрезало ошибочное предсказание беременности, которой так ждала Александра Федоровна. К тому же он начал с излишней наглостью вмешиваться в государственные дела, да еще запустил лапу в ларец с драгоценностями. в Впрочем, по сравнению с новым «другом» Гришкой Распутиным французский шарлатан — психологический двойник Прелати — был сущим ангелочком. Середина XV столетия и начало XX века… Позволительно ли сравнивать? В данном случае позволительно, потому что, повторяю, оккультное помрачение независимо от неуклонного хода исторического процесса. Оно вне перемен, это пресловутое «вечное сегодня».
В интересном исследовании М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», где, в частности, описывается последний маршрут низложенного монарха, меня привлекло следующее описание:
«…Александра Федоровна вынула из сумки химический карандаш и отточенным твердым острием изобразила на глянцевитой белой поверхности оконного косяка знак свастики, надписав рядом: 17/30 апреля 1918 года.
Жильяр (учитель детей. — Е. П.) увидел ее через три месяца, когда вошел в дом вместе с белогвардейскими следователями. Тогда он заметил в своем дневнике: «На стене в амбразуре окна комнаты императрицы я сразу же увидел ее любимый знак Swastika, который она столь часто рисовала… Такой же знак, только без числа, был нарисован на обоях стены на высоте кровати, принадлежавшей, видимо, наследнику». Н. Е. Марков (Марков 2-й), повествуя в эмиграции о своих попытках увезти Романовых, пояснил: «Нашим условным знаком была свастика… Императрица хорошо знала этот знак и предпочитала его другим…»
О симпатии русской императрицы к свастике с тех пор говорят на Западе. Лондонская «Таимо, рецензируя американский двухсерийный фильм «Николай и Александра», назвала Александру Федоровну «фашиствующей Брунгильдой». Главу о пребывании Романовых в Ипатьевском доме В. Александров так в своей книге и озаглавил: «Под знаком свастики». Он отмечает «выявившийся в одном отношении исторический приоритет Александры Федоровны», а именно: «Задолго до того, как крюкообразный крест стал заносчиво выставлять себя напоказ на фасадах «третьего рейха», его след прочертила на стене Ипатьевского дома в Екатеринбурге низвергнутая императрица». Далее мы увидим, откуда проистекает этот «приоритет», это оккультное предвосхищение, сделанное развенчанной царицей, урожденной принцессой Алисой Гессен — Дармштадтской. Пока же запомним непроизвольно выстроившийся ряд: истерия, мистика, эмблема фашистских погромщиков.
Экзорцизм в Лудене
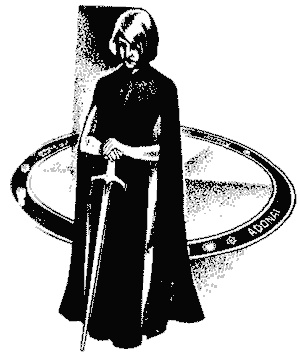 БЕЛАЯ РОЗА стала пурпурной, когда Афродита наколола божественную ножку острым шипом… Розы и пергамент, о которых упоминает Альфред де Виньи, действительно были представлены в качестве вещественных доказательств на суде, где в пособничестве дьяволу обвинялся Урбен Грандье, служитель церкви.
БЕЛАЯ РОЗА стала пурпурной, когда Афродита наколола божественную ножку острым шипом… Розы и пергамент, о которых упоминает Альфред де Виньи, действительно были представлены в качестве вещественных доказательств на суде, где в пособничестве дьяволу обвинялся Урбен Грандье, служитель церкви.
Двести лет отделяют процесс Жиля де Ре от не менее знаменитого дела Урбена Грандье. Это не только бездна времени, но и новая историческая эпоха, которую лишь школьник, начитавшийся романов Александра Дюма, мог назвать «веком мушкета». Для нее куда больше подходит иной символ — обложенный дровами столб. Географические открытия, мануфактуры, прогресс науки и техники — это лишь одна сторона медали, а «охота за ведьмами» — другая. На позолоченном аверсе летящий на всех парусах фрегат, на закопченном реверсе — воронье вокруг эшафота.
Не будем сворачивать корабль с его победного курса. Наш путь проходит по теневым страницам истории…
«Как ни омерзительны подробности преследования, поднятого против колдовства до XV столетия, — пишет в «Истории инквизиции» Г.-Ч. Ли, — они были только прологом к слепым и безумным убийствам, наложившим позорное пятно на следующее столетие и на половину XVII. Казалось, что сумасшествие охватило христианский мир и что сатана мог радоваться поклонениям, которые воздавались его могуществу, видя, как без конца возносился дым жертв, свидетельствовавший о его торжестве над всемогущим. Протестанты и католики соперничали в смертельной ярости. Уже больше не сжигали колдуний поодиночке или парами, но десятками и сотнями». Общее число жертв этого воистину дьявольского пира определяется в 9 или даже 10 миллионов человек.
«Что значат мучения одного распятого на кресте перед муками этих девяти миллионов, сожженных во имя его и во славу святой троицы людей, которым целые месяцы перед этим терзали тела и ломали кости!» — восклицает М. Геннинг в монографическом исследовании, озаглавленном с предельной ясностью — «Дьявол». В интересующем нас эпизоде дьявольские легионы проявили себя в Лудене, близ старинного французского города Пуатье, избрав для массового паломничества небольшой монастырь сестер-урсулинок. Зная обстановку и нравы женских обителей, удивляться здесь особенно не приходится. «Неудовлетворенная жажда любви и материнства, — отмечал по этому поводу академик С. Д. Сказкин в предисловии к роману Альфреда де Виньи «Сен-Map», — превращенная в экстаз любви к небесному жениху, часто изливалась на отца-духовника, единственного мужчину, появлявшегося в монастыре и принужденного в силу своих обязанностей выслушивать тайную исповедь, блуждая по самым интимным уголкам женской души. Дело принимало опасный оборот, когда таким отцом оказывался блестящий, красивый и образованный священник».
Урбен Грандье полностью отвечал столь лестной характеристике. Великолепный оратор, получивший основательную подготовку в иезуитской коллегии в Бордо, он буквально завораживал собеседников своей речью. К столь опасному красноречию следует присовокупить и эффектную внешность, и надменную осанку, и относительную молодость — в разгар событий Грандье минуло 42 года, — и тогда одержимость монашек получит самое простое и совершенно естественное объяснение. К тому же блестящий служитель церкви успел прослыть беззастенчивым ловеласом. Получив 27 лет от роду лу-денский приход, он соблазнил совсем еще молоденькую дочь королевского прокурора Тренкана, не составляла секрета и его связь с дочерью советника Рене де Бру, с которой он даже тайно обвенчался, сыграв двойную роль: священника и жениха. Одним словом, проказник в рясе был далеко не безгрешен по амурной части. И если бы он действительно получил место духовника в луденской обители, которого так домогался, то вполне могла повториться история Мазетто из Лампореккио («Декамерон», день III, новелла 1). Ведь, как явствует из аннотации, оный Мазетто, «прикинувшие немым, поступает садовником в обитель монахинь, которые всеi соревнуются сойтись с ним». Грандье не нужно было прикидываться, требовалось лишь получить вожделенную должность, на которую претендовал и его лютый враг отец Миньон. Собственно, в них, во врагах, таилась основная интрига: в недоброжелателях, завистниках, оскорбленных отцах, обманутых мужьях, осмеянных слугах господних.
Если же добавить сюда едкий памфлет, в котором луденский попик осмелился задеть самого кардинала Ришелье, то вмешательство дьявола в церковные дела станет куда как ясно, Вольнодумца и гордеца следовало любыми способами погубить, и его погубили, когда представилась такая возможность. Упорствуя в своих притязаниях на
должность, которая была отдана все-таки Миньону, Грандье сам вложил оружие в разящую длань недругов. Они живо припомнили подробности дела Гоффриди, духовника урсулинок, сожженного в Эксе 20 апреля 1611 года. И прежде всего христову невесту Луизу, пухленькую блондиночку, в которую вселился Вельзевул, ее бесстыдные телодвижения, опасные горячечные речи. Отчего бы не повторить номер в Лудене? «Князь магов» Гоффриди вполне мог воскреснуть в Грандье, чтобы вновь обратиться в пепел. Начать решено было с наузы — заговоренной какой-нибудь вещицы или, иными словами, хорошо известного всем колдунам и шаманам фокуса, основанного на фанатичной вере в сглаз, порчу и прочие губительные чары. Не найдя ничего лучшего, остановились на ветке с прекрасными белыми розами, еще влажными от обильной росы. Ах, эти розы, превратившие Луция в осла, ах, эти умилительные слезинки девственных голубиц, сжигаемых тайными вожделениями, томимых густой монастырской скучищей!
Первой увидела перекинутую через ограду ветвь мать-настоятельница Анна Дезанж. Едва она ндохнула аромат заговоренных цветов, как монастырский сад, и котором так не хватало немого садовника, закружился у нее перед глазами и горячий ток нестерпимого соблазна потряс псе ее существо. О том, что случилось с почтенной настоятельницей далее, следственные протоколы повествуют со свойственной инквизиторам скабрезной натуралистичностью. Утонченный стилист Альфред де Виньи (устами старухи свидетельницы) делает это намного изящнее: «…жалость было смотреть, как она раздирала себе грудь, как выворачивала ноги и руки, а потом вдруг сплетала их за спиной. Когда святой отец Лактанс подошел к ней и произнес имя Урбена Грандье, изо рта у нее потекла пена и она заговорила по-латыни, да так гладко, словно читала Библию: поэтому я ничего как следует не поняла, только запомнила Urbanus magicus rosas diabolica, а это значит, что колдун Урбен заворожил ее при помощи роз, которые получил от лукавого. И правда, в ушах у нее и на шее показались розы огненного цвета, и так от них несло серой, что судья закричал, чтобы все заткнули носы и зажмурились, потому что вот-вот бесы вылезут».
Бесы эти вселялись во всех, кто только нюхнул злополучные розы. Вслед за настоятельницей занедужили две сестры Ногарэ, затем порча обнаружилась в хорошенькой монашке Сен-Аньес, дочери маркиза Делямот-Брасе, потом у Клер Сазильи, родственницы всесильного Ришелье, и пошло-поехало. Вскоре в обители не осталось почти ни одной девушки, не затронутой одержимостью. Обрушившийся на скромный провинциальный монастырь бесовский легион вел себя, как воинская часть, завладевшая неприятельской крепостью. Насильники принуждали робких сестер и послушниц выделывать невероятные вещи. Причем все одержимые воспламенились страстью именно к Урбену Грандье, который являлся к ним по ночам, искушая на сладостный грех, соблазняя на вечную погибель. Но бог силен! Находясь на самом краю погибели, ни одна урсулинка не сорвалась в пропасть, что и было надлежащим образом засвидетельствовано в ходе многократных экзорцизмов. Сидевшие в девицах бесы вынуждены были подтвердить сей прискорбный для них, но отрадный для Вечного света факт. В опытных руках экзорцистов адские десантники вели себя уже не как оккупанты, но как военнопленные, доставленные в неприятельский штаб на допрос. Вынужденный давать показания, демон называл свое имя и чин в бесовском легионе, описывал собственную наружность и тот сокровенный уголок в человеческом организме, который не-прошенно и так бесстыдно занимал.
Я отнюдь не передергиваю ради метафорической полноты, говоря о чинах. В материалах луденского процесса так прямо и сказано — чин. Судя по всему, засевшие в барышнях бесы внимательно проштудировали неоплатоника Дионисия Ареопагита, разделившего в сочинении «Иерархии небесных сил» ангелов — а демоны, или аггелы, — это те же ангелы, только отпавшие от бога, — на девять чинов-разрядов. Во всяком случае, каждый твердо знал свое место в строю. Настоятельница Дезанж, например, была одержима сразу семью захватчиками, из которых Бегемот, Асмодей и Грезиль оказались происходящими из чина «престолов», Изакарон, Амон и Балам — «властей», Левиафан — «серафимов». Тело сестры Луизы Барбезье оккупировали двое: принадлежащий к «господствам» Эазас, поселившийся под самым сердцем, и причисливший себя к «силам» Карон, который свил гнездышко в центре лба. Хуже всех пришлось дочери маркиза Сазильи, ибо в нее вселилась адская восьмерка: За-булон, Нефтали, Элими, Враг Девы, Поллютион, Верин, Похоть и Бесконечный, облюбовавший себе местечко под вторым ребром. У этого демона было еще одно имя — Урбен Грандье, что сыграло в судьбе обвиняемого едва ли не самую роковую роль. О том, как одно и то же лицо может пребывать одновременно под ребром монашки и в церкви святого Петра, где служил наш герой, вопрос даже не поднимался, ибо дьявол всесилен, вернее, почти всесилен, потому что и на него есть управа. Экзорцисты изгоняли бесов из одержимых бедняжек, не зная отдыха. И демоны поддавались, хоть и клялись не покидать облюбованных местечек до скончания лет. В протоколах подробно записаны их показания по части маршрутов для ретирад. Бегемот, например, перед тем как оставить чрево игуменьи, в знак своего выхода обещался подбросить бедную Дезанж вверх, что и было незамедлительно проделано. Изакарон, уходя из последнего ребра, оставил ей сувенир в виде царапины на большом пальце левой руки, сидевший во лбу Левиафан обозначил свой след кровавым крестом. И так было с каждой: конвульсивные прыжки, корчи, судороги, царапины и кровоточащие стигматы.
Жуткая игра, где заведомый обман становился самообманом, бред сгущался в реальность чудовищного оговора, а истерия карикатурно, как в «Капричос» Гойи, мешалась с фарсом. Когда изгоняемый из сестры Агнессы демон пообещал сдернуть с головы королевского комиссара сьера Лобардемона камилавку и держать ее в воздухе, пока будут петь «Мизерере», присутствующими овладел гомерический хохот, что, конечно, тоже было поставлено в вину Урбену Грандье.
Слухи о непотребствах в луден-ской обители распространились далеко за границы графства Пуатье. Вместе с экзорцистами, заклинавшими одержимых мот нашек, в монастырь зачастили и местные судебные власти, дабы лично засвидетельствовать странные явления, о которых шли столь противоречивые толки.
Аббат Миньон был счастлив продемонстрировать гостям своих порченых овечек. Едва высокая комиссия вошла к сестре Жанне, как у нее случился припадок. Заметавшись на ложе, она вдруг с неподражаемым совершенством захрюкала, затем вся скорчилась, сжалась в комок и, стиснув зубы, впала в состояние каталепсии. Аббат Миньон с трудом просунул ей в рот пальцы и принялся читать экзорцизмы. Когда окопавшийся демон дрогнул и стал подавать голос, экзорцист обратился к нему по-латыни с вопросом:
— Зачем ты вошел в тело этой девицы?
— По злобе, — откровенно ответил бес на том же языке церковных служений.
— Каким путем?
— Через цветы.
— Какие?
— Розы.
— Кто их прислал?
— Урбен.
— Скажи его фамилию, — потребовал мстительный духовник, как будто недостаточно было имени, которое на все лады склоняли в Лудене.
— Грандье, — охотно откликнулся враг человеческий, предавая не только повелителя, но и собрата по легиону.
— Скажи, кто он? — не отставал. жзорцист, словно в маленьком Лудене мог быть еще один Урбен Грандье.
— Священник.
— Какой церкви?
— Святого Петра.
— Кто дал ему цветы?
— Дьявол.
Весь этот смехотворный лепет был скрупулезно запротоколирован, и с того дня все деяния экзорциста проходили в сопровождении судебных властей. Над Урбеном, хоть ему и покровительствовали влиятельные лица, нависла реальная угроза стать вторым Гоффриди, хотя не он, а его противник Миньон был духовником урсулинок.
Кардинал де Сурди, к которому Грандье обратился с жалобой на клевету, оправдал многообещающего талантливого клирика и запретил Миньону проводить дальнейшие экзорцизмы, возложив столь деликатное дело на доверенных лиц. Городские власти тоже были склонны не поднимать шума на всю страну и постепенно спустить дело на тормозах.
Скрепя сердце аббат послушался архиепископа, но зато не послушались черти, которые еще пуще принялись честить своего наперсника Грандье. Когда вести о луденских чудесах достигли королевских ушей, Людовик Тринадцатый отнесся к ним с похвальной осторожностью, но Ришелье настоял на строжайшем расследовании. Фактически он уже давно вел его, стремясь изобличить автора издевательского памфлета. Найденные в Лудене документы совершенно определенно указывали, что автором был Грандье, поэтому у герцога-кардинала не было причин щадить дерзкого вольнодумца. Следствие он поручил вести Лобардемону, которого снабдил широчайшими полномочиями.
Возвратившись в конце 1633 года в Луден, королевский комиссар первым делом заключил подозреваемого под стражу и занялся сбором «свидетельских» показаний. Для быстроты к каждой одержимой были приставлены свой экзорцист, судебный чиновник и писец. На теле Грандье тем временем нашли «дьявольские печати» — нечувствительные к боли участки, что было вовсе нетрудно, поскольку инквизиторы располагали специальными иглами, уходившими при самом легком нажиме в рукоятку. Судьба галантного священника была предрешена. Формальное осуждение было лишь вопросом техники, не более. Выживаемые из уютных норок «престолы» и «власти» давали не только нужные показания, но и снабжали правосудие уликами, поставляли необходимые документы.
Когда нажали как следует на главного беса Асмодея, полонившего аббатису, тот не выдержал и продиктовал копию договора, заключенного между ним и подследственным. Вот это изделие ограниченного ума и лютой злобы: «Господин и владыка, признаю вас за своего бога и обещаю служить вам, покуда живу, и от сей поры отрекаюсь от всех других, и от Иисуса Христа, и Марии, и от всех святых небесных, и от апостолической римско-католической церкви, и от всех деяний и молитв ее, которые могут быть совершаемы ради меня, и обещаю поклоняться вам и служить вам не менее трех раз ежедневно, и причинять сколь возможно более зла, и привлекать к совершению зла всех, кого возможно, и от чистого сердца отрекаюсь от миропомазания и крещения, и от всей благодати Иисуса Христа, и в случае, если восхочу обратиться, даю вам власть над моим телом, и душою, и жизнью, как будто я получил ее от вас, и навеки вам ее уступаю, не имея намерения в том раскаиваться.
Подписано кровью:
«Урбен Грандье».
Место, назначенное для хранения подлинника, нам уже известно. Если кого этот документ и изобличает, то лишь саму аббатису чей стиль косноязычен, а мысль скудна. Ни Асмодея, ни изощренного ритора Грандье никак нельзя заподозрить в такой невнятице.
Судей, естественно, это ничуть не смутило, и Урбен Грандье был приведен к очной ставке со всеми девицами и засевшими в них аггелами. Переполох поднялся чрезвычайный. Демоны заставляли урсулинок делать бесстыдные жесты и радостно вопили их девственными устами: «Господин наш! Господин!»
Виновность подсудимого, таким образом, не вызывала сомнений. Лишь добросовестность судей, желавших докопаться до каждой мелочи, удерживала их от немедленного вынесения приговора.
И она, добросовестность, принесла желанные плоды. Бес Левиафан раскрыл-таки состав зелья, коим были отравлены, а точнее, намагничены белые розы. К вящему ужасу и отвращению присутствовавших, оно оказалось сваренным из сердца невинного младенца, зарезанного на шабаше в Орлеане в 1631 году, золы сожженной облатки для причастия, а также из крови и спермы самого Грандье.
Не будем задерживаться на подробностях, хоть они и не лишены интереса, этого вопиющего, но такого заурядного на фоне аналогичных дел ведьмовского процесса. Результат его был предрешен, и это понимал сам Грандье, сохранивший даже в объятиях пламени редкую выдержку и незаурядное мужество.
Отстаивая свое человеческое достоинство, он пытался противопоставить безумию логику, тщился поразить рациональным оружием многоглавую гидру, витавшую на нетопыриных крыльях истерии.
 Образец «колдовского» письма и типичная для магической практики в Западной Европе XV–XVI вв. "Книга демонов" (по книге Ф. Баррета «Маг». 1801 г.)
Образец «колдовского» письма и типичная для магической практики в Западной Европе XV–XVI вв. "Книга демонов" (по книге Ф. Баррета «Маг». 1801 г.)
Когда, дабы загнать Грандье в мерзкие образины, он поклонился очередную яму, ему предложили епископу, попросив его благосло-испробовать себя в качестве вения начать экзорцизм. заклинателя, он, нисколько не перя в столь бредовую затею, тем не менее спокойно возложил на себя священническое одеяние. Не смущаясь протестующими поплями бесов, превративших хорошенькие девичьи личики в мерзкие образины, он поклонился епископу, попросив его благословения начать экзерсизм.
Жуткая игра, где заведомый обман становился самообманом, бред сгущался в реальность чудовищного оговора, а истерия карикатурно, как в «Капричос» Гойи, мешалась с фарсом.
Епископ дал требуемое, указав на толпу беснующихся дев. «Ты отрекся от этого!» — визжала дьявольская рать, напоминая о заключенном договоре. Хор исполнил обычное в таких случаях «Veni creator» — «Явись, создатель», и поединок с несуществующим начался.
Вовсе не помышляя всерьез о нелепом единоборстве с одержимыми истеричками, Грандье — наивный мудрец! — надеялся поймать кого-нибудь из них на вранье. Когда урсулинка Клер бросилась к нему с непристойной бранью, он тут же начал ее отчитывать, попросив позволения обратиться к бесу по-гречески.
— Не смеешь! — возопил на это спрятанный в матери-настоятельнице злой дух. — Изменник! Обманщик! Согласно заключенному договору, ты не смеешь задавать вопросы по-гречески! Грандье слегка улыбнулся, готовясь обратить внимание суда на столь явную несообразность, но сестра Клер опередила его надменным выкриком: — Можешь говорить на любом языке, тебе ответят! Девушка оказалась образованной. Первоначальный замысел расстроился, Грандье смутился и умолк. Разумеется, это нисколько не повлияло на конечный исход, потому что приговор был предрешен и, даже если бы демон Клер не знал по-гречески, весы Фемиды все равно остались бы в заранее определенном положении.
Но о внутреннем мире Грандье указанный эпизод говорит многое. Выдержав льющуюся на него со всех сторон брань, хотя хулители продолжали именовать его «владыкой» и «господином», он хладнокровно заметил: — Я не господин вам и не ваш слуга. И вообще не могу понять, почему, величая владыкой, вы так и рветесь схватить меня за горло?
Негодующие сестры вместо ответа на вполне резонный вопрос принялись разуваться, обрушив на голову ревнителя логики град увесистых башмаков. — Ну, демоны сами себя расковали! — издевательски рассмеялся узник, утирая с рассеченного виска кровь.
Шутника увели в тюрьму. Приговор был вынесен 18 октября 1634 года.
Грандье отказался от исповеди и отвернул лицо от креста, который сунул ему духовник-капуцин на месте казни. Магический меч — обоюдоострое оружие. И все же освященное авторитетом церковной иерархии, оно натворило значительно больше бед, чем в руках одиночек: фанатиков и безумцев, шарлатанов и простофиль. Претендуя на «надвременность-над-пространственность» и самонадеянно тщась навязать свою волю жестко детерминированным законам мироздания, магия уже по сути своей несет разрушительное и, как следствие, преступное начало. Совершенно интуитивно это понял пресловутый маркиз де Сад, увековечивший свое имя в столь малопривлекательном термине', как «садизм». Устами Брессака, героя романа «Новая Жюстина», он не без сожаления констатирует: «Что на самом деле можем мы совершить в этой жизни? Ответ прост. Все наши мелкие преступления против морали можно свести к немногому — извращениям и убийствам, случайным изнасилованиям или кровосмесительным связям; наши преступления против религии не более чем богохульство и профанация. Есть ли кто-либо среди нас, кто искренне может признаться, что в самом деле удовлетворен этими пустяками?
Растрогался и герцог, замет округливший свой майорат. Н которые историки, а вслед
за ними и романисты утверждают, что Жиль де Ре пал жертвой не столько жадности соседей, сколько алчности и вероломства друзей. Жизнь не мозаика, ее нельзя разъять на четко ограниченные фрагменты. В утверждении, что маршала Франции погубил некромант Прелати, приблизительно столько же истины, сколько в обличениях Распутина — злого гения последней царской четы. Дело не в личности шарлатана. Свято место, как известно, пусто не бывает. Не было бы Распутина, нашелся бы другой мистический наставник, вроде прижившегося одно время в Петербурге Папюса или юродивого Мити Козельского, а то и Матрены-босоножки, от которой царица была без ума. Подвизался же при царском дворе, до того как появился там беглый конокрад, парижский мясник Филипп? Бежав из Франции, где должен был предстать перед уголовным судом за какое-то темное дело, он назвался высшим оккультным адептом, пролез в самые верхи петербургской элиты и удостоился нежной дружбы августейшей четы, которая стала именовать его «нашим другом». В одном из писем царица успокаивала чем-то встревоженного супруга: «Наш друг Филипп подарил мне образ с колокольчиками, который предупреждает меня о близости недобрых людей и мешает им подойти ко мне…»
Что за прелесть: икона с шаманскими колокольцами! Не охранка, не казаки с союзниками, а полудикарский амулет, намагнетизированный парижским мясником.
Крылья мосье Филиппу подрезало ошибочное предсказание беременности, которой так ждала Александра Федоровна. К тому же он начал с излишней наглостью вмешиваться в государственные дела, да еще запустил лапу в ларец с драгоценностями. в Впрочем, по сравнению с новым «другом» Гришкой Распутиным французский шарлатан — психологический двойник Прелати — был сущим ангелочком. Середина XV столетия и начало XX века… Позволительно ли сравнивать? В данном случае позволительно, потому что, повторяю, оккультное помрачение независимо от неуклонного хода исторического процесса. Оно вне перемен, это пресловутое «вечное сегодня».
В интересном исследовании М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», где, в частности, описывается последний маршрут низложенного монарха, меня привлекло следующее описание:
«…Александра Федоровна вынула из сумки химический карандаш и отточенным твердым острием изобразила на глянцевитой белой поверхности оконного косяка знак свастики, надписав рядом: 17/30 апреля 1918 года.
Жильяр (учитель детей. — Е. П.) увидел ее через три месяца, когда вошел в дом вместе с белогвардейскими следователями. Тогда он заметил в своем дневнике: «На стене в амбразуре окна комнаты императрицы я сразу же увидел ее любимый знак Swastika, который она столь часто рисовала… Такой же знак, только без числа, был нарисован на обоях стены на высоте кровати, принадлежавшей, видимо, наследнику». Н. Е. Марков (Марков 2-й), повествуя в эмиграции о своих попытках увезти Романовых, пояснил: «Нашим условным знаком была свастика… Императрица хорошо знала этот знак и предпочитала его другим…»
О симпатии русской императрицы к свастике с тех пор говорят на Западе. Лондонская «Таимо, рецензируя американский двухсерийный фильм «Николай и Александра», назвала Александру Федоровну «фашиствующей Брунгильдой». Главу о пребывании Романовых в Ипатьевском доме В. Александров так в своей книге и озаглавил: «Под знаком свастики». Он отмечает «выявившийся в одном отношении исторический приоритет Александры Федоровны», а именно: «Задолго до того, как крюкообразный крест стал заносчиво выставлять себя напоказ на фасадах «третьего рейха», его след прочертила на стене Ипатьевского дома в Екатеринбурге низвергнутая императрица». Далее мы увидим, откуда проистекает этот «приоритет», это оккультное предвосхищение, сделанное развенчанной царицей, урожденной принцессой Алисой Гессен — Дармштадтской. Пока же запомним непроизвольно выстроившийся ряд: истерия, мистика, эмблема фашистских погромщиков.
Экзорцизм в Лудене
…Сии белые розы собраны и представлены вам, равно как и рукопись, подписанная кровью колдуна и являющаяся списком с договора, который он заключил с Люцифером; оный список он вынужден был постоянно носить при себе, дабы удержать свое могущество. И сейчас еще можно, к великому ужасу, различить слова, начертанные в углу пергамента: «Подлинник хранится в преисподней, в кабинете Люцифера».
Альфред де Винъи, «Сен-Мар»
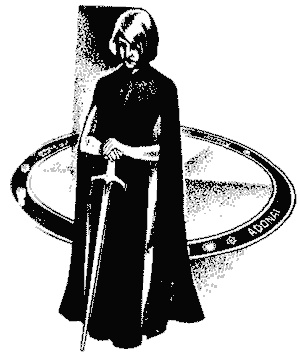
Двести лет отделяют процесс Жиля де Ре от не менее знаменитого дела Урбена Грандье. Это не только бездна времени, но и новая историческая эпоха, которую лишь школьник, начитавшийся романов Александра Дюма, мог назвать «веком мушкета». Для нее куда больше подходит иной символ — обложенный дровами столб. Географические открытия, мануфактуры, прогресс науки и техники — это лишь одна сторона медали, а «охота за ведьмами» — другая. На позолоченном аверсе летящий на всех парусах фрегат, на закопченном реверсе — воронье вокруг эшафота.
Не будем сворачивать корабль с его победного курса. Наш путь проходит по теневым страницам истории…
«Как ни омерзительны подробности преследования, поднятого против колдовства до XV столетия, — пишет в «Истории инквизиции» Г.-Ч. Ли, — они были только прологом к слепым и безумным убийствам, наложившим позорное пятно на следующее столетие и на половину XVII. Казалось, что сумасшествие охватило христианский мир и что сатана мог радоваться поклонениям, которые воздавались его могуществу, видя, как без конца возносился дым жертв, свидетельствовавший о его торжестве над всемогущим. Протестанты и католики соперничали в смертельной ярости. Уже больше не сжигали колдуний поодиночке или парами, но десятками и сотнями». Общее число жертв этого воистину дьявольского пира определяется в 9 или даже 10 миллионов человек.
«Что значат мучения одного распятого на кресте перед муками этих девяти миллионов, сожженных во имя его и во славу святой троицы людей, которым целые месяцы перед этим терзали тела и ломали кости!» — восклицает М. Геннинг в монографическом исследовании, озаглавленном с предельной ясностью — «Дьявол». В интересующем нас эпизоде дьявольские легионы проявили себя в Лудене, близ старинного французского города Пуатье, избрав для массового паломничества небольшой монастырь сестер-урсулинок. Зная обстановку и нравы женских обителей, удивляться здесь особенно не приходится. «Неудовлетворенная жажда любви и материнства, — отмечал по этому поводу академик С. Д. Сказкин в предисловии к роману Альфреда де Виньи «Сен-Map», — превращенная в экстаз любви к небесному жениху, часто изливалась на отца-духовника, единственного мужчину, появлявшегося в монастыре и принужденного в силу своих обязанностей выслушивать тайную исповедь, блуждая по самым интимным уголкам женской души. Дело принимало опасный оборот, когда таким отцом оказывался блестящий, красивый и образованный священник».
Урбен Грандье полностью отвечал столь лестной характеристике. Великолепный оратор, получивший основательную подготовку в иезуитской коллегии в Бордо, он буквально завораживал собеседников своей речью. К столь опасному красноречию следует присовокупить и эффектную внешность, и надменную осанку, и относительную молодость — в разгар событий Грандье минуло 42 года, — и тогда одержимость монашек получит самое простое и совершенно естественное объяснение. К тому же блестящий служитель церкви успел прослыть беззастенчивым ловеласом. Получив 27 лет от роду лу-денский приход, он соблазнил совсем еще молоденькую дочь королевского прокурора Тренкана, не составляла секрета и его связь с дочерью советника Рене де Бру, с которой он даже тайно обвенчался, сыграв двойную роль: священника и жениха. Одним словом, проказник в рясе был далеко не безгрешен по амурной части. И если бы он действительно получил место духовника в луденской обители, которого так домогался, то вполне могла повториться история Мазетто из Лампореккио («Декамерон», день III, новелла 1). Ведь, как явствует из аннотации, оный Мазетто, «прикинувшие немым, поступает садовником в обитель монахинь, которые всеi соревнуются сойтись с ним». Грандье не нужно было прикидываться, требовалось лишь получить вожделенную должность, на которую претендовал и его лютый враг отец Миньон. Собственно, в них, во врагах, таилась основная интрига: в недоброжелателях, завистниках, оскорбленных отцах, обманутых мужьях, осмеянных слугах господних.
Если же добавить сюда едкий памфлет, в котором луденский попик осмелился задеть самого кардинала Ришелье, то вмешательство дьявола в церковные дела станет куда как ясно, Вольнодумца и гордеца следовало любыми способами погубить, и его погубили, когда представилась такая возможность. Упорствуя в своих притязаниях на
должность, которая была отдана все-таки Миньону, Грандье сам вложил оружие в разящую длань недругов. Они живо припомнили подробности дела Гоффриди, духовника урсулинок, сожженного в Эксе 20 апреля 1611 года. И прежде всего христову невесту Луизу, пухленькую блондиночку, в которую вселился Вельзевул, ее бесстыдные телодвижения, опасные горячечные речи. Отчего бы не повторить номер в Лудене? «Князь магов» Гоффриди вполне мог воскреснуть в Грандье, чтобы вновь обратиться в пепел. Начать решено было с наузы — заговоренной какой-нибудь вещицы или, иными словами, хорошо известного всем колдунам и шаманам фокуса, основанного на фанатичной вере в сглаз, порчу и прочие губительные чары. Не найдя ничего лучшего, остановились на ветке с прекрасными белыми розами, еще влажными от обильной росы. Ах, эти розы, превратившие Луция в осла, ах, эти умилительные слезинки девственных голубиц, сжигаемых тайными вожделениями, томимых густой монастырской скучищей!
Первой увидела перекинутую через ограду ветвь мать-настоятельница Анна Дезанж. Едва она ндохнула аромат заговоренных цветов, как монастырский сад, и котором так не хватало немого садовника, закружился у нее перед глазами и горячий ток нестерпимого соблазна потряс псе ее существо. О том, что случилось с почтенной настоятельницей далее, следственные протоколы повествуют со свойственной инквизиторам скабрезной натуралистичностью. Утонченный стилист Альфред де Виньи (устами старухи свидетельницы) делает это намного изящнее: «…жалость было смотреть, как она раздирала себе грудь, как выворачивала ноги и руки, а потом вдруг сплетала их за спиной. Когда святой отец Лактанс подошел к ней и произнес имя Урбена Грандье, изо рта у нее потекла пена и она заговорила по-латыни, да так гладко, словно читала Библию: поэтому я ничего как следует не поняла, только запомнила Urbanus magicus rosas diabolica, а это значит, что колдун Урбен заворожил ее при помощи роз, которые получил от лукавого. И правда, в ушах у нее и на шее показались розы огненного цвета, и так от них несло серой, что судья закричал, чтобы все заткнули носы и зажмурились, потому что вот-вот бесы вылезут».
Бесы эти вселялись во всех, кто только нюхнул злополучные розы. Вслед за настоятельницей занедужили две сестры Ногарэ, затем порча обнаружилась в хорошенькой монашке Сен-Аньес, дочери маркиза Делямот-Брасе, потом у Клер Сазильи, родственницы всесильного Ришелье, и пошло-поехало. Вскоре в обители не осталось почти ни одной девушки, не затронутой одержимостью. Обрушившийся на скромный провинциальный монастырь бесовский легион вел себя, как воинская часть, завладевшая неприятельской крепостью. Насильники принуждали робких сестер и послушниц выделывать невероятные вещи. Причем все одержимые воспламенились страстью именно к Урбену Грандье, который являлся к ним по ночам, искушая на сладостный грех, соблазняя на вечную погибель. Но бог силен! Находясь на самом краю погибели, ни одна урсулинка не сорвалась в пропасть, что и было надлежащим образом засвидетельствовано в ходе многократных экзорцизмов. Сидевшие в девицах бесы вынуждены были подтвердить сей прискорбный для них, но отрадный для Вечного света факт. В опытных руках экзорцистов адские десантники вели себя уже не как оккупанты, но как военнопленные, доставленные в неприятельский штаб на допрос. Вынужденный давать показания, демон называл свое имя и чин в бесовском легионе, описывал собственную наружность и тот сокровенный уголок в человеческом организме, который не-прошенно и так бесстыдно занимал.
Я отнюдь не передергиваю ради метафорической полноты, говоря о чинах. В материалах луденского процесса так прямо и сказано — чин. Судя по всему, засевшие в барышнях бесы внимательно проштудировали неоплатоника Дионисия Ареопагита, разделившего в сочинении «Иерархии небесных сил» ангелов — а демоны, или аггелы, — это те же ангелы, только отпавшие от бога, — на девять чинов-разрядов. Во всяком случае, каждый твердо знал свое место в строю. Настоятельница Дезанж, например, была одержима сразу семью захватчиками, из которых Бегемот, Асмодей и Грезиль оказались происходящими из чина «престолов», Изакарон, Амон и Балам — «властей», Левиафан — «серафимов». Тело сестры Луизы Барбезье оккупировали двое: принадлежащий к «господствам» Эазас, поселившийся под самым сердцем, и причисливший себя к «силам» Карон, который свил гнездышко в центре лба. Хуже всех пришлось дочери маркиза Сазильи, ибо в нее вселилась адская восьмерка: За-булон, Нефтали, Элими, Враг Девы, Поллютион, Верин, Похоть и Бесконечный, облюбовавший себе местечко под вторым ребром. У этого демона было еще одно имя — Урбен Грандье, что сыграло в судьбе обвиняемого едва ли не самую роковую роль. О том, как одно и то же лицо может пребывать одновременно под ребром монашки и в церкви святого Петра, где служил наш герой, вопрос даже не поднимался, ибо дьявол всесилен, вернее, почти всесилен, потому что и на него есть управа. Экзорцисты изгоняли бесов из одержимых бедняжек, не зная отдыха. И демоны поддавались, хоть и клялись не покидать облюбованных местечек до скончания лет. В протоколах подробно записаны их показания по части маршрутов для ретирад. Бегемот, например, перед тем как оставить чрево игуменьи, в знак своего выхода обещался подбросить бедную Дезанж вверх, что и было незамедлительно проделано. Изакарон, уходя из последнего ребра, оставил ей сувенир в виде царапины на большом пальце левой руки, сидевший во лбу Левиафан обозначил свой след кровавым крестом. И так было с каждой: конвульсивные прыжки, корчи, судороги, царапины и кровоточащие стигматы.
Жуткая игра, где заведомый обман становился самообманом, бред сгущался в реальность чудовищного оговора, а истерия карикатурно, как в «Капричос» Гойи, мешалась с фарсом. Когда изгоняемый из сестры Агнессы демон пообещал сдернуть с головы королевского комиссара сьера Лобардемона камилавку и держать ее в воздухе, пока будут петь «Мизерере», присутствующими овладел гомерический хохот, что, конечно, тоже было поставлено в вину Урбену Грандье.
Слухи о непотребствах в луден-ской обители распространились далеко за границы графства Пуатье. Вместе с экзорцистами, заклинавшими одержимых мот нашек, в монастырь зачастили и местные судебные власти, дабы лично засвидетельствовать странные явления, о которых шли столь противоречивые толки.
Аббат Миньон был счастлив продемонстрировать гостям своих порченых овечек. Едва высокая комиссия вошла к сестре Жанне, как у нее случился припадок. Заметавшись на ложе, она вдруг с неподражаемым совершенством захрюкала, затем вся скорчилась, сжалась в комок и, стиснув зубы, впала в состояние каталепсии. Аббат Миньон с трудом просунул ей в рот пальцы и принялся читать экзорцизмы. Когда окопавшийся демон дрогнул и стал подавать голос, экзорцист обратился к нему по-латыни с вопросом:
— Зачем ты вошел в тело этой девицы?
— По злобе, — откровенно ответил бес на том же языке церковных служений.
— Каким путем?
— Через цветы.
— Какие?
— Розы.
— Кто их прислал?
— Урбен.
— Скажи его фамилию, — потребовал мстительный духовник, как будто недостаточно было имени, которое на все лады склоняли в Лудене.
— Грандье, — охотно откликнулся враг человеческий, предавая не только повелителя, но и собрата по легиону.
— Скажи, кто он? — не отставал. жзорцист, словно в маленьком Лудене мог быть еще один Урбен Грандье.
— Священник.
— Какой церкви?
— Святого Петра.
— Кто дал ему цветы?
— Дьявол.
Весь этот смехотворный лепет был скрупулезно запротоколирован, и с того дня все деяния экзорциста проходили в сопровождении судебных властей. Над Урбеном, хоть ему и покровительствовали влиятельные лица, нависла реальная угроза стать вторым Гоффриди, хотя не он, а его противник Миньон был духовником урсулинок.
Кардинал де Сурди, к которому Грандье обратился с жалобой на клевету, оправдал многообещающего талантливого клирика и запретил Миньону проводить дальнейшие экзорцизмы, возложив столь деликатное дело на доверенных лиц. Городские власти тоже были склонны не поднимать шума на всю страну и постепенно спустить дело на тормозах.
Скрепя сердце аббат послушался архиепископа, но зато не послушались черти, которые еще пуще принялись честить своего наперсника Грандье. Когда вести о луденских чудесах достигли королевских ушей, Людовик Тринадцатый отнесся к ним с похвальной осторожностью, но Ришелье настоял на строжайшем расследовании. Фактически он уже давно вел его, стремясь изобличить автора издевательского памфлета. Найденные в Лудене документы совершенно определенно указывали, что автором был Грандье, поэтому у герцога-кардинала не было причин щадить дерзкого вольнодумца. Следствие он поручил вести Лобардемону, которого снабдил широчайшими полномочиями.
Возвратившись в конце 1633 года в Луден, королевский комиссар первым делом заключил подозреваемого под стражу и занялся сбором «свидетельских» показаний. Для быстроты к каждой одержимой были приставлены свой экзорцист, судебный чиновник и писец. На теле Грандье тем временем нашли «дьявольские печати» — нечувствительные к боли участки, что было вовсе нетрудно, поскольку инквизиторы располагали специальными иглами, уходившими при самом легком нажиме в рукоятку. Судьба галантного священника была предрешена. Формальное осуждение было лишь вопросом техники, не более. Выживаемые из уютных норок «престолы» и «власти» давали не только нужные показания, но и снабжали правосудие уликами, поставляли необходимые документы.
Когда нажали как следует на главного беса Асмодея, полонившего аббатису, тот не выдержал и продиктовал копию договора, заключенного между ним и подследственным. Вот это изделие ограниченного ума и лютой злобы: «Господин и владыка, признаю вас за своего бога и обещаю служить вам, покуда живу, и от сей поры отрекаюсь от всех других, и от Иисуса Христа, и Марии, и от всех святых небесных, и от апостолической римско-католической церкви, и от всех деяний и молитв ее, которые могут быть совершаемы ради меня, и обещаю поклоняться вам и служить вам не менее трех раз ежедневно, и причинять сколь возможно более зла, и привлекать к совершению зла всех, кого возможно, и от чистого сердца отрекаюсь от миропомазания и крещения, и от всей благодати Иисуса Христа, и в случае, если восхочу обратиться, даю вам власть над моим телом, и душою, и жизнью, как будто я получил ее от вас, и навеки вам ее уступаю, не имея намерения в том раскаиваться.
Подписано кровью:
«Урбен Грандье».
Место, назначенное для хранения подлинника, нам уже известно. Если кого этот документ и изобличает, то лишь саму аббатису чей стиль косноязычен, а мысль скудна. Ни Асмодея, ни изощренного ритора Грандье никак нельзя заподозрить в такой невнятице.
Судей, естественно, это ничуть не смутило, и Урбен Грандье был приведен к очной ставке со всеми девицами и засевшими в них аггелами. Переполох поднялся чрезвычайный. Демоны заставляли урсулинок делать бесстыдные жесты и радостно вопили их девственными устами: «Господин наш! Господин!»
Виновность подсудимого, таким образом, не вызывала сомнений. Лишь добросовестность судей, желавших докопаться до каждой мелочи, удерживала их от немедленного вынесения приговора.
И она, добросовестность, принесла желанные плоды. Бес Левиафан раскрыл-таки состав зелья, коим были отравлены, а точнее, намагничены белые розы. К вящему ужасу и отвращению присутствовавших, оно оказалось сваренным из сердца невинного младенца, зарезанного на шабаше в Орлеане в 1631 году, золы сожженной облатки для причастия, а также из крови и спермы самого Грандье.
Не будем задерживаться на подробностях, хоть они и не лишены интереса, этого вопиющего, но такого заурядного на фоне аналогичных дел ведьмовского процесса. Результат его был предрешен, и это понимал сам Грандье, сохранивший даже в объятиях пламени редкую выдержку и незаурядное мужество.
Отстаивая свое человеческое достоинство, он пытался противопоставить безумию логику, тщился поразить рациональным оружием многоглавую гидру, витавшую на нетопыриных крыльях истерии.

Когда, дабы загнать Грандье в мерзкие образины, он поклонился очередную яму, ему предложили епископу, попросив его благосло-испробовать себя в качестве вения начать экзорцизм. заклинателя, он, нисколько не перя в столь бредовую затею, тем не менее спокойно возложил на себя священническое одеяние. Не смущаясь протестующими поплями бесов, превративших хорошенькие девичьи личики в мерзкие образины, он поклонился епископу, попросив его благословения начать экзерсизм.
Жуткая игра, где заведомый обман становился самообманом, бред сгущался в реальность чудовищного оговора, а истерия карикатурно, как в «Капричос» Гойи, мешалась с фарсом.
Епископ дал требуемое, указав на толпу беснующихся дев. «Ты отрекся от этого!» — визжала дьявольская рать, напоминая о заключенном договоре. Хор исполнил обычное в таких случаях «Veni creator» — «Явись, создатель», и поединок с несуществующим начался.
Вовсе не помышляя всерьез о нелепом единоборстве с одержимыми истеричками, Грандье — наивный мудрец! — надеялся поймать кого-нибудь из них на вранье. Когда урсулинка Клер бросилась к нему с непристойной бранью, он тут же начал ее отчитывать, попросив позволения обратиться к бесу по-гречески.
— Не смеешь! — возопил на это спрятанный в матери-настоятельнице злой дух. — Изменник! Обманщик! Согласно заключенному договору, ты не смеешь задавать вопросы по-гречески! Грандье слегка улыбнулся, готовясь обратить внимание суда на столь явную несообразность, но сестра Клер опередила его надменным выкриком: — Можешь говорить на любом языке, тебе ответят! Девушка оказалась образованной. Первоначальный замысел расстроился, Грандье смутился и умолк. Разумеется, это нисколько не повлияло на конечный исход, потому что приговор был предрешен и, даже если бы демон Клер не знал по-гречески, весы Фемиды все равно остались бы в заранее определенном положении.
Но о внутреннем мире Грандье указанный эпизод говорит многое. Выдержав льющуюся на него со всех сторон брань, хотя хулители продолжали именовать его «владыкой» и «господином», он хладнокровно заметил: — Я не господин вам и не ваш слуга. И вообще не могу понять, почему, величая владыкой, вы так и рветесь схватить меня за горло?
Негодующие сестры вместо ответа на вполне резонный вопрос принялись разуваться, обрушив на голову ревнителя логики град увесистых башмаков. — Ну, демоны сами себя расковали! — издевательски рассмеялся узник, утирая с рассеченного виска кровь.
Шутника увели в тюрьму. Приговор был вынесен 18 октября 1634 года.
Грандье отказался от исповеди и отвернул лицо от креста, который сунул ему духовник-капуцин на месте казни. Магический меч — обоюдоострое оружие. И все же освященное авторитетом церковной иерархии, оно натворило значительно больше бед, чем в руках одиночек: фанатиков и безумцев, шарлатанов и простофиль. Претендуя на «надвременность-над-пространственность» и самонадеянно тщась навязать свою волю жестко детерминированным законам мироздания, магия уже по сути своей несет разрушительное и, как следствие, преступное начало. Совершенно интуитивно это понял пресловутый маркиз де Сад, увековечивший свое имя в столь малопривлекательном термине', как «садизм». Устами Брессака, героя романа «Новая Жюстина», он не без сожаления констатирует: «Что на самом деле можем мы совершить в этой жизни? Ответ прост. Все наши мелкие преступления против морали можно свести к немногому — извращениям и убийствам, случайным изнасилованиям или кровосмесительным связям; наши преступления против религии не более чем богохульство и профанация. Есть ли кто-либо среди нас, кто искренне может признаться, что в самом деле удовлетворен этими пустяками?
