Страница:
Поразительно чутко отреагировал Г. Р. Державин, уловив дух тревожного ожидания роковой развязки. Он, кстати, присутствовал на «мальтийской» коронации, о чем сложил и поднес к стопам самодержца надлежащую оду. Тлетворный воздух занемогшей в гнетущем ожидании столицы дышал истерией. Вместе с торжественной мессой, вместе с одеждами «века мушкета» и паладинами, бодро месящими чухонскую грязь, распространился магический флюид. В изысканном Павловске, на туманных полянах бессонного парка, погруженного в сыворотку белых ночей, взвились вдруг девять мальтийских костров. В «свод небес зелено-бледных» летели золотые искры. Исконное чародейство Европы вырвалось на просторы колдовской Иоанновой ночи. Отметим в памяти эти церемонии летнего солнцестояния, эти огни «великого шабаша», зажженные, однако, не для ведьм. Павел, которому оставалось менее двух лет жизни, словно предчувствуя, как сожмется роковое кольцо заговоров, вдруг истово поверил, что ритуальное пламя защитит от измены и злых умыслов.
Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся…

Он слепо бил наотмашь, сражался с духами, не отличая преданности от измены, и верил, верил в огни, на которых крестоносцы сжигали во дни оны свои окровавленные бинты. Нет необходимости вспоминать здесь о последних годах Павла. После его смерти «от апоплексического удара в висок», как остроумно была перефразирована официальная версия, существование ордена в России стало бесперспективным. Александр Первый наотрез отказался от гроссмейстерских мальтийских регалий, оставив за собой лишь титул протектора. В 1817 году орден объявили несуществующим в пределах Российской империи, а вскоре мальтийцы потеряли опору и в немецких государствах. В 1834 году капитул переехал в Рим, и с тех пор судьба ордена тесно связана с Ватиканом. Время от времени усилиями крайних реакционеров, вроде австрийского канцлера Меттерниха или прусского короля Фридриха-Вильгельма Четвертого, восстанавливались ненадолго отдельные приораты, но в целом братство влачило жалкое существование. Даже великие магистры перестали выбираться. Лишь в 1871 году маркизу Санта-Кроче был дарован прежний титул. Ныне орден превратился в пропагандистскую, исследовательскую и, главным образом, благотворительную организацию, распространяющую романтические, выхолощенные временем идеи средневековой мистики, потому что рыцари давно утратили боевой пыл и, стараясь не слишком упирать на слово «католицизм», порой обходят и понятие «христианство».
Это связано с тем, что сегодня кавалером или кавалерственной дамой ордена могут стать лица любого вероисповедания, в том числе и прежние недруги — мусульмане.
Сочетая противоположные качества: замшелость идеологии и гибкость на путях ее распространения, орден не слишком преуспевает в своих начинаниях. Быть может, он просто затаился и ждет, когда наступят более благоприятные времена. Ведьмы и сатанисты льют воду на его мельницу. Кто знает, куда качнутся качели общественного мнения, дойдя до крайней точки? Что, если люди, отшатнувшись от дьявола, вновь кинутся в спасительные объятия матери-церкви?
«Девять столетий!» — мысленно подсчитал я, выходя на шумную, мигающую вывесками магазинов Корсо.
Нет, не только на улицах Вечного города смешались и перепутались времена…
Права старинная английская поговорка:
What is hits is hystory, And what is mist is mystery. (Что в цель попало, то история, А где туман, там тайна.)
Собственно, мы и приближаемся сейчас к средоточию тайны. К ядру «беззаконной кометы», как образно сказал поэт, которая недобрым вестником вспыхнула во мраке позднего средневековья. Оставленный ею мистический шлейф наложил неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую историю.
Меч и роза
О, как рана сердце жжет!
Прямо в розу на груди
Тот удар меча пришелся…
Александр Блок, «Роза и Крест»

И все же, если бы мне пришлось выбирать заставку к повествованию об альбигойской ереси, я бы выбрал пламенную розу, а не бледную мистическую лилию. Не объятый пламенем эшафот, но сердце, сжигаемое в любовном огне.
Перелистывая пергаментные страницы старинных рукописей, мы возвращаем прошлое, вызываем к жизни умолкнувшие звуки, отблеставшие краски. И чужая печаль проникает нам в душу, чужие восторги кружат голову сумасшедшим неизведанным хмелем.
У каждой эпохи своя цветовая гамма, своя мелодия. Случается, что торжественные хоралы и мессы легко заглушает скабрезная песенка, а нежная лютня перекрывает гулкие вздохи органов.
Тысячелетие, условно разделившее античность и новые времена, с трудом умещается в прокрустовом ложе, традиционно именуемом средними веками. Поэтому, не «растекаясь мыслию по древу», мы вновь сосредоточим наше внимание на куда более узком и, главное, хронологически очень четко вычлененном периоде — эпохе крестовых походов. Но на сей раз мы не последуем за рыцарской молодежью, увлеченной непостижимой мечтой. Не терновник, а розовый куст с его геральдической и оккультной, как вскоре увидим, символикой влечет нас на западный берег Средиземного моря.
Аскетическое умерщвление плоти? Мрачный фанатизм и невежество? Ужас перед адскими муками и постоянное ожидание Страшного суда? Да, всем этим действительно бредила замершая в ожидании вестей от крестоносцев Европа. Но ведь было и нечто совсем иное. Полнокровная жизнерадостность, утонченная роскошь, куртуазная изысканность жестов и слов. Даже у задавленных барщиной, прозябающих в дремучем оцепенении крестьян бывали безмятежные часы, когда прелести земного бытия затмевали лубочные картинки «небесного блаженства».
Не только скрежет лат и свист рассекаемого мечами воздуха доносится из той невозвратной дали, не только жаркий треск костров опаляет лицо. Томительная любовная песня прорывается в похоронном звоне, пьянящее благоухание садов разливается над выжженным полем, пропахшим кровью и мертвечиной.
Пусть же ледяное оцепенение каменной кладки согреет дыхание выпеченных хлебов и ладони, натруженные ратной работой, задрожат от случайного прикосновения пальцев, исколотых тонкой иглой. i Здесь начало романтического недуга, упоительного любовного бреда, преобразившей мир мечты. Оно в соловьином безумстве, в журчании фонтана, в переливах росинок, зажженных луной. И все, о чем пропоет трубадур в этой душной, охваченной неизбывным томлением ночи, на века обретет емкость символа: кольцо, голубка, перчатка, балкон, кинжал, чаша, «жемчуг» зубов, «коралл» милых губок, «сияние» глаз…
«…Могло ли средневековье быть сплошным адом, в котором человечество пробыло тысячу лет и из которого это бедное человечество извлек Ренессанс? — писал академик Н. И. Конрад. — Думать так — значит прежде всего недооценивать человека, его силы, его труды… Готическая архитектура, зодчество и. скульптуры буддийских храмов, мавританские дворцы и сады, лучезарная эпоха трубадуров и миннезингеров, рыцарский эпос, жизнерадостные, брызжущие юмором народные фарсы. Средневековье — одна из великих эпох; в истории человечества». «Лучезарную эпоху» характеризуют невиданный расцвет лирической поэзии, науки и, главное, необратимый поворот к гуманизму, закрепленный впоследствии Возрождением. Быть может, эта вспышка в ночи была преждевременной, но, однажды воссияв, она оставила по себе неизгладимую память. Арно Даниеля, непонятного даже для иных современников, посвященных в таинства «веселой науки», Данте и Петрарка нарекут «Великим Мастером Любви». Дети своего времени, трубадуры а вслед за ними миннезингеры и ваганты отдали, подобно алхимикам, дань герметизму. В известном смысле они были объединены в духовно-рыцарский орден с особой ритуальной символикой но размытой, если только она вообще существовала, иерархией. Поэтому романтический титул «Великий Мастер Любви» означал нечто большее, чем проста возвышенный поэтический образ.
Другу напомни про данное мною —
Перстень заветный, застежку колета
И поцелуй в подкрепленье обета.
Гилъом де Бергедан
В старофранцузском «Романе о Розе» описывается сказочный замок, окруженный семью ярусами стен, увешанных разного рода эмблемами. Только перед певцом Любви, сумевшим разгадать и таинственный смысл, раскрывались ворота. Здесь можно увидеть явное указание на мистерию, с ее степенями посвящения и эзотерическим языком. Не случайно трубадуры узнавали друг друга по тайным знакам.
Олицетворением куртуазной поэзии был образ Прекрасной Дамы. Грациозно швырнув перчатку угрюмому аскетизму и ханжеству, трубадуры вознесли на небеса земную любовь с ее мукой и радостями и оживили любовь небесную жаркой земной кровью. Как и крестоносцы, которые, посвятив себя пречистой деве, избирали еще и даму сердца, трубадуры венчали свою Донну двойной короной. Один золотой обруч возлагали на прелестное чело владычицы дум, другой олицетворял возвышенную философскую идею Вечной Женственности. Пройдут столетия, и сияние этих венцов озарит Владимира Соловьева и Александра Блока.
Религиозному символизму, даже если речь идет о внеисповедальной «Религии Любви», присуща условность. Образный строй трубадурских альб и кансон, низведенный затем до уровня штампа, предполагает безмерное преувеличение и силы чувства поэта, и совершенств его Донны. Это дань куртуазной игре, придворному этикету, требовавшему от вассала ритуального поклонения Первой Даме, как правило жене сеньора. Но как нарастает пьянящая волна, как розовеет она живой кровью сердечных ран!
Лицезрел обожаемый образ, прославленный трубадур Гильом Де Кабестань чувствует райское блаженство, улыбка любимой для Рамбаута д'Ауренга прекраснее ангельской, а Пейре Де Видалю уже мнится лик божества. Дальше — больше: рядом с Донной не остается места Для бога.
Владычица любовь, трубадурская finamor, смеясь, разбивала сословные преграды, как цветочные цепи, разрывала феодальные узы, подтачивала символы веры. Перед ее божественной властью все были равны: и сын пекаря Бертран де Вентадорн, и знатнейший из знатных сеньор Гильом, девятый герцог Аквитании и седьмой граф Пуату. И оба одинаково гордились званием трубадура, странствующего рыцаря Донны Любви.
Гильом не страшится расплаты и не уповает на небесное блаженство. Если он и сожалеет о чем-то, то лишь о бренности человеческой жизни.
Я ради наслаждений жил,
Но бог предел мне положил.
Близится к концу сверкающий карнавал. Покинув освещенные залы, вереницы гостей исчезают в темных аллеях сада. За позолоченной маской ритуальной символики возникает задумчивый лик странника-трубадура, проскользнувшего через ворота в очарованный замок. Юный паж, кого ласково и игриво поманила когда-то Любовь, он внезапно увидел свое отражение в зеркале пруда и понял, что стал совершенно седым. Отнимая занемевшую руку от раны, он ждет последнего посвящения, а где-то рядом, обагрив Белую Розу последней капелькой крови, умолк пронзенный шипом соловей. «Я не думаю, что Любовь может быть разделенной, ибо, если она будет разделена, должно быть изменено ее имя», — оборвав струны, бросит в бессмертье трубадур Арнаут де Марейль. Преувеличенное восхваление Донны — еще не ересь, а только опасная блажь, но постижение общечеловеческих истин открывает дорогу к безбожию. Пейре де Барджак склонился над водным зеркалом и убрал с груди окровавленную руку:
Продолжая служить возвышенной идее, он развенчивает кумир и порывает обеты. И как порывает! С каким кристальным, с каким возвышенным благородством! Для рыцаря — храмовника, госпитальера — такое было бы немыслимо. Утрата божественного символа означала и отказ от самого божества. Получая плащ с крестом, рыцарь навеки связывал себя с орденом и небесной его патронессой. Свободомыслие — беспокойный, в полном смысле этого слова сжигающий дар. Оно неотделимо от обостренного ощущения своего человеческого достоинства. Пейре Карденаль, усомнившись однажды в моральной правомерности официально прокламируемого миропорядка пойдет в своем свободомыслии до конца.
Лишь позовите — и помощь подам
Из сострадания к вашим слезам!
Платы не надо — ни ласк, ни речей,
Даже обещанных вами ночей,
Что, вопреки вашим нежным словам,
Не удосужились вы подарить, —
За вероломство не стану корить,
…
С просьбой пришел я — меня отпустить,
Вот и порвется последняя нить.

Пускай мои стихи меня спасут И от кромешного избавят ада! Я господу скажу: «Ужели надо, Перетерпев при жизни столько бед, В мучениях держать за все ответ?»
Поднимаясь по золотым ступеням постижения истины, философ-трубадур осознает свою теургическую власть и божественное право поэта ниспровергать ложных идолов. С присущей средневековью универсальностью он нанесет удар сразу по всей структуре феодального общества.
Детство и юность Карденаля, который родился около 1225 года, опалили жестокие альбигойские войны, приведшие к опустошению Прованса и Аквитании. Певцы Любви, паладины «веселой науки» стали яростными обличителями католицизма и застрельщиками народного возмущения. Трубадуров и альбигойцев соединило общее горе, спаяла ненависть. Они пели одни песни, бились спина к спине и горели на одних кострах.
Наш император мнит,
Что всюду он царит,
Король свой трон хранит,
А граф владычит с ним
И с рыцарством своим, —
Поп правит без парада,
Но поп неодолим…
Летит над остывшим пепелищем сирвентёс Гильома Фигейра, пробуждая скорбное эхо. Пора и нам в Лангедок на Поле мучеников, где стоит теперь строгий белый обелиск. Лангедокское графство простиралось от Аквитании до Прованса и от Пиренеев до Керси. Его сюзерены, династия графов Тулузских, были настолько могущественны и богаты, что их часто называли «королями юга». Но если на севере все еще исповедовали католичество, то во владениях графов Тулуз ских все шире распространялась опасная ересь, таинственными путями проникшая во Францию из далекой Азии. Альби, Тулуза, Фуа, Каркассон — повсюду множилось число тех, кого назвали потом катарами («чистыми» по-гречески) или альбигойцами, поскольку впервые они заявили о себе именно в Альби. «Нет одного бога, есть два, которые оспаривают господство над миром. Это бог добра и бог зла. Бессмертный дух человеческий устремлен к богу добра, но бренная его оболочка тянется к темному богу» — так учили катары. В остроконечных колпаках халдейских звездочетов, в черных, подпоясанных веревкой одеждах, пошли они по пыльным дорогам Лангедока, проповедуя повсюду свое вероучение. Это были так называемые «совершенные» — подвижники веры, принявшие на себя тяжкие обеты аскетизма. Остальные же лангедокцы жили обычной жизнью, веселой и шумной, грешили, как все люди, и радовались жизни, что не мешало им благоговейно соблюдать те немногие заповеди, которым научили их «совершенные». Одна из этих заповедей — основная: «Не проливай крови». Это была ересь! Опасная во все времена, она, быть может, еще более страшила сильных мира сего, чем сама доктрина катаров. Впрочем, они неотделимы друг от друга. Символ веры и образ жизни. Мир существует вечно, учили катары, он не имеет ни начала, ни конца… Земля не могла быть сотворена богом, ибо это значило бы, что бог сотворил порочное… Христос-человек никогда не рождался, не жил и не умирал на земле, так как евангельский рассказ о Христе является выдумкой католических попов… Крещение бесполезно, ибо оно проводится над младенцами, не имеющими разума, и никак не предохраняет человека от грядущих грехов… Крест не символ веры, а орудие пытки, в Риме на нем распинали людей.
Рим! Держи ответ,
Не жди себе прощенья.
Конечно, этого было вполне достаточно, чтобы поднять христианский мир на крестовый поход против страшной заразы, идущей с юга. Благо интересы церкви здесь целиком сходились с тайными устремлениями французских королей. Ведь и Филипп Второй Август и Людовик Восьмой давно уже точили зубы на богатое Тулузское графство, которое было бы так славно присоединить к королевскому домену. А тут еще говорят, что Раймунд Шестой граф Тулузский — еретик, не признает католических таинств, отрицает святую троицу, ад и чистилище, а земную жизнь именует творением Сатаны. Чего же, кажется, лучше? Не пора ли созывать баронов? Трубить в поход? Но Рим почему-то медлил с началом похода, и на то были свои причины. Одна из них, скорее всего, заключалась в том, что катары очень скрытно проповедовали свое вероучение. Шпионы великого понтифика не могли ответить даже на самые простые вопросы владыки. Каковы обряды альбигойцев? Где они совершают свои богослужения и совершают ли они их вообще? Нет, ничего достоверного узнать о катарах не удалось. Может быть, виной тому был простой и очень человечный принцип: «Tura per jura, secretum prodere noli!»- «Клянись и лжесвидетельствуй, но не раскрывай тайны!»?
Но чем менее известно было о новой ереси, тем страшнее она казалась.
«Катары — гнусные еретики! — проповедовали католические епископы. — Надо огнем выжечь их, да так, чтобы семени не осталось…»
Папа Иннокентий Третий послал в Лангедок своего доверенного соглядатая — испанского монаха Доминика Гусмана, причисленного впоследствии к лику святых. Доминик, основавший по сей день существующий орден, вознамерился противопоставить аскетизму «совершенных» еще более суровый аскетизм с самобичеванием и умерщвлением плоти, но это вызывало только смех. Тогда он попытался победить еретических проповедников силой своего красноречия и мрачной глубиной веры, но люди больше не верили в спасительную силу пролитой на Голгофе святой крови.
Фра Доминик покинул Тулузу, глубоко убежденный, что страшную ересь можно сломить только военной силой. Вторжение стало решенным делом. Личной буллой великий понтифик подчинил недавно учрежденную святую инквизицию попечению ордена доминиканцев — псов господних.
После убийства легата Пьера де Кастелно в 1209 году римский первосвященник провозгласил крестовый поход, и христианнейший король Филипп Второй Август, развернув орифламму, [6]двинул к границам Лангедока закованных в сталь баронов и армию в 50 тысяч копий.
Предводитель крестоносцев Симон де Монфор, чьим фамильным знаком был серебряный крест, не щадил ни стариков, ни детей.
Умирает Иннокентий, и конклав кардиналов избирает нового папу; три короля сменяются на французском престоле, а в Лангедоке полыхает пламя восстаний, вызванных карательной экспедицией. Покоренные и униженные жители Тулузы, Фуа, Альби и Каркассона вновь и вновь берутся за оружие во имя бессмертных заповедей «совершенных», Только через полвека головорезам вроде Монфора удалось утихомирить опустевшую, дымящуюся страну.

В одном лишь Безье, согнав жителей к церкви святого Назария, каратели перебили 20 тысяч человек.
«Святой отец, как отличить катаров от добрых католиков?» — спросил однажды какой-то солдат папского легата Арнольда да Сато, сопровождавшего воинство Монфора. «Убивайте всех: бог узнает своих!»-ответил легат, и слова его навечно вошли в историю… [7]
Безье горел три дня; древний Каркассон, у стен которого катары дали последний бой, был наполовину разрушен. Последние «совершенные» с остатками разбитой армии отступили в горы и заперлись в пятиугольных стенах замка Монсегюр. Это была не только последняя цитадель альбигойцев, но и их святилище.

Стены и амбразуры Монсегюра были строго ориентированы по странам света и, подобно Стоунхенджу друидов, позволяли вычислять дни солнцестояния. Среди защитников крепости, возведенной на вершине горы, было всего около сотни военных. Остальные не имели права держать оружие, ибо в глазах «совершенных» оно являлось носителем зла. Но и сотня воинов целый год противостояла 10 тысячам осаждавших крепость крестоносцев. Все же силы были слишком неравны. Объединившись вокруг своего престарелого епископа Бертрана д'Ан Марти, «совершенные», последние маги, философы, врачи, астрономы, поэты готовились принять мученическую смерть.

Однажды ночью крестоносцы втащили на крохотную скальную площадку тяжелую катапульту и забросали замок камнями. Эти каменные ядра и сейчас лежат у разбитых стен Монсегюра… В марте 1244 года Монсегюр пал, а спустя несколько дней 257 уцелевших после штурма катаров взошли на костер. Но четверо «совершенных» спасли главную катарскую святыню. Спустившись с заоблачных круч Монсегюра, они тайно унесли свои неведомые миру сокровища. В протоколе допроса, который был учинен под пыткой коменданту крепости Монсегюр Арно-Роже де Мирпуа, значится: «Бежавших звали Гюго, Эмвель, Экар и Кламен. Это были четверо «совершенных». Я сам организовал их побег, они унесли с собой наши сокровища. Все тайны катаров заключались в этом свертке». Крестоносцы спешно снарядили погоню, но беглецы как в воду канули.
Уцелевшим воинам, оборонявшим Монсегюр, обещали жизнь, если они отрекутся от ереси и признают святые таинства, троицу и папу — наместника святого Петра. Тех, которые отказались, тут же повесили, остальные же, став на колени, заявили о своем отречении. Тогда какой-то монах распорядился привести собаку и стал поочередно совать альбигойцам нож, чтоб испытать, насколько тверды они в своем отречении. Но ни один из них не взял греха на душу и не напитал землю кровью невинной твари. Тогда их всех повесили на ветках дубов. Рыцарю де Мирпуа в тот момент, когда палач ломал ему кости, довелось увидеть в последний раз наставника «совершенных» епископа Бертрана д'Ан Марти.
Он стоял у столба со связанными за спиной руками, обложенный поленьями и хворостом, а белые волосы его тихо шевелились под ласковым весенним ветерком. Мелькнули суровые, измученные лица «совершенных», сквозь темный частокол копий блеснули шлемы и кресты построенных в каре христовых воинов. Потом все потонуло и исчезло в дыму.
Кольцо змея
Белую лилию с розой, С алою розой мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой Вечную истину мы обретаем.
Вещее слово скажите! Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите Новыми кольцами древнего змея.
Владимир Соловьев, «Песня офитов»
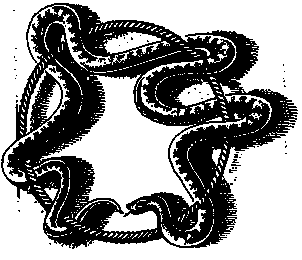
Отголоски взрыва, потрясшего христианство, мы различим не только в квазинаучных построениях оккультизма, в учениях алхимиков, розенкрейцеров и обрядной символике позднейших масонов. Все без исключения области мистики, будь то альбигойский ритуал, современное колдовское шоу или протонацистская мистика, несут на себе выжженное клеймо герметического тигля, в котором клокотал и бился неукротимый металл. Прежде чем взорвать хрупкие оболочки и растечься по извивам неведомых русел, это «яйцо философов» пять веков вызревало в Александрии — постоялом дворе ученых, мудрецов древнего мира. Гностики взлелеяли идею вечной, невидимой и неизвестной сущности, изначально не способной к покою. Излучаясь и заполняя Вселенную, она творила реальности бытия, терявшие свое совершенство по мере удаления от гипотетического центра. Как и у прочих религиозных систем, у гностиков тоже была основная триада. Олицетворенная абстрактными понятиями материи, демиурга и искушения, она обнимала собой в'есь космос: человека, его историю и окружающий мир. Высшие истечения, суть составные части и носители свойств божества, назывались зонами. Распределенные на классы по символическим, пифагорейским, законам чисел, они, подобно цветным стеклышкам в зеркалах калейдоскопа, слагались в «плерому» — совершенный узор абсолюта, названного «полнотой разума». Весьма характерно при этом, что гностический демиург, или, согласно неоплатоникам, высшая сила, создавшая мир, считалась последней и наименее совершенной эманацией такой «полноты». Отсюда присущая миросоздателю полярность, равное сочетание света и тьмы, добра и зла, силы и слабости. Человеческая душа рисовалась поэтому в образе пленника, заключенного в узилище несовершенного сотканного из противоположных начал мира. Страдающие, обремененные материей души мог освободить лишь искупитель — одна из высших ипостасей божественного разума, мирового! духа. Человечеству, как творению этого духа, было предначертано порвать оковы земного бытия, вырваться из косного веществен ного плена и вознестись к духов ной идеальной жизни. Отсюд и деление людей в соответстви с преобладанием в них материального или духовного начала на классы, точнее — на касты, иб границы мнились изначальн ненарушимыми. Земным суще вам предназначалось сгинуть мраке невежества, «психикам предстояло возвыситься до пости жения демиурга и лишь «пневматики» — люди духа — могли узреть божественный свет. Отсюда и трубадурская альба — песнь утреннего восхода и протянувшаяся сквозь времена лучезарная нить: «Золотой рассвет», «Восход», «Лучезарная заря» и т. д. Мы не раз еще столкнемся с этими символическими понятиями, как и с духовной дискриминацией по отношению Я низшим кастам — порождениям тьмы. Извращенные толкователи, как известно, могут опорочить любую мысль. Само название «катар», что значит по-гречески «чистый», подразумевало духовность, но подлинно чистыми считались лишь «совершенные» целиком отдавшие себя служению идеалу. Впоследствии «чистыми» и «совершенными» назовут себя люди, крайне далекие от нравственного совершенства. Набиравшему силу христианству пришлось вести ожесточенную борьбу с религиозным синкретизмом гностиков, готовых с одинаковым усердием молиться всем богам. К концу II столетия первоначальная яркость «плеромы» стала понемногу бледнеть, но образовавшийся было вакуум мгновенно заполнился близкими к гностическим учениями неоплатонизма и манихейства. Таков был жар бушующего в александрийском горне огня, напряжение распаленной ищущей мысли.
